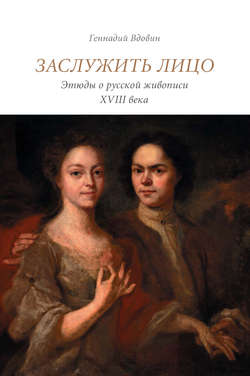Читать книгу Заслужить лицо. Этюды о русской живописи XVIII века - Геннадий Вдовин - Страница 3
«Приучаю к людскости», или задачи эпохи Нового времени в России
Вместо введения
ОглавлениеВек веку рознь. Век – не эра. Век – не этап. Век – не период. Век – не столетие. Он бывает длинен, бывает и краток, бывает и сокращен. В истории России явственно виден «короткий» XVII, длившийся разве что с 1613 года по 1696-й; почти «нормальный» XIX, занявший период с 1812-го по 1914-й; все еще неизвестный в окончании своем, все еще наш XX, ничуть не законченный мифическим 11 сентября 2001-го; долгий-предолгий XVIII, стартовавший в 1696-м и завершившийся если не 1812-м, то коллективным самоубийством в 1825-м…
В привычном слуху и давно набившем оскомину утверждении, будто эру Нового времени в России открывает XVIII век, есть и противоречие, и лукавство. А в постулировании более чем тысячелетней непрерывной истории страны – и невольная ложь дежурного камлания, и Minderwertigkeitgefuhl, будто бы еще римлянам не надо было перетерпеть цареву эпоху, со свету сжить этрусков, взять всю Италию, создать крепкую Республику, зиждить по всем Апеннинам великое государство, дабы наконец позволить себе перевести на латынь «Одиссею» и тем самым обусловить право внести свой, едва ли не первый вклад в то, что теперь привычно величается сокровищницей мировой культуры…
Русское Средневековье – тысячелетие без малого – давняя эпоха. А русское Новое время – наше вчера, если не нынешнее сегодня. В нем – наши беды и победы, разочарования и вдохновения, сокрушения и радости, прошлые ошибки и будущие глупости…
Мысль о России в XVIII веке, дума о родине на рубеже ее XVII–XVIII столетий, размышление о петровской эпохе и, стало быть, о «деле Петровом» и деле России далее – едва ли не самая тяжелая русская идея. И чем труднее, конфликтнее и путаннее время, которому стал обречен мыслитель в поза-позапрошлом веке, тем больше претензий и счетов у него к Петру: вопросов общих и личных, маргиналий на полях государственной скрижали и отрывных листках календаря личной судьбы… Не в каждом уже русском доме жительствует Спаситель, но во всех Петр Алексеевич – член семьи: любимый или проклятый, желанный или постылый, единственный или позорный. Даже для тех, кому Петр I – преступник, он – свой злодей; он – вернувшийся из зоны непутевый брат; он – загулявший, но единственный муж; он – вышедший из лагеря отец; он – возлюбленный блудный сын…
Наше Средневековье, как и все Dark Ages, не кончилось и завершится, судя по всему, ох как нескоро. Зато лишь три с небольшим столетия назад в страну пришло Новое время, незаконченное по сей час. Не отсюда ли субъективизм и пристрастность наших мнений? Не здесь ли личное суждение всякого русского, каждого славянина, любого россиянина, а не случайного европейца, не мимо шедшего евразийца и заинтересованного атлантиста, о Петре I и «Петровом деле»? И стало быть, традиционный спор «революционистов» и «эволюционистов» столь же парадоксален, как столкновение prolegomenia и adidakta. Он безысходен, как сшибка вышней неотменности теоцентрического постулата в его догмате абсолюта с теплокровным искушением антропогенного правила в будущности – принцип относительности. Он так же безнадежен, как состязания по-партизански выстроенных русских печек, оседланных Иванами-дураками, с организованными каре, окрыленными «петропавловством». Он столь же бессмыслен, как дискуссия теста – с железом, как ристалище квашни – с гвоздем, как полемика туеса – с рельсом. Он – ежедневное, ежеутреннее поднимание себя из тепла лежанки, из обволакивающего жара одеял и убаюкивающей неги перин. Он – разрыв объятия, размыкание губ, понуждение себя встать, выдергивание себя из небытия, избывание в себе родного, печного, неизменно дотридцатитрехлетнего Ильи Муромца. Он – печальная безнадежность сравнения долга предстояния с инициативой самостоянья. Он – печальное и необходимое прощание с теплым борисоглебским культом как идеалом безделия, безволия, отрицания творческих возможностей отдельно взятого «Я» на «территории страха и горя»…
Не от имени Петра I, а от имени первого решительного «Я» категорически заявляет не столько наш первый император, сколько главный и коренной в ответственности человек: «Тот свободен, кто не творит зла и послушен добру. Не сугублю рабство чрез то, когда желаю добра, ошурство[1] упрямых исправляю, дубовыя сердца хочу видеть мягкими; когда переодеваю подданных в иное платье, завожу в войсках и в гражданстве порядок и приучаю к людскости, не жестокосердствую; не тиранствую…»[2].
Не строя иллюзий о гуманности просветительских методов «а lá шоковая терапия» в исполнении Петра I, все же прислушаемся к этим важнейшим тезисам, якобы случайно переданным нам, словно бы праздным слушателям: «приучаю к людскости» – во-первых; и «кто не творит зла и послушен добру» – во-вторых. Это не прежний «борисоглебский» средневековый тезис: «или – или», «злой – добрый», «грешник – праведник». Это именно нововременной, «петропавловский», дихотомический, а не антиномический посыл: «и то, и это», «и так, и эдак», «и то, и сё»… В обороте «приучаю к людскости» заключен весь смысл петровских государственных усилий, реформ, преобразований и перемен.
А на рубеже XVII–XVIII веков и впрямь свершились кардинальные перемены в жизни всего русского общества и российского государства. Они глубоко перепахали отечественную действительность. Они в корне изменили лицо русского искусства, в частности и в особенности – живописи. Они и есть суть «великого метаморфозиса». Россия окончательно сделала свой выбор, вступив на уже проторенный, но еще не слишком истоптанный общеевропейский путь. И русская живопись встала перед лицом крайне трудных проблем: ей предстояло опубликовать Ego, предъявить обществу новорожденное «Я», «приучением к людскости» декларировать «персону» и перейти от иконы к картине, никак не забыв и не отменив первую, от парсуны – к портрету. Для этого перехода необходимо было воспользоваться опытом иных стран Европы, но вместе с тем найти новый способ выразить национальное сознание и свое самочувствование, не утратить традиции, пытаясь сохранить их уже не как жанровые привычки и отстоявшиеся формы, а как глубинные представления о мире и человеке.
Главным свидетельством такого развития традиции можно считать главенствующее положение портрета в живописи. Его исключительная роль среди жанров и специфика образного строя свидетельствуют, что от древнерусской иконописи в Новое время перешел никак не метод изображения (писать «светло и румяно»[3]), а представление о человеческом «Я» как отражении богочеловеческого начала, данного «на вырост» всему христианскому миру в щедрости тринитарного догмата.
Русская живопись XVIII – начала XIX века почти неизвестна возлюбленному социологами и статистиками некоему «среднему» европейскому зрителю. Она привычно и скромно меркнет среди двух великих «русских эпох», «открытых» Европой в начале XX столетия: величественного монумента древнерусской живописи и эзотерического «мобиля» русского авангарда. Между ними – будто пустыня. Так что же лежит посредине? Чем занята русская культура на протяжении столетия с лишним – с конца XVII до начала XIX? Какова ее задача в эту эпоху? Как нам эту эпоху определить?
* * *
Это начало Нового времени в России. Это эпоха Возрождения в ней. Это именно Возрождение, столь остро необходимое тогда, а вовсе не Преображение, в котором мы так нуждаемся ныне. Это зачин наших дней. Это наше реализованное Возрождение как несостоявшееся Преображение. Гордое слово «Ренессанс» во всем оглушительном блеске своего значения и неимоверном величии богоборчества не может иметь никакого отношения, как кажется поначалу, к XVII веку в Польше и Литве, к XVIII – в России и Португалии, ко второй половине XIX – в Латинской Америке и Японии, к началу XX – в Греции и Турции… Но если попытаться развести нейтральное и транснациональное понятие Возрождение с грандиозным итальянским понятием Ренессанс, имея в виду под эпохой Возрождения специфический по задачам этап начала Нового времени, переводящий культуру от средневековой проблемы «Бог и мы» к нововременной «Бог и Я»[4], а под Ренессансом – лишь частное стилевое выражение эпохи Возрождения только в некоторых странах романогерманской языковой группы (Италии, Франции, отчасти – Германии и Испании), то все встает на свои места: ясно, что каждая национальная культура переживает переход от Средневековья к Новому времени, т. е. свое Возрождение, в свое время и в своих стилевых формах.
Именно Возрождение – не как прежнее прирастание средневековой очевидности идей, а как новый революционный ментальный перелом в пользу идеи очевидности, выводящий на историческую сцену «человека понимающего и деятельного» не как вышнюю инициативу, а как суетную и волевую попытку увидеть и осознать мир наново, – переживает Россия с конца XVII по начало XIX века. И не вступая в уже трехсотлетний спор «либералов» и «почвенников», в дискуссию с теми, кто полагает деяние Петра кровавым и неестественным переворотом, и с теми, для кого работа первого русского императора – закономерное следствие всего предшествующего хода событий, заметим только, что современники и ближайшие потомки, западноевропейцы и соотечественники, так или иначе, сразу оценили величие и масштаб возрожденческого «дела Петрова».
Красноречива сама судьба метафоры «окна в Европу», «прорубленного» Петром Алексеевичем, – метафоры, набившей оскомину до того, что ее остроты и свежести нам давно уже не почувствовать. По горячим следам рожденная, как кажется, не то Дэвидом Юмом, не то лордом Чарлзом Калвертом Балтимором в 1730-е, ловко подхваченная и пересказанная Вольтером в середине XVIII века, талантливо срифмованная Александром Пушкиным в начале 1830-х, лукаво сославшимся на некоего, для русского читателя по сию пору почти мифического итальянского мыслителя «Альгаротти»[5], подхваченная и перетолкованная в качестве трюизма всей Европой XIX – первой трети XX столетия, мрачно трансформированная Уинстоном Черчилем в образ «железного занавеса» в 1946-м, чуть позже трагически воплощенная в «берлинской стене», сокрушенной и тем перешедшей в новый троп в 1989-м, она равно принадлежит Англии, Франции, Италии, России, Германии в качестве «своей» настолько, что давно стала хрестоматийной. Она привычна нам до того, что лень и подумать: а почему, собственно, окно?[6] Отчего не дверь, не ворота или даже не триумфальная арка или вовсе любой проем в преграде? Почему не глаз?[7]
Отбросив геополитические спекуляции, обратим внимание на то, что в реальности окном – этой трагикомической, проклятой и благословенной «дырищей» – стала в России картина, отразившая нового героя в новом мире во всех естественных и неестественных противоречиях боязливо самоуверенного «Я» в робко подающемся ленивом хронотопе. Рождается русский человек Нового времени, выделяющий себя из прежнего родового тысячелетнего «мы», создающий новую большую и большую Россию, в том числе и новую столицу – Санкт-Петербург; человек с особым складом характера, не схожим со средневековым отношением к жизни, другим людям, обществу, а прежде всего – к Богу. Это герой, предпочитающий рефлексии действие, по-иному осваивающий «дольний мир», устанавливающий персональные отношения с Первосущим, умаляющий, а то и пытающийся вовсе отменить посредников между ним и Господом. Новооткрытое, деятельное и продуктивное созерцание, необходимость постижения мира и субъекта в нем в новых логических категориях сталкивают «лицом к лицу» человека и предмет, человека и человека, распластывают изображения на плоскости холста, уподобляемого препараторскому столу.
С этой точки зрения можно сказать, что пришедшая на смену средневековой темперной новая масляная живопись с ее широчайшими возможностями материальной убедительности, «плотскости», корпусности, «живости» явилась в русском искусстве с главной целью: показать нового человека в новом времени, зафиксировать и продемонстрировать вставшее в прорубленном окне иное, уловить новорожденное «Я», в частности и в нелицеприятности «не́личи», и в «лиценачертании»[8].
Ведь исторически «Я» вторично по отношению к «ты». В начале «мое» – лишь предикат «другого»: это предысторическое время и Древность, где трагично лишь «мы», «они» и «Они». Далее «другое», «чужое» – уже предел, горизонт «своего», «образ своего в чужом», понимаемая и принимаемая немота своего немотствующего немца: это античность и особенно – Средневековье, где драматично сосуществуют лишь «мы» и «Он». Потом «другое» – не «чужое» и «иное», а возможное дополнение к «своему»: это Новое время, чреватое временем Новейшим, где «иное» – в пределе самоценно «по-своему», самодостаточно как «со-бытие» и «со-бытиё»[9], где в мучительнейшей триаде «Я – мы – Он» драгоценная нам «личность», борясь с политическими, экономическими, социальными и многими другими отчуждениями за свои права, будет отчуждена от собственного «Я»[10], а «страх – это другой». В этом плане очевидно, что живопись вообще, и портрет в особенности, – специфический нововременной инструмент освоения «другого», техника трансформации «чужого» в «иное», преображения «мы» и «ты», «вы» и «я», «Вы» и «Я».
Согласно общепринятой вёльфлинианской теории стиля, в XVIII веке русское искусство, следуя общеевропейской традиции, прошло через различные стили, усваивая поначалу идеи барокко, отчасти применив открытия рококо. Потом, надолго приобщившись к классицизму, испытывая воздействие сентиментализма, оказалось на рубеже XVIII–XIX столетий в преддверии романтизма. Конечно, куда последовательнее и ярче его эволюцию отразила архитектура, скромнее – скульптура, в меньшей мере – живопись. Что касается русской живописи, то в своем якобы имманентном развитии она делится на два больших этапа, внутри которых обычно отмечаются более мелкие подразделения (увы, чаще всего мы ими пренебрегаем): первая половина – середина столетия (приблизительно до 1760 г.) и вторая половина века, который сами насельники и очевидцы называют новым.
Заметим притом, что Новое время в России – это буквально новое время, новое летоисчисление, времятворение, поскольку указом Петра I в 1700 году был введен новый календарь: на смену средневековому месяцеслову, неторопливо отсчитывавшему время от сотворения мира, приходит суетливый общеевропейский численник, полагающий всякое начало от Рождества Христова; на смену ветхозаветному приходит новозаветное, древнему – современное, деревянному – каменное, коллективному – персональное…
Настойчиво выстраивая антиномии раннего Нового времени (сакральное – светское, царство – империя, древнее – модернистское и пр.[11]), мы невольно становимся жертвами пропагандистской риторики эпохи, сознательно и выспренно обострявшей ситуацию. А подлинный ментальный механизм всякого Возрождения – дихотомия и эмпатия – предлагал вместо прежнего ригоризма антиномии (или то – или это, или так – или так, или он – или я) гибкость выбора (и так – и не так, и так – и эдак, и то – и не то). И как бы старательно, согласно всем риторическим принципам и с использованием всех фигур, не противопоставлял бы в своих речах Стефан Яворский прежнюю историю Руси, подобную часам лишь с одной часовой стрелкой, новой России, схожей с хронометром со стрелкой минутной, ясно, что часовая стрелка дополняется минутной[12], и именно это диалектическое дополнение рождает новое время в России Нового времени. Время страны и культуры стало большим и большим и оттого-то – кратким, недолгим, сжатым, скупым, неласковым для растерянного человека.
Герои эпохи очень долго неуютно ощущают себя в этих новых обстоятельствах. Иное течение времени особенно остро чувствуют социальные низы, простаки, idiotes, люди вне пресловутой «культурной элиты», персонажи, не вписывающиеся в новую эру. И когда в пьесе «Гроза» А. Н. Островского, т. е. уже в середине XIX века, полтора столетия спустя, Феклуша жалуется на «малость» времени, это все еще жалоба прежнего средневекового человека на хрономанию Нового времени, ламентация «темных веков» по поводу возрожденческих излишеств «времябесия», кляуза допетровского человека на петровский и послепетровский хронотоп:
«Последние времена… По всем приметам последние <…> Уж и время-то стало в умаление приходить <…> Дни-то и часы все те же как будто остались; а время-то, за наши грехи, все короче и короче делается»[13].
И когда неизвестный художник конца XVIII – начала XIX века пишет «Аллегорию бренности бытия» (ГИМ), выстраивая, согласно заветам Дж. Арчимбольдо, свою, запоздалую по отношению к итальянской барочной традиции, картину-«перевертыш», он, русский аноним, не столько переживает барокко, не так печалуется о бренности бытия[14], сколько все еще конфликтует с иным течением Нового времени, где время персонального спасения и время общественного труда призваны слиться в единстве частной и коллективной жизни.
Сравнивая «Аллегорию бренности бытия» с картиной Г. Н. Теплова («Натюрморт "обманка"», 1737. МУО) или со схожим произведением неизвестного художника («Натюрморт-"обманка"», 1737. МУО), отметим азарт, с каким новый русский человек познает барочный эмблематический лексикон, не столько осваивая театр вещей[15], сколько играя знаками. Для нового молодого героя (а оба автора – студенты, салаги, школяры) свежо и остро звучат зашифрованные «моралите» о бренности земной юдоли и дольних удовольствий, представляемых тщательно выписанными конвертами с любовными письмами, «маринами», носовыми платками, чучелами птиц, ключами без замков etc.[16] Частое, а то и обязательное присутствие в этих композициях карманных часов – не просто следствие моды, а скорее знак того, что античный круг времени и средневековая стрела-вектор совместились в нововременной метафоре, в возрожденческом образе часов как стрелы в круге, как вектора с началом в центре окружности[17].
Как сложно осознать нам эту революцию рубежа XVII–XVIII веков, как трудно почувствовать свежесть метафоры «окно в Европу», как мудрено услышать новизну понятия «живопись», не сменившего прежнее «иконопись», а ставшего жить рядом, параллельно. «Живопись» в идеале подразумевала писание нового бытия живьем, как оно есть, вплоть до обмана, подразумевая потрясение всех чувств. И трагизм стиля барокко в России, решающего задачи эпохи Возрождения, выражает это предметное видение мира наново. Ведь «барокко не только архитектурный стиль, не только новый принцип в искусстве. Это целая эпоха в истории нравов, понятий и отношений, феномен не только эстетический, но и психологический. У барокко были не только свои церкви и дворцы, у него были свои люди, своя жизнь <…> Религиозный пафос и страсть к обилию украшений сочетались как в искусстве, так и в жизни. Повсюду наплыв преувеличенных эмоций, опрокидывающих всякое спокойствие и опрокидывающих всякое равновесие. Повсюду слишком пышное воображение, одинаково волнующее архитектурные линии и человеческие биографии. Свет и тени прихотливо дробятся на кривых поверхностях церковных фасадов и в разнообразии судеб и характеров»[18]. Так писал почти столетие назад один из самых проницательных наших историков искусства, толкуя нам, что стиль – не формула, не человек, не таблица, не алгоритм; что стиль – это поле всепроникающее и всеотсутствующее, повсеместное и неуловимое; что стиль – не столько «pret-a-porte», сколько «pret-a-porne».
Т. Н. Теплов
Натюрморт-«обманка». 1737
Музей-усадьба Останкино, Москва
Неизвестный художник
Натюрморт-«обманка». 1737
Музей-усадьба Останкино, Москва
Не отсюда ли, не от неожиданности ли «наплыва преувеличенных эмоций, опрокидывающих всякое спокойствие и <…> всякое равновесие», безжалостно высвечивающих как почтенные седины, так и благородные морщины наравне с бородавками и родимыми пятнами, растерянные лица первых русских портретируемых, словно застигнутых врасплох, будто пойманных на месте преступления, освещенных, кажется, внезапной вспышкой неведомого прежде света, сообщающих запечатленному, по меткому слову Н. С. Лескова, «позу рожи»?.. Ни бурные биографии, ни великие, пусть и в курьезности своей, чины, ни короткость со всемогущим государем, ни немолодые годы персонажей серии портретов, получившей название «Всейшутейший всепьянейший собор…» (Неизвестный художник начала XVIII в. Портрет А. Василкова. ГРМ; Неизвестный художник начала XVIII в. Портрет А. Н. Ленина с калмыком. ГРМ), не спасают их от испуга перед ситуацией портретирования, хотя очевидно, что и безвестные портретисты напуганы не менее изображаемых. К «запаздывающему», по сравнению с «образцовой» романо-германской моделью, открытию «Я» тяжело мостится еще и общеевропейский, барочный, «чувственный наплыв» на Русь «преувеличенных эмоций». И первые наши портретируемые подобны не столь пораженным оглушительной новостью персонажам гоголевского «Ревизора»[19], как младенцам у зеркала. Они – впервые портретируемые и едва полугодовалые, – даже если улыбаются, то иному, а не себе, и не тебе, и не нам. Сама мимика и тех, и других лишена обратной связи: в ней нет и намерения изменить лицо, дабы проверить, как оно отразится. Выражение лица и лица отражение, привычно и легкомысленно обозначаемые нами как «внутреннее» и «внешнее», как «быть» и «казаться», нигде еще не пересеклись, никогда прежде не встретились, взаимно никак не определились. Это общий испуг, это боязнь, властвующая повсеместно, в разных культурных и социальных слоях, в разных жанрах и видах искусства России раннего Нового времени. Неслучайно историк театра, например, утверждает: «Школьный театр, все же не уверенный в себе, ощущающий шаткость своих позиций, искал в обряде поддержки, доказывая, что он существует не зря, что он не потеха и не забава, а серьезное искусство, связанное с религиозным обрядом»[20]. А мы, снисходительно улыбаясь просьбе Бобчинского («Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский. <…> Бобчинский. Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский»), отдадим себе отчет в том, что он, подобно петровским героям с «двухголовыми лицами», опасливо заявляет о себе.
Осторожный театр?.. Боязливый портрет?!. Осторожны актеры, растерянны зрители, боязливы портретируемые, робки портретисты, страшно всем, все смущены. Испуган русский человек: устрашен приказом не столько властного государя, как самой суровой эпохи, громогласным и пронзительным, сухим, как выстрел, окриком: «Выйти из строя!» Это не равно опасные и искренние вопросы первых Романовых: «И кто возьмется?». Это не деликатные вопросительные предложения эпохи Алексея Михайловича: «Ну, и кто первый?». Это команда петровского времени: она грозна, страшна, неумолима и неотменна…
«Всешутейший всепьянейший собор…»
Неизвестный художник начала XVIII в.
Портрет А. Василкова
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
«Всешутейший всепьянейший собор…»
Неизвестный художник начала XVIII в.
Портрет А. Н. Ленина с калмыком
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
* * *
Становление «Я», публикация Ego – глубочайшая психологическая и ментальная перемена в России рубежа XVII–XVIII столетий, революция для избранных, в действительности длившаяся целый XVIII век и все XIX столетие, ежели и не XX – для «простецов»[21]. И когда сейчас у входных ворот музея-заповедника Ясная Поляна слышим ответ местной жительницы, продающей яблоки, милиционеру, заподозрившему ее в опустошении музейных садов («Я, милок, сама подле графа живу, и яблок у меня обилие. А Вас, гражданин начальник, такой навет не ли́чит!»), удивимся тому, что многое завершилось, но ничто не кончилось: ни Гражданская война с советскими последствиями («гражданин» – из XX в.), ни барство-крестьянство во всех противоречиях («граф» – из XIX в.), ни дихотомия допетровского – петровского («ли́чит» – из XVIII столетия).
Процесс выделения «Я» из «мы» тотален, и потому следы его мы найдем не только в изобразительном искусстве. Ясно, что разбиение текста на точно очерченные предложения, становящееся общим правилом лишь с конца XVII века[22], а, главное, явление неографем (особенно строчной и прописной букв и финальной точки) – очевидная параллель портрету с его развернутым во времени, имеющим начало и конец высказыванием. Речь эта осторожна, и русское «Я», даже став с начала XIX столетия романтическим и постромантическим, писаться с заглавной, в отличие от прежнего немецкого «Ich» или английского «I», все равно никогда уже не станет[23]. Однако важно то, что живописная риторика и формы записи вербального следуют одним принципам, и это не прежний, пусть даже дружный хор, но ответственный персональный монолог. Быть может, для того и была предпринята петровская реформа алфавита, письма и шрифта как особой совокупной драматургии знаков в их семантической взаимосвязи[24], чтобы монолог от первого лица состоялся. И может быть, как ни странно это нам, самодовольным, что чтение «про себя» или умение считать «в уме» – совсем недавние (XVII – начало XVIII в.) психотехники, на овладение которыми ушло в Европе немало времени (довольно вспомнить читавшего «про себя» Августина, который все никак не дослужится в православии от «блаженного» до «святого», или «нашего» Аввакума, обладавшего тем же умением вкупе с искусством счета «в уме», поражавшим современников, или царя армянского Арфелиона из «Акта комедального о Калеандре…», «про себя» читающего «великая вещ»), – начали становиться обыденностью именно в исполнении «персоны»[25].
Для персонального этапа становления «Я» в русской культуре, вычленения «Я» из «мы», разделения первого и второго и лада двух способностей, определяющих новоевропейский индивидуум, – «способности накладывать отпечаток на всеобщее» и «полного соотнесения с этим всеобщим»[26] – очевидна актуальность отделительных знаков препинания. В этом смысле всякое запечатленное лицо – период как совокупность точки и прописной буквы, как сумма необходимого и достаточного условий персонализации. Иными словами, окончательное правило – конец предложения с точкой, при том что она же вкупе с заглавной буквой следующего предложения – обособление речи известной персоны[27].
1
У всеспасительного для историков В. И. Даля читаем: «Ошу́рки <…> вытопки сала, выварки, вышкварки; подонки при скопке масла; избоина, макуха, перегноенная на мыло; вообще, остатки, подонки, поскребыши, оборыши, крохи <…> Ошу́рковый обед <…> состряпанный, на другой день после пира, из остатков» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. СП6.; М., 1881. С. 779).
2
Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб., 1891. № 121. Здесь и далее – курсив в цитатах (кроме оговоренных случаев) мой.
3
Послание Иосифа Владимирова Симону Ушакову // Мастера искусств об искусстве. Т. 6. М., 1969. С. 40.
4
О взаимодействии «сакрального» и «просранного» в России XVII в. см.: Бусева-Давыдова И. Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М., 2008. С. 135–195. См также.: Черная Л. А. Русская культура переходного периода от средневековья к новому времени (философско-антропологический анализ русской культуры XVII – первой трети XVIII века). М., 1999. Герой эпохи очень остро, персонально переживает встречу с христианскими святынями, увиденными им пронзительно, по-своему, даже если это пишется в почти публичном «Юрнале»: «В том городе [Магдебурге. – Вд.] видели церковь святого Маврикия <…> в той церкви пред олтарем камень круглый мраморный, на котором знать во многих местах, а больше в одном, зело явна кровь Удона епископа, который в ночь при явлении страшном на том месте казнен от Маврикия, той церкви патрона; в той же церкви лежит лохань, над которою Пилат руки умыл, исподняя доска фонаря, который перед Июдою несен, лестница, по которой ходили снимать Христа» (цит. по: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. 3. СПб., 1858. С. 596).
А вообще, набивший оскомину тезис «обмирщения» и «секуляризации» в русской культуре Нового времени, навязанный экономистами, политологами и социологами, принадлежащий к тем постулатам, которые, явившись раз, не подвергаются более критике в силу своей «очевидности», уж позволим себе рассмотреть чуть подробнее. Он быстро приобрел репутацию аксиомы, причем незыблемость его утверждали все. Обратившись конспективно к генезису этого тезиса в русской гуманитарной науке, отметим несколько принципиально важных обстоятельств.
Во-первых, вывод о «секуляризации» русской культуры во второй половине XVII–XVIII в. был сделан практически одновременно, в 1860-е гг., социал-демократической и клерикальной школами историософии.
Во-вторых, антагонизм двух этих традиций – мнимость. Обе использовали прием отбора и педалирования годных фактов при игнорировании негодных. Если одни рассуждали о сокращении культового строительства в это время, очевидно противореча реалиям, то вторые справедливо отмечали неуклонный рост этого строительства, предпочитая, в свою очередь, не замечать, что сам храм стал иным (в планиметрии, декорации, иконографии…). Если одни избирали символом эпохи Феофана Прокоповича, перечисляя заслуги и дарования которого, будто забывали, что он не литератор, не политик, не ученый, не философ, но священник прежде всего, то другие полагали таким символом Тихона Задонского, хранившего благочестие в суете и искушениях «столетья безумна и мудра». Если одни, сказать короче, вели счет победам, завоеваниям, обретениям светской культуры, то другие множили список утрат в сакрализованном тезаурусе. И те, и другие, механически перенося термин экономической истории, политической экономии, юриспруденции в историю искусства, ставили знак тождества между такими разными процессами, как «секуляризация монастырских земель» и «секуляризация культуры», констатировали убывание сакрального, умаление веры, приращение светского в России XVIII–XX вв.
Ясно, в-третьих, что обе историософские традиции разнятся не методом, но лишь оценкой процесса. К тому же обе школы не пересматривали идею «секуляризации» уже как полтора столетия. Единственная корректива была внесена в 1920–1930-е гг., когда пресловутые «вульгарные социологи» – самые агрессивные из наследников социал-демократии – поставили знак равенства между понятиями светское и атеистическое, с чем их оппоненты молчаливо и не без удовольствия согласились. Последний камень в устойчивую пирамиду теории секуляризации был положен представителями русской семиологии, которые в 1970-е гг. предложили интерпретировать оппозицию «сакральное – светское» как антиномию.
Ныне принятое позитивистское истолкование процесса, удобное как для обыденного, так и для научного сознания, позволяет менять полярность оценок в зависимости от политической конъюнктуры. Если прежде Петр Великий имел репутацию гонителя православия, то об эту пору его реноме меняется в противоположную сторону. Если позавчера Ломоносова рекомендовали как материалиста и безбожника, то сегодня следует припомнить, что образцом ученого Михайла Васильевич почитал Василия Великого, который «довольные показал примеры, как содружать спорные по-видимому со Священным писанием натуральные правды». Если недавно теорию «телесности души» Радищева надлежало выводить только из французских вольтерьянских философем, не принимая во внимание, что восходит она к св. Макарию Египетскому, то нынче модно поступать наоборот. Если в недавнем прошлом иконопись В. Л. Боровиковского была лишь маргинальным эпизодом творчества великого портретиста, то теперь, кажется, недалек час, когда перед нами предстанет иконописец, писавший портреты на досуге. Если вчера А. С. Пушкин слыл атеистом, тираноборцем, без пяти минут участником декабрьского мятежа, то сегодня перед нами встает образ законопослушного и христианнейшего поэта, не писавшего ни «Гаврилиады», ни «Что в имени тебе моем…», где поразительно сосуществуют любовная ламентация и неожиданная парафраза на «Книгу Судей…» («…что ты спрашиваешь об имени моем? оно чу́дно» [Суд. 13:18]). Понимая religio как связь коллектива и субъекта с Вышним, приходится признать, что исторически становятся и эволюционируют «мы» и «Я», с одной стороны, и представление о Божестве – с другой.
Итак, обе историософские традиции, по сию пору оказывающие решающее влияние на отечественную мысль (вне зависимости от того, рефлексируем ли мы это обстоятельство), согласились с тем, что нововременной процесс описывается при помощи антиномии «сакральное – светское», и, сделав, соответственно, ставку на один из ее полюсов, разъяли историко-культурный процесс на крайности правой веры и прогрессивного атеизма. Между тем чуть более пристальное знакомство с источниками не оставляет сомнений в том, что эпоха таковых крайностей почти не знает. Если говорить об атеизме, то даже те редкие случаи, что рассматриваются нами как безбожие – дело Я. Козельского, дело С. Десницкого, – могут быть «квалифицированы» как инаковерие, но никак не атеизм. Религиозность русских не устают отмечать едва ли не все путешественники и мемуаристы. Не может быть и речи об оскудении веры. Скорее, напротив, теологические вопросы особо актуальны. Иначе зачем бы, к примеру, Синоду несколько раз настойчиво повторять указы, предписывающие «всем светским людям, какого б оные звания ни были <…> запретить между собою <…> азартно (!) иметь диспуты и распри о Бозе и его всемогуществе, о Св. Троице, о Христе Спасителе, о Св. Писании и о всем, что до богопочитания касается». Самый краткий обзор состояния дел в XVIII столетии – когда каждый блистательный светский интерьер не забывают украсить образом и не одним, когда все светские люди «имеют диспуты и распри о Бозе», когда размах культового строительства – небывалый, когда миссионерская деятельность Православной церкви активна, как никогда прежде и никогда после, когда продолжают властвовать суеверия тысячелетней давности и просветителям еще и в 1786 г. приходится спорить с тем, что «к некоторым женам и девицам летают ночью огненные змеи, то есть воздушные дьяволы и имеют с ними плотское совокупление, отчего те женщины весьма худеют», когда горячие вольтерьянские головы, добывая из фекалий очередной, необходимый для получения философского камня элемент, не забывают назидательно заметить, что «нельзя быть хорошим химиком, отрицая физическую возможность Великого Деяния», – не оставляет сомнения в том, что ситуация не может быть описана при помощи механического противоположения «сакрального» и «светского».
В онтологическом же смысле постановка проблемы трансформации религиозного чувства через оппозицию (тем паче через антиномию) «сакральное – светское» по меньшей мере некорректна. Очевидно, что каждый этнос, каждая эпоха, каждый этос формулирует свое понятие о сакральном, институирует свои святыни и свой ритуал поклонения им. Х. Г. Гадамер в известной книге справедливо отмечал: «Достаточно лишь вспомнить значение и историю понятия светскости: светское повергается перед святыней. Понятие светского, непосвященного (профана) и производное понятие профанации, следовательно, всегда предполагает понятие священного <…> светскость продолжает оставаться сакрально-правовым понятием и может определяться только с точки зрения священного. Законченная, совершенная светскость – это понятие монстр» (Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 198–199). И в этом смысле ситуация в России Нового времени – это ситуация не оскудения веры, не торжества атеизма, но некоей трансформации религиозного чувства. Оставляя теологам и философам решение проблемы возможности развития во времени самой Первопричины, отметим, оставаясь в границах своей темы, что результат этой трансформации отнюдь не всегда предполагал воцерковление.
Еще раз: проблема всякого Возрождения – проблема становления будущей «личности». И речь идет не просто о новорожденном «Я», но о харизматическом Ego, уверенном в провиденциальном и непосредственном вмешательстве Высшего в свою судьбу. Примерам нет числа, но ограничимся двумя, крайними для эпохи Возрождения в России по хронологии, конфессиональному выбору, социальному положению. Таков Аввакум: «Как били, так не больно было с молитвою тою; а лежа, на ум взбрело: "За что Ты, Сыне Божий, попустил меня ему таково больно убить тому? Я веть за вдовы Твои стал! Кто даст судию между мною и Тобою?"» (Житие протопопа Аввакума им сами написанное и другие его сочинения. М.; Л., 1934. С. 89). Такова старуха Загряжская: «"Не хочу умереть скоропостижно. Придешь на небо угорелая и впопыхах, а мне нужно сделать Господу Богу три вопроса: кто был Лжедмитрий, кто Железная Маска и шевалье д'Еон – мужчина или женщина? Говорят также, что Людовик XVI увезен из Тампля и его спасли: мне и об этом надо спросить". – "Так Вы уверены, что попадете на небо?" – спросил великий князь. Старуха обиделась и с резкостью ответила: "А Вы думаете, я родилась на то, чтобы торчать в прихожей чистилища?"» (пит. по: Русский литературный анекдот XVIII–XIX вв. М., 1990. С. 192).
Именно этот, неизвестный доселе герой, харизматическое «Я», уверенное в провиденциальном вмешательстве в его судьбу, активное и деятельное чрезвычайно, предпочитающее теперь апофатическому богословию катафатическую теодицею, институциональной благодати – персональную харизму, мистическому опыту – опыт когициальный, аллегорезе как механизму мышления – силлогистику, открывает новые, неведомые доселе стороны вероучения, трансформирующие бытие. Возьмем на себя смелость конспективно отметить некоторые из этих новшеств.
Во-первых, чрезвычайный интерес вызывает тринитарный догмат, дискутируемый при всяком ментальном переломе, но особенно активно – при началах возрождений, когда в полном объеме встают данные в христианстве «навырост» идеи личности и богочеловеческого. Вот, к примеру, одно из самых радикальных антропометрических его толкований беглым монахом Геронтием, судимым Синодом в 1733 г.: «Кроме человека несть Бога, а Троица есть человек, то есть отец – ум, сын – слово, которым говорим, дух же исходен есть дыхание человеческое». Последствия нового возрожденческого тринитаризма далеки. Это и опыты нового богословия храма (особенно настойчивые, кстати, именно в церквах во имя Троицы). Это и портрет как ведущий жанр эпохи, который не мог бы состояться без идеи личности, данной Европе и России через тринитарный догмат. Новорожденное «Я» ищет пути и формы персонального спасения.
Во-вторых, отметим особую остроту ощущения того, что «царствие Божие внутри нас». Такого рода «протестантские» настроения не были прерогативой элиты. Достаточно вспомнить ересь Тверитинова, и под пыткой упорно отвечавшего на вопросы следователей, признает ли он Церковь и посещает ли храм, что «Я-де сам церковь», отвергавшего возжжение свечей, поскольку «Богу что в огне треба. Он-де сам всем свет дал». То же видим и во второй половине столетия, когда, например, некий беглый солдат Евфимий, два с лишним десятилетия (!) смущавший Поволжье и даже Москву, проповедовал, что он сам – «странствующая церковь». Нетрудно увидеть связь такого мирочувствования с новым обликом храма, с портретописью, с философией…
В-третьих, амбивалентность нового тезауруса, не изолированное, как прежде, не рядоположенное, как совсем недавно, а непосредственное, буквальное сосуществование «+» и «-», «греха» и «блага», «морока» и «добра» в каждой точке времени и пространства.
Наконец апофатическая теодицея и персонализированное благочестие, постоянно искушающие требованием явить чудо и желанием вложить персты, обусловили миметизацию русской культуры XVII–XVIII вв., победное шествие «живоподобия».
Все отмеченные черты, составляющие основу нового религиозного чувства и вызывающие дискуссии среди не одного поколения исследователей, могут быть, конечно, описаны при помощи такого термина, как «протестантизм», что не раз уже и предлагалось, тем более что аналогии протестантским взглядам можно найти порой почти буквальные. Однако такое решение проблемы вряд ли корректно, если сравнивать русский «протестантизм» с подлинным североевропейским, фундамент догматики и мировидения которого составляет все же тезис «личной веры» как единственного и достаточного условия спасения. Сколь ни соблазнительно отмечать протестантские настроения в России – от ереси «жидовствующих» до сегодняшних дней, – речь скорее следует вести о постоянном искушении «духом протестантизма», если воспользоваться терминологией М. Вебера, – «духом протестантизма», пережитом российским менталитетом как бы в снятом виде, духом протестантизма, испытывавшим, кстати, в Европе начала XVIII в. сильнейший кризис.
Речь, на наш взгляд, может и должна идти не о секуляризации культуры России XVII–XVIII вв. как о процессе отчуждения и попрания святынь, не об обмирщении как умалении сакрального, но о новом религиозном чувстве, о новом благочестии, о новой теодицее, оказывающих непосредственное влияние и на развитие искусства, и на искусствопонимание, и на культуру в целом. Вероятно, заменой скомпрометировавшим себя терминам «секуляризации» и «обмирщения» может стать почти забытое, но емкое и меткое словцо Р. де ла Бретона «рассуеверивание», которому вторит спустя два столетия М. Вебер, толкующий о «великом историке-религиозном процессе расколдования мира».
Стало быть, давно сложилась ситуация, когда корпус фактов вошел в безнадежное противоречие с прежним толкованием тезиса секуляризации, если не с самим тезисом.
5
Лишь в 1997 г. М. Г. Талалаем была поставлена точка в давнем споре об Альгаротти (Франческо Альгаротти. Русские путешествия / Перевод с итальянского, предисловие и примечания М. Г. Талалая // Невский архив. Историко-краеведческий сборник. Вып. III. СПб., 1997). Исследователь убедительно доказал, что цитированная и переиначенная фраза итальянца стала известна поэту по-французски (Там же. С. 235). Благодарю за ценные указания по этой теме Г. Ю. Стернина и М. Г. Талалая.
6
Слова «окно» и «икона» восходят к единому корню греческого «эйкон»: ср. – греч. éixóva, греч. éixèu (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 2007. Т. 2. С. 125. Библиографию об этимологии этих слов см.: Там же. Т. 3. С. 128).
7
В качестве псевдокурьеза, выдающего особую сакральность для русских понятия окна как всякого проема-в-преграде, приведем происшествие 24 декабря 1664 г., описанное Николаасом Витсеном – голландским путешественником, побывавшим в России в 1664–1665 гг. Он свидетельствует, в череде прочих суеверий русских: «В комнатах обычно имеются окошки, через которые мы ночью часто мочились; как-то через окно один из английского посольства справил свою нужду. Русские узнали об этом, а он сбежал; если бы его поймали, то зарубили бы. Это заставило нас остерегаться» (Витсен Н. Путешествие в Московию. 1664–1665. Дневник. СПб., 1996. С. 65). См. также ст. Л. Н. Виноградовой и Е. Е. Левкиевской в изд: Славянские древности. Т. 3. М., 2004. С. 534–539.
В том, сколь актуальна и поныне эта тема, убеждает, например, чтение современной русской прозы. Так, вдумчивая, волооко и зорко пишущая Ксения Голубович, с младогегельянским энтузиазмом строя антиномии и дихотомии, чреватые вожделенным синтезом, и строго выводя итог эмпатической пары «Россия – Сербия», звучащий приговором все еще импотентному панславизму, особо отмечает перегруженную славянскую семантику «проема-в-преграде»: «"В Сербии очень важны входы, – говорю я. Никогда не видела такого внимания ко входу. Не просто к дверям, а именно ко входу в них". – Ирина внимательно слушает. – "Да, мне нравится вход. А что важно в России?" – Я говорю с уверенностью: "Окна…" – и, подождав, пока не встанут на место нужные слова, говорю: "Сербия хочет войти, Россия – выйти". Я вспоминаю, что то место, через которое проходили сербы, прежде чем прийти на Балканы, они все так же мифологическим нутряным образом называют "врата народа". – "Да, это совсем другое", – соглашается Ирина. И – одно и то же, – думаю я, – потому что – всегда на пороге» (Голубович К. Сербские притчи. Путешествие в 11 книгах. М., 2003. С. 172). Не худо было бы вспомнить и о том, что во многих славянских культурах через окно и вперед головой выносят самоубийц, скоморохов и иных проклятых людей. И их же хоронят головой на восток.
Отметим, что именно с пушкинских времен в культуре России окончательно утвердилась антиномия «окно в Европу» versus «окно из Европы в Русь». Она имеет в виду противопоставление «смертоносного, чуждого» – «живому, своему». В «Медном всаднике» злая стихия внешнего, чужого, западноевропейского мира (стало быть, города имени императора Петра I) означена как движение извне внутрь: «…сердито бился дождь в окно». Образный вектор этот дублирован и не раз преумножен далее: «…и он желал / Чтоб ветер выл не так уныло / И чтобы дождь в окно стучал / Не так сердито…». И еще, потом: «Осада! Приступ! злые волны, / Как воры, лезут в окна». Угомонившаяся злая и враждебная стихия меняет гнев на милость через милостыню, и Евгений «питался / В окошко поданным куском»; но семантика движения извне внутрь константна, и герой оказывается теперь на улице, заглядывая внутрь, т. е. находясь по другую сторону окна-демаркации. Это амбивалентное и инверсированное «окно в Европу», точнее – «окно в Россию из Европы» находит свое дальнейшее развитие в письменной культуре.
Важно и традиционное фольклорное, с романтическим и, позже, символистским развитием, уподобление окна – глазу, окна – оку (читаем, например, у Даля: «дверь добра с ушами, а хоромина с очами» [Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. С. 664]). Традиционно амбивалентный и, стало быть, сдвоенный мотив в гоголевской огласовке троится на окно-око-смерть (вспомним хотя бы приказ Вия, после которого и воспоследовала гибель Хомы: «Поднимите мне веки, не вижу!»). Троица «окно-глаз-смерть» особенно активно работает в поэтических текстах символистов с начала XX в. Преизбыток их открытых и запертых окон задают круг смыслов от «акоммуникативности личности и мира» у ранних символистов до «общения душ» – у поздних (Ханзен-Леве А. Русский символизм. СПб., 1999. С. 102). Далее макабарное окно уходит работать в XX столетие. Б.Пастернак (из «Марбурга»): «Ведь ночи играть садятся в шахматы / Со мной на лунном паркетном полу, / Акацией пахнет, и окна распахнуты, / И страсть, как свидетель, седеет в углу». Или: «Как часто у окна нашептывал мне старый: "Выкинься"»; или: «А в наши дни и воздух пахнет смертью: Открыть окно – что жилы отворить»; того пуще: «И опять кольнут доныне / Неотпущенной виной, / И окно по крестовине / Сдавит голод дровяной»; про знаменитую «фортку» с не менее известным «тысячелетьем» писать попусту. А. Ахматова «окном» как частным случаем «проема-в-преграде» решает антиномию «угроза – смерть» («Все как раньше: в окна столовой / Бьется мелкий метельный снег…»; «Тихий дом мой пуст и неприветлив, / Он на лес глядит одним окном, / В нем кого-то вынули из петли / И бранили мертвого потом») и прямо сопрягает «окно» с Петром: «Мне не надо ожиданий / У постылого окна <…> Над Невою темноводной, / Под улыбкою холодной / Императора Петра»; «окно» же решает трагедию «Приговора»: «А не то… Горячий шелест лета, / Словно праздник за моим окном. / Я давно предчувствовала этот / Светлый день и опустелый дом»; то же повторится в «Распятии»: «И ту, что едва до окна довели, / И ту, что родимой не топчет земли…»
Развитие темы «окна в Европу» очевидно и в прозе – например в прозе XX в. Довольно припомнить хотя бы «Епифанские шлюзы» А. Платонова, где «окно» из единительной метафоры превращается в эмблему разъединения, «смотрение в окно», и, стало быть, пересечение границы чревато новью, но и смертью, будучи эквивалентом мифологической реки нижнего мира (Топоров В. Река // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982. С. 374–376).
8
По сути, то же происходит в отечественном театре, ведь «театр привел на сцену нового героя, теперь здесь действовал человек, а не его схема, от которой отделялись чувства, изображаемые аллегориями. Человек приобрел тело и душу, внешний облик и чувства, и имел право ими распоряжаться <…> Он стал равным самому себе» (Софронова Л. А. Российский феатрон: московский любительский театр XVIII в. М., 2007. С. 15), в отличие от прежней «неличи»: «Неличь ж. (от лицо) что невзрачно, неказисто, некрасиво, чего нельзя показать лицом. Неличь такая – товар его, что и глядеть неначто. Кляченка неличь, а неистомчивая! Нелицеприемный, нелицеприимный, – приимчивый, нелицеприятный, безпристрастный, правдивый, праведный; чуждый пристрастия, по уважению к лицу; правосудный, правосудливый» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 522). Равный, в потенции, равный самому себе человек и потребовал искусства «лиценачертания» (Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 460).
9
См. пролегомены к разработке науки о «чуждости» («ксенологии»?) по-русски: Бубер М. Я и Ты. М., 1993; Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о «чужом» // Логос. 1994. № 6; Недорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию (Материалы лекционных курсов 1992–1994 гг.). М., 1995; Делёз Ж Мишель Турнье и мир без Другого // Комментарии. № 10. М.;СПб., 1996; Недорога В. Двойное время // Феноменология искусства. М., 1996; Шукуров P.M. Введение, или Предварительные замечания о чуждости в истории // Чужое: опыт преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья. М., 1999. В разработке «ксенологии» (или «каллигаризма» все же, или «аллологии», наконец?) огромную роль сыграли два коллективных сборника: уже упомянутый труд «Чужое: опыт преодоления…» и альманах «Одиссей» (Образ «другого» в культуре // Одиссей. 1993. Человек в истории. М., 1994).
10
В самом деле, для Средневековья ужасное, непонятное, страшное – неотъемлемая часть реальности, а ангелы и демоны – такая же действительность, как сосед и родственник. Новое время и Возрождение, в частности, проводят решительную границу между непознанным и непознаваемым, особенно рьяно устремляясь к «Я» и «сверх-Я». В результате, борясь с политическим, экономическим, социальным и многими другими отчуждениями за свои права, мы получаем отчуждение «личности» от собственного «Я».
11
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII в.) // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 414. 1977; Лотман Ю. М. Динамическая модель семиотической культуры // Там же. Вып. 464. 1978; Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва – третий Рим» в идеологии Петра I. К проблеме средневековой традиции в культуре барокко // Художественный язык Средневековья. М., 1982.
12
Экспансия исчисляемого времени представляет собой одну из составляющих утверждения счетной парадигмы как основы городской культуры, развивающейся в культуре Нового времени (Живов В. М. Время и его собственник в России на пути от царства к империи // Человек между Царством и Империей. М., 2003. С. 18; см. также: Вдовин Г. В. Две «обманки» 1737 г. Опыт интерпретации // Советское искусствознание'24. М., 1988).
13
На то же жалуется сельский батюшка в «Господах Головлевых» М.Салтыкова-Щедрина: «Против всего нынче науки пошли. Против дождя – наука, против ведра – наука. Прежде, бывало, попросту: придут да молебен отслужат – и даст бог. Ведро нужно – ведро господь пошлет; дождя нужно – и дождя у бога не занимать стать. Всего у бога довольно. А с тех пор как по науке начали жить – словно вот отрезало; все пошло безо времени. Сеять нужно – засуха, косить нужно – дождик!» Жизнь «безо времени» – бытье в ином континууме, в иных хронопринципах.
14
Композиция картины организована таким образом, что лицо старика с текстом под ним, если холст перевернуть вверх ногами, превращается в череп, под которым находим продолжение стиха. Под стариком читаем: «Добр бех измлада и румян як шипок дозрелий. // И твои очи сладко тогда на мя зрели. // Ныне желт, худ и сух, як лист пред зимою: // Лихость мою точию крию бородою. // Еще же ныне как ни есть, но сладко ты на мя зрети: // Да и седин ради мусишь мя почтиты: // Что впредь со мною будет ежели не знаешь: // Обрат стремглав образ тотчас угадаешь». Под черепом: «О, теперь, як говорят, ни кожи ни рожи // Сам уже на кого похожий // Бя як не знаю ты мне образец наличный // Твой вид вскоре имать быть ничем неразличный. // Кто любит тя днесь той сам огидит тобою, // Кто чтит утро, череп твой попрет ногою».
15
Заметим, что и в театре той эпохи «четкого различения реквизита и декорации <…> еще не наступило» (Софронова Л. А. Российский феатрон… С. 29). О дефинициях между декорациями и реквизитом см.: Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Драма. М., 1968. С. 210; Лотман Ю. М. Семиотика сцены // Ю. М. Лотман об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления. СПб., 1998. С. 595.
16
Сборники символов и эмблем были чрезвычайно популярны на протяжении двух столетий истории отечественной культуры и, так или иначе, изучались непосредственно едва ли не всеми грамотными до начала второй половины XIX в., даже против их воли, будучи тотальным общим лексиконом. См., например, у И. С. Тургенева в «Дворянском гнезде» значимые детали биографии героя: «После смерти Маланьи Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее, боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса; он не смел пикнуть при ней; бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: "Куда? Сиди смирно". По воскресеньям, после обедни, позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича-Амбодика, под заглавием „Символы и эмблемы". В этой книге помещалось около тысячи частью весьма загадочных рисунков, с столь же загадочными толкованиями на пяти языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них, под названием "Шафран и радуга", относилось толкование: "Действие сего есть большее"; против другого, изображавшего "Цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту", стояла надпись: "Тебе все они суть известны". "Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка" означали: "Мало-помалу". Федя рассматривал эти рисунки; все были ему знакомы до малейших подробностей; некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение; других развлечений он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепьяно да, сверх того, отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы, тетки да старой сенной девушки Васильевны провел Федя целых четыре года. Бывало, сидит он в уголке с своими "Эмблемами" – сидит… сидит; в низкой комнате пахнет гораниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно, словно скучает, маленькие часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой скребется и грызет за обоями, а три старые девы, словно парки, молча и быстро шевелят спицами, тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные, также полутемные мысли роятся в голове ребенка».
Обратим внимание на то, как Тургенев сам создает эмблематический натюрморт с goranium – будущей всероссийской геранью, от хлопотливых голландцев еще и знаком домовитости, – с настенными часами, символизирующими скоротечность земного времени, с мышью, исподволь подтачивающей все мнимо незыблемое, со скучным сверчком, неутомимым певцом «суеты сует», с едва горящей свечой, работающей здесь в двух смыслах – и как эмблема знания-просвещения, и как знак любви, – и наконец, с прямо названными парками, «тремя старыми девами», сучащими нити судеб и плетущими их в единый покров бытия. Закономерно, что созданная писателем назидательная картинка завершается короткой фразой – эмблематическим девизом: «Горе сердцу, не любившему смолоду!», предвосхищающей и судьбу Лаврецкого, и финал всего «Дворянского гнезда».
17
Заметим, кстати, что для русского человека новостью было даже не обретение часами минутной стрелки, т. е. не сама возможность делить час на более мелкие отрезки, а еще более то, что подвижные стрелки вращаются вокруг неподвижного циферблата. Все тот же Николаас Витсен с удивлением писал: «Часов у них мало, а где таковые имеются, там вращается циферблат, а стрелка стоит неподвижно; она направлена вверх, показывая на цифру вращающегося циферблата». Символика такого построения часового механизма вполне очевидна: устремленная к «ropel» единственная стрелка соотнесена тем самым с абсолютом, а движущийся вокруг циферблат – эмблема земного времени как всего лишь одного из предикатов вечности. Нетрудно увидеть и близость таких часов с неподвижной стрелкой с солнечными часами, где роль стрелки как вектора к абсолюту исполнял сам обелиск.
18
Муратов П. Образы Италии. Т. 2. М., 1912. С. 66–67.
19
По точному замечанию М. М. Аленова, «Собрание персон на раннепетровских портретах выглядит так, как если бы им было сообщено известие, что они из небожителей пожалованы в госслужащие, или, проще говоря, что они удостоены портретного увековечивания своей персоны не за подвиг спасения души, а, так сказать, "за заслуги перед отечеством". Сохраняя иератическую статику "небожителей", они преисполнены какого-то горестного недоумения невинно приговоренных к какой-то неведомой им славе. По мере того как сияние и благо этой земной славы становились в жизни и в портретной атрибутике более определенными, оттаивала, исчезала эта анестезирующая позу и мимику статика, соответственно живопись обретала подвижность – пространственную, фактурную и колористическую вибрацию» (Алленов М. М. Русское искусство XVIII – начала XX в. М., 2000. С. 48).
20
Софронова Л. А. Культура сквозь призму поэтики. М., 2006. С. 289.
21
Невозможно, конечно же, рассмотреть при первом приближении весь ход процесса «гоминизации» («заслуги лица») во всей его глубине по бескрайним пространствам России, по всей широте многомиллионной Руси. Но, не создав первой модели, мы не можем обратиться к рождению и утверждению будущей «личности» во всех классах, слоях, социальных группах, хотя изначально ясно, что процесс этот шел среди крестьянства иначе, нежели среди купечества; в «третьем слое» – не так, как у властьимущих; у провинциального дворянства – не так, как в «столицах»… Мы вынужденно строим нашу модель по общественной «элите», по культурному «авангарду», лишь иногда предполагая ход процесса в иных слоях, источники к изучению которых покуда менее известны.
22
«Русским рукописям до XVI в. не было известно деление слов. Точки ставились в интервалах между нерасчлененными отрезками текста <…> В XV в. появляется запятая, сначала равнозначная точке», – констатирует в своей классической работе В. Ф. Иванова (Иванова В. Ф. История и принципы русской пунктуации. Л., 1962. С. 9). «Полагают, что и точка с запятой (вернее, точка над запятой) появилась в это время. Оба знака заимствуются из греческого письма через посредство южнославянского [запятая у греков была уже в IX в. – Вд.]. Сведения о новых знаках проникали медленно, и во многих рукописях XV и даже XVI вв., кроме точек, ничего нет <…> Знаки препинания ставились иногда даже чисто случайно, по причинам внешнего порядка: так, прерывая работу, писец мог поставить точку в самом неожиданном месте, иногда даже в середине слова» (Там же), подобно шву дневной работы в стенописи, добавим мы от себя.
23
Заметим, что проблема строчной-прописной в русском языке по-разному, но разрешается в таких произведениях крайнего индивидуализма русской музы и ее вольнонаемных, как ода «Бог» Г. Р. Державина, где каждая строка начинается с «Я» и потому с заглавной; и как поэма В. В. Маяковского «Я», где оное личное местоимение – заглавие, и оттого нет вопроса о прописной-строчной.
24
Ведь немыслимы друг без друга заглавная буква начала предложения и его концевой знак. «…Прописная буква как знак, исторически связанный с красной строкой, является в настоящее время вспомогательным знаком точки, ставящимся не в конце отделяемого члена, а в его начале» (Щерба Л. В. Теория русского письма. Л., 1983. С. 150). Учитывая давно ставшие привычными спекуляции о прописном русском «я» и строчном английском «I», важно иметь в виду подлинную причину британского обыкновения: «Написание I с прописной буквы принято с первых печатных изданий или с памятников конца среднеанглийского периода. В среднеанглийский период личное местоимение i часто для ясности передавалось через j, a j по своему начертанию в XV в. почти совпадало с I. Эту форму усвоили печатники, и она сохранилась» (Бруннер К. История английского языка. М., 1956. Т. 2. С. 102). Благодарю за консультации по проблеме личных местоимений в романо-германских языках М. Л. Чередниченко.
25
«…вводится понятие персоны – так именуется роль» (Софронова Л. А. Российский феатрон… С. 33–34).
26
Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль мышления и стиль жизни. М., 1978. С. 54. Парадокс «возможности накладывать отпечаток на всеобщее» и «полное соотнесение с этим всеобщим» сказывается на многих сторонах русской действительности долгое время. Красноречивейшая иллюстрация – двойное значение слова «фамилия» (как родовое имя и как собственно семейство, этим родовым именем связанное) в русском языке едва ли не до конца XIX в. Соль распространеннейшего анекдота эпохи, передаваемого нами по П. А. Вяземскому, – именно в «персональной» дихотомии «Я» и «мы»: «В каком-то губернском городе дворянство представлялось императору Александру, в одно из многочисленных путешествий его по России. Не расслышав порядочно имени одного из представлявшихся дворян, обратился он к нему: "Позвольте спросить, ваша фамилия?" – "Осталась в деревне, ваше величество, – отвечает он, – но, если прикажете, сейчас пошлю за нею"».
Вообще же, отметим, что начало процессу обретения неизменной, по наследству передающейся фамилии, а не прозванию от имени отца, поскольку имя отца стало отчеством (прежде это привилегия аристократа величаться – вичем, что суть дар государев), положено в XVIII в. Тот же процесс – обретение фамилии социальными низами, окончательно стимулированный реформой 1861 г., однако еще во второй половине XX в. в российских деревнях различали «уличные» и «личные» фамилии. Параллельно идет и становление «Вы» как нормы обращения к другому.
«Параллельно» рождается, например, и такой мебельный жанр, как стул – некое среднее между троном для государя и лавкой для служащих, равнодействующая между единственным царским «Я» и безгласным в глазах государева величия коллективным боярским «мы», представляющим «мы» мира безбрежной Руси, где каждый из будто бы немотствующих бояр на своем месте станет «Я» и обретет трон, поместивши иных «мы» на лавки. Стало быть, стул – еще один знак непростого пути обличения, общеиндоевропейской и общеевропейской дорог от «прямохождения» к «прямосидению». И если на «прямохождение» ушло 15000- 20000 лет, то на «прямосидение» – чуть менее 2000.
Обретение спинки – завоевание Нового времени, лукавая победа прямой спины Возрождения над гибким позвоночником Средневековья, виктория, чреватая сутулостью романтизма и постромантизма. Случайно ли раннеренессансная мебель Италии, немецкие стулья от времени Лютера и далее, русские «отдельные мебля» петровской эпохи, чешские sidadla середины – второй половины XIX в., бразильские кресла первой половины XX столетия настойчиво громоздят прямоструганные спинки, спорящие не то с лестницей Иакова, не то с моделью Ламарка, не то со схемой эволюции по Дарвину?.. Случайно ли начала портрета как жанра, среди прочих условий репрезентации предполагающего «прямостояние» или «прямосидение» как виды предстояния, современны стулу как виду декоративно-прикладного искусства? Случайно ли безоговорочная победа Новейшего времени и эпохи постромантизма материализована в тишайшем явлении не где-нибудь, а именно в Вене – столице самой обширной и самой надуманной европейской империи – скромного столяра М. Тонета, снабдившего с благословления не абы кого, а Меттерниха, стульями из гнутого бука весь атлантический мир, купивший к началу Первой мировой войны почти семьдесят миллионов «венских стульев»?..
Случайно ли всякая революция и любой переворот начинаются с обязательного сидения революционеров на корточках, на земле, на мешках, на чем угодно, кроме стульев (стул – эмблема соглашательства «власти» и «народа», государства, воплощенного в «Я» власть предержащего и послушно «сидящего» под десницей «населения»), а заканчиваются неотменным низвержением стоящих и конных как дважды стоящих статуй? Случайно ли лучшая революционная и любовная поэма до сих пор – «Флейта-позвоночник» (1915) В. В. Маяковского, поэма об отказе от стула и ложа вплоть до коленопреклонения (Хребет – «Память! // Собери у мозга в зале // любимых неисчерпаемые очереди. // Смех из глаз в глаза лей. // Былыми свадьбами ночь ряди. // Из тела в тело веселье лейте. // Пусть не забудется ночь никем. // Я сегодня буду играть на флейте. //На собственном позвоночнике»; Ложе – «Если вдруг подкрасться к двери спаленной, // перекрестить над вами стёганье одеялово, // знаю – // запахнет шерстью паленной, // и серой издымится мясо дьявола. // А я вместо этого до утра раннего // в ужасе, что тебя любить увели, // метался // и крики в строчки выгранивал, // уже наполовину сумасшедший ювелир.»; Колени – «В муке // перед той, которую отдал, // коленопреклоненный выник. // Король Альберт, // все города отдавший, // рядом со мной задаренный именинник»)?
27
Парадоксальная, но лишь на первый взгляд, параллель самоопределению «Я» до состояния отдельной персоны, параллель обличению русской речи, ее пунктуации и синтаксиса – давняя математическая дискуссия о том, есть ли единица («1») число, – дискуссия, неотделимая от «изобретения нуля», состоявшегося, судя по всему, в математике Двуречья. Еще у Евклида, начавшего отличать науку о числе от логистики, термин «артимос», который мы все норовим перевести как «число», в действительности означал только натуральное число – иначе говоря, согласно прекрасному переводу на русский Д. Д. Мордухай-Болтовского, «количество, составленное из единиц» (Евклид. Начала. VII, 2). Отсюда и непонятная нам уверенность «теоремы Евклида» в том, что простых чисел бесконечно много (Евклид. Начала. IX, 20), видимо, дискутирующая с пифагорейским энтузиазмом сакральной нумерологии («все есть число»), полагающей «точку – помещенной единицей». Опуская и сторико-математические выкладки, отметим, что еще Симону Стевину в конце XVI столетия, т. е. на исходе эпохи Возрождения в Западной и Северной Европе, и в «Арифметике», и в революционной «Десятой» (La Disme) приходилось доказывать, что единица («1») суть число (Stevin S. Coll. Works. Т. 1–2. Milano, 1955–1958; Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики. М., 1964. С. 35, 52, 73, 109, 114, 165; Dijksterhuis E. J. Simon Stevin. S'Gravenhage, 1943; Van der Waerden B. L. Mathematics Annalen. № 120. 1948. S. 126–152, 675–699; Евклид. Начала / Пер. и ком. Д. Д. Мордухай-Болтовского: Кн. I–VI. М.;Л., 1948; Кн. VII–X. М.;Л., 1949; Кн. XI–XV. М.;Л., 1950). «Скоро наскучишься людьми, у коих душой бывает ум: надежны одни те, у коих умом душа <…> Слова человека с умом цифры: их должно применять, высчитывать, проверять; слова человека с душой деяния: они увлекают воображение, согревают сердце, убеждают ум», – приметил столетие спустя наблюдательный П. А. Вяземский, подводя промежуточные итоги начавшегося на рубеже XVII–XVIII вв. процесса «вочеловечивания». Стоит ли продолжать нашу утомительную спекуляцию до «бароковой» поэзии В. В. Маяковского, бившегося между «сверх-Я» эпохи постромантизма и «коллективизмом» строящегося социализма («Единица – вздор, единица – ноль / Один – даже если очень важный – не подымет простое пятивершковое бревно»), бившегося ни абы где, а в программной поэме «Владимир Ильич Ленин»? Удивляться ли, увидев вдруг, что первая четверть XVIII в. и та же кварта XX столетия, общо говоря, ставили своих насельников в одну и ту же позитуру – между положением человека, «уложенного в основание пирамиды», и требованием власти проявлять изобретательность, инициативу, предприимчивость и пр., пр.