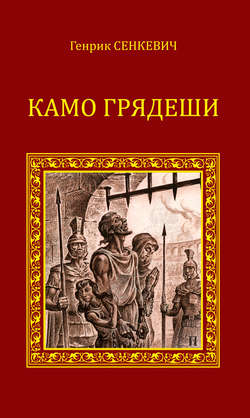Читать книгу Камо грядеши - Генрик Сенкевич, Henryk Sienkiewicz - Страница 4
Часть вторая
ОглавлениеI
В эту ночь Виниций совсем не ложился. Через некоторое времени после ухода Петрония, когда стоны бичуемых рабов не утолили ни горя его, ни его неистового гнева, он собрал толпу других слуг и во главе их бросился поздней ночью разыскивать Лигию. Он осмотрел Эксвилинский квартал, Субурру, Викус-Сцелератус и все прилегающие к ним переулки. Затем, обойдя Капитолий, Виниций перебрался через мост Фабриция на остров; оттуда он проник в часть города, расположенную по ту сторону Тибра, и обежал ее. Он сознавал, что эти поиски бесцельны, не надеялся найти Лигию и разыскивал ее главным образом для того, чтобы чем-нибудь заполнить ужасную ночь. Он возвратился домой лишь на рассвете, когда в городе стали уже появляться возы и мулы продавцов овощей и пекари начали открывать лавки.
Вернувшись, Виниций приказал убрать тело Гулона, до которого никто не посмел прикоснуться; рабов, на которых молодой трибун выместил утрату Лигии, он велел сослать в свои поместья, что считалось наказанием чуть ли не более жестоким, чем смерть. Бросившись, наконец, на устланную тканью скамью в атрие, Виниций стал бессвязно придумывать, каким бы образом найти и захватить Лигию.
Он не мог себе представить, что никогда больше не увидит Лигию, при одной мысли о том, что он может потерять ее, им овладевало безумие. Своевольный от природы, молодой воин впервые в жизни натолкнулся на отпор, на чужую непреклонную волю, и просто не мог понять, как смеет кто-либо противиться его вожделению. Виниций предпочел бы, чтобы погиб весь мир, чтобы Рим превратился в развалины, чем отказаться от цели своих желаний. Чашу наслаждений похитили у него почти из-под уст, ему казалось поэтому, что совершилось нечто неслыханное, вопиющее о мести по законам божеским и человеческим.
Но больше всего негодовал он на свою участь, потому что никогда в жизни не желал ничего так страстно, как обладания Лигией. Он чувствовал, что не может жить без нее, не мог себе представить, что будет делать без нее завтра, как проживет следующие дни. Иногда им овладевал гнев на нее, он впадал почти в неистовство. Он хотел бы тогда иметь ее в своей власти, чтобы бить ее, влачить за волосы по спальням, надругаться над ней, – потом снова сердце его сжималось от тоски по ее голосу, очертаниям тела, глазам, и он чувствовал, что радостно упал бы к ее ногам. Он призывал ее, грыз пальцы, сжимал голову руками. Он напрягал все силы, чтобы принудить себя спокойно думать, как бы отыскать Лигию, и не мог. В уме его мелькали тысячи средств и способов, один безумнее другого. Наконец ему пришло в голову, что молодую девушку похитил Авл! Если это и не так, Авл, во всяком случае, должен знать, где она скрывается.
Он вскочил, решившись бежать в дом Авла. Если Авл не отдаст Лигию, если не испугается угроз, Виниций пойдет к цезарю, обвинит старого вождя в неповиновении и выхлопочет, чтобы ему послали смертный приговор, но раньше Виниций заставит его сознаться, где скрывается Лигия… Он отомстит, впрочем, если ее возвратят даже добровольно. Они, правда, приютили его в своем доме, ухаживали за ним, но это ничего не значит! Одною нанесенною ему теперь обидой они освободили его от всякой благодарности.
Мстительный и жестокий трибун мысленно наслаждался отчаянием Помпонии Грецины, представляя себе минуту, когда центурион принесет смертный приговор старому Авлу. Он был почти уверен, что выхлопочет этот приговор. Ему поможет Петроний. Притом же и сам цезарь ни в чем не отказывает своим приспешникам-августианцам, если только просьба не идет вразрез с его собственными намерениями и желаниями.
И вдруг сердце его чуть не замерло под влиянием ужасного предположения:
– Не сам ли цезарь отбил Лигию?
Все знали, что цезарь часто развлекался со скуки ночными нападениями. Даже Петроний принимал участие в этих забавах. Главной целью таких стычек служил, впрочем, захват женщин и подбрасывание затем на солдатском плаще, до утраты ими сознания. Сам Нерон называл иногда эти похождения «ловлей жемчужин», так как в глубине кварталов, густо заселенных бедным людом, удавалось иногда натолкнуться на истинную жемчужину красоты и молодости. Тогда «сагация», то есть подбрасывание на солдатском плаще, заменялась настоящим похищением, и «жемчужину» отправляли или в Палатинский дворец, или в одну из бесчисленных вилл цезаря, или же, наконец, Нерон дарил ее одному из своих приспешников. Такая участь могла постигнуть и Лигию. Цезарь присматривался к ней во время пира, и Виниций ни на мгновение не усомнился, что она, конечно, показалась Нерону прекраснее всех женщин, которых он когда-либо видел. Это очевидно! Нерон, впрочем, имел ее у себя, в Палатинском дворце, и мог задержать открыто. Но цезарь, как справедливо говорил Петроний, был труслив в своих злодеяниях; имея власть действовать открыто, он всегда предпочитал действовать тайно. В настоящем случае его могло побудить к этому и опасение выдать себя перед Поппеей. Виницию пришло теперь в голову, что Авл и Помпония Грецина, быть может, не отважились бы насильственно захватить девушку, подаренную ему цезарем. Да и кто осмелился бы сделать это? Не тот ли великан-лигиец с голубыми глазами, который дерзнул тогда войти в триклиний и унести ее с пира на руках? Но где мог бы он скрыться с нею, куда мог бы отвести ее? Нет, раб неспособен на такой поступок. Следовательно, Лигию похитил не кто иной, как сам цезарь.
При этой мысли у Виниция потемнело в глазах и лоб оросился каплями пота. Если это правда, Лигия потеряна для него навсегда. Ее можно бы вырвать из любых других рук, но не из рук цезаря. Теперь ему остается восклицать с бо́льшим основанием, чем прежде: «Vae misero mihi!»[28] Он представил себе воображением Лигию в объятиях Нерона и впервые в жизни понял, что бывают мысли, которые просто невыносимы. Только теперь он уяснил себе, как сильно полюбил ее. В памяти его стал мелькать образ Лигии, подобно тому, как с быстротой молнии проносится вся минувшая жизнь в сознании утопающего. Он как будто видит ее, слышит каждое ее слово. Вот она у фонтана, вот в доме Авла и на пиршестве. Он снова ощущает ее близость, ощущает благоухание ее волос, теплоту ее тела, сладость лобзаний, которыми на пиру впивался в ее невинные уста. И она представилась ему во сто крат прекраснейшей, более вожделенной и дорогой сердцу, чем когда-либо, – во сто крат более превосходящей всех смертных женщин и всех богинь. И когда он подумал, что Нерон, быть может, овладел всем, что так глубоко запало ему в душу, претворилось в его кровь, стало для него источником жизни, им овладела боль, чисто телесная и столь ужасная, что ему хотелось колотиться головой о стены атрия, пока она не разобьется. Он чувствовал, что может сойти с ума и что непременно лишился бы рассудка, если бы не оставалось еще чувства мести. Раньше ему казалось, что он лишится возможности жить, если не отыщет Лигии, – теперь же он столь же глубоко чувствовал, что не сможет умереть, пока не отомстит за нее. Лишь одна эта мысль доставляла ему некоторое облегчение. «Я стану твоим Кассием Хереей!» – повторял он, мысленно обращаясь к Нерону. Опустив затем руки к вазам с цветами, стоявшим вокруг имплувия, он сжал горсть земли и произнес страшную клятву Эребу, Гекате и своим домашним ларам в том, что отомстит за Лигию.
И в самом деле ему стало легче. Теперь, по крайней мере, ему есть для чего жить, есть чем заполнить дни и ночи. Отказавшись от намерения отправиться к Авлу, Виниций приказал нести себя к Палатинскому дворцу. На пути он сообразил, что если его не допустят к цезарю или если захотят осмотреть, нет ли при нем оружия, то это явится доказательством, что Лигию захватил цезарь. Оружия он, однако, с собою не взял. Он утратил вообще сознание, сохранив, – как обыкновенно случается с людьми, увлеченными одною мыслью, – понимание лишь того, что касается мщения. Он не хотел упустить его излишней поспешностью. Кроме того, он больше всего стремился повидать Актею, так как ему казалось, что от нее он узнает правду. Иногда его осеняла надежда, что, может быть, он увидит и Лигию, при одной мысли об этом его охватывала дрожь. Не похитил ли ее цезарь, не зная, кого отбивает у рабов? Быть может, Нерон возвратит ему Лигию сегодня же? Но он тотчас же понял несостоятельность этого предположения. Если бы хотели отослать к нему Лигию, ее отослали бы вчера вечером. Одна Актея может все разъяснить, и надо первым делом повидаться с нею.
Остановившись на этом решении, Виниций приказал носильщикам прибавить шагу; по дороге мысли его путались, он думал то о Лигии, то о планах мщения. Он слышал, что жрецы египетской богини Пахты умеют насылать болезни на кого им угодно, и решился узнать от них о способе. На Востоке рассказывали ему также, что иудеи знают какие-то заклятия, посредством которых покрывают язвами тело врагов. У него в доме между рабами наберется десятка два иудеев, по возвращении он непременно прикажет бичевать их до тех пор, пока они не выдадут этой тайны. С особенным, однако, наслаждением думал он о коротком римском мече, извлекающем потоки крови, – такие именно, какие брызнули из Кая Калигулы, оставив неизгладимые пятна на колонне портика. Он был готов обагрить кровью весь Рим, а если бы какие-нибудь мстительные боги обещали ему истребить все человечество, кроме него и Лигии, он согласился бы и на это.
Перед аркой он сосредоточил все свое внимание и подумал при виде преторианской стражи, что, если хоть сколько-нибудь будут стараться задержать его, это послужит доказательством, что Лигия содержится во дворце по воле цезаря. Но старший центурион дружески улыбнулся ему и, приблизившись на несколько шагов, произнес:
– Приветствую тебя, благородный трибун. Если ты желаешь предстать перед лицом цезаря, ты выбрал неудачную минуту: я не знаю, удастся ли тебе увидеть его.
– Что случилось? – спросил Виниций.
– Божественная маленькая Августа со вчерашнего дня внезапно заболела. Цезарь и Августа Поппея не отходят от нее вместе с врачами, которых созвали со всего города.
Это было важное событие. Цезарь, когда у него родилась эта дочь, просто обезумел от счастья и принял ее «extra humanum gaudium»[29]. Еще до разрешения Поппеи от бремени сенат самым торжественным образом поручил ее лоно покровительству богов. В Анцие, когда родилась у нее дочь, были отпразднованы пышные игры и, кроме того, сооружен храм двум Фортунам. Нерон, не умевший ни в чем соблюсти меру, и этого ребенка полюбил безмерно, для Поппеи дочь была также дорога, хотя бы потому, что упрочила ее положение и сделала ее влияние неоспоримым.
От здоровья и жизни маленькой Августы могли зависеть судьбы всей империи. Но Виниций был так увлечен собственным делом и своей любовью, что ответил, не обратив почти никакого внимания на сообщения центуриона:
– Я хочу увидеться только с Актеей.
Но Актея также оказалась занятой при ребенке, и Виницию пришлось долго дожидаться ее возвращения. Она пришла лишь около полудня, с измученным и бледным лицом, еще более побледневшим при виде Виниция.
– Актея! – воскликнул он, схватив ее за руки и притянув в середину атрия, – где Лигия?
– Я хотела спросить об этом у тебя, – ответила она, с упреком смотря ему в глаза.
А он, хотя дал себе слово спокойно допросить ее, снова сжал голову руками и стал повторять с лицом, исказившимся от горести и гнева:
– Она исчезла. Ее похитили на пути ко мне!
Виниций, однако, вскоре опомнился и, наклонив свое лицо к лицу Актеи, произнес сквозь стиснутые зубы:
– Актея… Если тебе дорога жизнь, если ты не хочешь стать причиной несчастий, которых не можешь даже вообразить себе, скажи мне правду: не цезарь ли похитил ее?
– Цезарь не выходил вчера из дворца.
– Заклинаю тебя тенью твоей матери, именем всех богов: не скрывают ли ее во дворце?
– Марк, клянусь тенью моей матери, ее нет во дворце и не цезарь похитил ее. Со вчерашнего дня заболела маленькая Августа, и Нерон не отходит от ее колыбели.
Виниций вздохнул с облегчением. То, что казалось самым страшным, перестало угрожать ему.
– Значит, – сказал он, садясь на скамью и сжимая кулаки, – ее отбили Авл и Помпония, в таком случае – горе им!
– Сегодня утром здесь был Авл Плавций. Он не мог повидаться со мной, потому что я была занята при ребенке, но расспрашивал о Лигии Эпафродита и других дворцовых слуг, и сказал им, что придет еще раз поговорить со мной.
– Он хотел отклонить от себя подозрение. Если бы он в самом деле не знал, что сталось с Лигией, он пошел бы искать ее в моем доме.
– Он оставил для меня несколько слов на табличке; из них ты увидишь, что Авл, зная, что цезарь отобрал от него Лигию по желанию твоему и Петрония, рассчитывал, что девушку отошлют к тебе, и сегодня утром он был в твоем доме, где ему сообщили о происшедшем.
Сказав это, Актея пошла в спальню и вскоре вернулась с табличкой, которую оставил для нее Авл.
Виниций прочитал и умолк. Актея, как будто угадав его мысли по сумрачному выражению лица, сказала:
– Нет, Марк. Произошло то, чего желала сама Лигия.
– Ты знала, что она хочет бежать! – гневно воскликнул Виниций.
Она посмотрела на него своими задумчивыми глазами почти сурово.
– Я знала, что она не хочет сделаться твоей наложницей.
– А ты сама чем была всю жизнь?!
– Я была раньше рабыней.
Но Виниций не перестал горячиться: цезарь подарил ему Лигию, следовательно, ему незачем спрашивать, чем она была раньше. Он добудет ее хотя бы из-под земли и сделает из нее, что ему угодно. Да, она будет его наложницей. Он прикажет сечь ее, сколько ему вздумается. Когда она надоест ему, он отдаст ее последнему из своих рабов или сошлет вертеть жернова в свои африканские поместья. Теперь он станет разыскивать ее и найдет только затем, чтобы покарать, сокрушить, заставить ее смириться.
Горячась все больше, он до такой степени утратил чувство меры, что даже Актея поняла всю преувеличенность его угроз: он, очевидно, неспособен осуществить их, говорит лишь под влиянием гнева и отчаяния. Она, вероятно, даже сжалилась бы над его страданиями, но неистовство Виниция истощило ее терпение, так что она наконец спросила, зачем он пришел к ней.
Виниций не сразу сообразил, что надо ответить Актее. Он пришел к ней, потому что так захотел, потому что думал, что она сообщит ему какие-нибудь сведения, но, в сущности, пришел лишь к цезарю и, не будучи допущен к нему, завернул к ней. Лигия, скрывшись, воспротивилась воле цезаря, поэтому он упросит Нерона, чтобы он повелел разыскивать Лигию по всему городу и по всему государству, хотя бы пришлось прибегнуть для этой цели к помощи всех легионов и перешарить по очереди каждый дом в империи. Петроний поддержит его просьбу, и розыски начнутся ныне же. Актея сказала ему в ответ на это:
– Остерегайся, как бы не потерять ее навсегда именно в то время, когда ее отыщут по повелению цезаря.
Виниций сдвинул брови.
– Что значат твои слова? – спросил он.
– Выслушай меня, Марк! Вчера я гуляла с Лигией в здешних садах, мы встретили Поппею с маленькой Августой, которую несла негритянка Лилита. Вечером ребенок захворал, а Лилита уверяет, что его околдовали, и обвиняют ту чужеземку, с которой они встретились в садах. Если ребенок выздоровеет, об этом позабудут, в противном же случае Поппея первая обвинит Лигию в колдовстве, и тогда, где бы ни нашли ее, ничто не спасет ее.
Наступило молчание; потом Виниций заметил:
– Может быть, она и в самом деле околдовала ее: приворожила же она меня?
– Лилита повторяет, что ребенок заплакал тотчас же, как только она пронесла его возле нас. И в самом деле, девочка заплакала, должно быть, ее вынесли в сад уже больной. Марк, ищи ее сам, где хочешь, но не говори о ней с цезарем, пока маленькая Августа не выздоровеет, потому что навлечешь на Лигию мщение Поппеи. Достаточно уже ее глаза пролили слез из-за тебя, и да хранят теперь все боги ее бедную голову.
– Ты ее любишь, Актея? – печально спросил Виниций.
В глазах вольноотпущенницы заблестели слезы.
– Да, я полюбила ее.
– Потому что она не отплатила тебе ненавистью, как мне.
Актея посмотрела на него, как бы колеблясь или желая проверить, искренно ли он говорит, и потом сказала:
– Необузданный и ослепленный человек! Она тебя любила!
Виниций вскочил, точно обезумев от этих слов. Неправда! Она ненавидит его. Откуда может знать об этом Актея?.. Неужели Лигия, после одного дня знакомства, доверила ей такое признание? Что это за любовь, предпочитающая скитальчество, позор нищеты, неуверенность в завтрашнем дне и, быть может, жалкую смерть убранному зеленью дому, в котором ожидает с пиршеством возлюбленный? Пусть лучше не говорят ему таких вещей, не то он может лишиться рассудка. Он не отдал бы этой девушки за все сокровища Палатинского дворца, – а она убежала. Что это за любовь, боящаяся наслаждения и порождающая лишь муки? Кто поймет это? Кто может растолковать? Если бы его не поддерживала надежда, что он найдет ее, он пронзил бы себя мечом! Любовь отдается, а не отнимает. Были минуты в доме Авла, когда он сам верил в близкое счастье, но теперь он убедился, что она ненавидела его, ненавидит и умрет с ненавистью в сердце.
Но Актея, обыкновенно боязливая и кроткая, в свою очередь разразилась негодующими упреками: пусть подумает Виниций, как добивался он владеть ею? Вместо того чтобы просить ее у Авла и Помпонии, он коварно отнял дитя от родителей. Он хотел сделать ее не женой, а наложницей, ее, воспитанницу почтенной семьи, ее, царскую дочь! Он привел Лигию в этот дом злодеяний и позора, оскорбил ее невинные глаза зрелищем омерзительного пира, поступал с нею как с распутницей. Разве он забыл, какова семья Авла? И что за женщина Помпония Грецина, воспитавшая Лигию? Неужели у него нет настолько ума, чтобы понять, что это совсем иные женщины, чем Нигидия, Кальвия, Криспинилла, Поппея или все те, которых он встречает в доме цезаря? Неужели, увидевши Лигию, он не проникся сразу уверенностью, что эта чистая душою девушка предпочтет смерть позору? Разве он знает, каким богам она поклоняется, и не лучше ли, не возвышеннее ли эти боги, чем распутная Венера или Изида, которую чтут развратные римлянки? Нет, Лигия не сообщала ей никаких признаний, но говорила, что ждет спасения от него, Виниция; она надеялась, что цезарь по его просьбе позволит ей вернуться домой, что Виниций возвратит ее Помпонии. Говоря об этом, Лигия смущалась, как девушка, которая любит и доверяет. Сердце ее билось для него, но он сам восстановил ее против себя, внушил ей ужас, оскорбил ее, и теперь может разыскивать ее при содействии солдат цезаря, но пусть знает, что если ребенок Нерона умрет, на нее падет подозрение – и гибель ее станет неминуемой.
Несмотря на бушевавший в нем гнев и огорчение, эти слова тронули Виниция. Уверения Актеи, что Лигия любила его, потрясли молодого трибуна до глубины души. Он вспомнил, как играл румянец на ее лице и разгорались лучистым блеском глаза, когда она слушала его признания в саду Авла. Ему показалось, что тогда действительно в ней зарождалась любовь к нему, и при одной мысли об этом сердце его исполнилось радости, во сто крат сильнейшей, чем счастье, которого он жаждал. Он подумал, что в самом деле мог овладеть ею без насилия и притом иметь ее любящей. Она обвила бы пряжей двери его и умастила бы их волчьим салом, а потом возила бы, как жена, на овечьем руне, у его очага. Он услышал бы из ее уст освященные обычаем слова: «Где ты, Кай, там и я, твоя Кайя», – и она навсегда стала бы принадлежать ему. Почему он не поступил таким образом? Ведь он был готов жениться на ней. А теперь она исчезла, и он, может быть, не найдет ее, а если и найдет, может ее погубить, если же и не погубить, его предложения не захотят принять ни Авл, ни Лигия.
Гневный порыв снова овладел им, снова стал поднимать дыбом волосы на его голове, но теперь Виниций негодовал не на Авла и Помпонию, не на Лигию: гнев его обратился на Петрония. Всему виною Петроний. Если бы не он, Лигия не была бы обречена на скитальчество, сделалась бы его невестой, и никакая опасность не угрожала бы ее дорогой жизни. А теперь все уже совершилось, теперь уже слишком поздно загладить непоправимое зло.
– Слишком поздно!
Он почувствовал, что бездна разверзлась под его ногами. Что предпринять, как поступить, куда обратиться?.. Актея повторила, как эхо, слова: «слишком поздно», которые в чужих устах прозвучали для него как смертный приговор. Он понимал лишь одно: необходимо во что бы то ни стало отыскать Лигию, не то с ним произойдет что-то ужасное.
Запахнувши бессознательным движением тогу, он хотел уйти, даже не попрощавшись с Актеей, как вдруг раздвинулась завеса, отделяющая сени от атрия, и он внезапно увидел перед собой печальный облик Помпонии Грецины.
Очевидно, и она узнала уже об исчезновении Лигии, и, полагая, что легче, чем Авл, добьется свидания с Актеей, пришла к ней навести справки.
Увидевши Виниция, она обратила к нему свое бледное с мелкими очертаниями лицо и сказала:
– Марк, да простит тебе Бог обиду, нанесенную тобою нам и Лигии.
Он стоял, опустив голову, чувствуя себя глубоко несчастным и виновным, не понимая, какой бог может его простить и почему Помпония говорит о прощении, когда должна бы говорить о мести.
Затем он наконец ушел, терзаемый горестными думами, отчаянием и недоумением.
На дворе и в галерее тревожно теснились толпы людей. Среди дворцовых рабов сновали римские всадники и сенаторы, явившиеся узнать о состоянии здоровья маленькой Августы и вместе с тем показаться во дворце и засвидетельствовать о своей преданности, хотя бы в присутствии рабов цезаря. Известие о болезни «богини», по-видимому, распространилось быстро, так как в воротах появлялись все новые посетители, а в отверстии арки виднелись целые толпы.
Некоторые из вновь прибывших, видя, что Виниций вышел из дворца, обращались к нему с расспросами, но он, не отвечая, быстро шел своим путем, пока Петроний, также поспешивший собрать сведения, не задержал его, едва не опрокинув грудью.
Виниций, несомненно, впал бы в неистовство при виде Петрония и произвел бы какое-либо бесчинство во дворце цезаря, если бы не вышел от Актеи совершенно разбитым; он чувствовал себя столь подавленным и изнуренным, что на время отрешился даже от своей врожденной запальчивости.
Виниций отстранил, однако, Петрония и хотел отойти, но тот задержал его насильно.
– Как чувствует себя божественная? – спросил он.
Но эта насильственная остановка снова раздражила Виниция и мгновенно возбудила его гнев.
– Пусть ад поглотит ее и весь этот дом, – ответил он, скрежеща зубами.
– Молчи, несчастный! – сказал Петроний и, осмотревшись вокруг, торопливо добавил: – Если хочешь узнать кое-что о Лигии, следуй за мной. Нет, здесь я ничего не скажу! Ступай за мной, я сообщу тебе мои догадки в носилках.
Обняв рукой молодого человека, он как можно скорее вывел его из дворца.
Он главным образом и добивался этого, так как не имел никаких новых известий о Лигии. Однако, будучи человеком сообразительным и, несмотря на вчерашнее свое возмущение, весьма сочувствуя Виницию, кроме того, чувствуя себя в некоторой степени ответственным за все происшедшее, Петроний принял уже некоторые меры. Когда они сели в носилки, он сказал:
– Я приказал моим рабам сторожить у всех ворот, снабдив их подробными приметами девушки и того великана, который вынес ее с пира у цезаря, так как не может быть сомнения, что это он отбил ее от твоих рабов. Выслушай меня! Быть может, Авл и Помпония вздумают спрятать ее в одном из своих поместий, в таком случае мы узнаем, в какую сторону ее увели. Если же ее не заметят у ворот, это послужит доказательством, что она осталась в городе, и мы сегодня же начнем разыскивать в Риме.
– Авл и Помпония не знают, куда она делась, – ответил Виниций.
– Уверен ли ты в этом?
– Я видел Помпонию. Они также ищут ее.
– Вчера она не могла выбраться из города, потому что на ночь ворота запираются. У каждых ворот караулят двое моих рабов. Один из них должен пойти по следам Лигии и великана, а другой сейчас же вернется, чтобы сообщить мне. Если они в Риме, мы найдем их, потому что этого лигийца нетрудно узнать хотя бы по росту и плечам. Твое счастье, что ее похитил не цезарь, но я могу тебя уверить, что овладел Лигией не он, потому что мне известны все тайны Палатинского дворца.
Виниций разразился не столько гневным, сколько горестным порывом: он передавал Петронию прерывающимся от волнения голосом обо всем, что слышал от Актеи. Он рассказал, какие новые ужасные опасности угрожают Лигии: найдя беглецов, придется как можно тщательнее скрывать их от Поппеи. Затем Виниций с горечью стал упрекать Петрония за его советы. Если бы не он, все пошло бы иначе. Лигия находилась бы в доме Авла, Виниций мог бы видеться с нею ежедневно и был бы теперь счастливее цезаря. Распаляя себя своими собственными словами, он все более волновался, так что, наконец, слезы скорби и озлобления полились из его глаз.
Петроний, не предполагавший, что молодой трибун может любить и увлекаться страстью до такой степени, видя эти слезы, невольно подумал с некоторым удивлением:
«О, могущественная владычица Кипра! Ты одна господствуешь над бессмертными богами!»
II
Когда они вышли из носилок перед домом Петрония, надсмотрщик над атрием сообщил им, что ни один из рабов, посланных к воротам, еще не вернулся. Он распорядился отнести им пищу и подтвердить, под страхом бичевания, приказ – внимательно следить за всеми, выходящими из города.
– Видишь, – сказал Петроний, – они, очевидно, находятся еще в городе, а в таком случае мы отыщем их. Прикажи, однако, и своим людям наблюдать за городскими воротами, пошли тех именно рабов, которые сопровождали Лигию: они легко распознают ее.
– Я приказал сослать их в мои поместья, – ответил Виниций, – но я сейчас же отменю мое распоряжение, пусть они идут к воротам.
Начертив несколько слов на покрытой слоем воска табличке, он отдал записку Петронию, который приказал немедленно отослать ее в дом Виниция.
Затем они прошли во внутренний портик; севши там на мраморной скамье, они стали беседовать. Златокудрые Эвника и Ирада подали им под ноги бронзовые скамеечки и, придвинув к скамье стол, принялись наливать в чаши вино из прекрасных кувшинов с узкими горлышками, привозившихся из Волатерра и Цецины.
– Знает ли кто-нибудь из твоих рабов этого огромного лигийца? – спросил Петроний.
– Его знали Атицин и Гулон. Но Атицин пал вчера у носилок, а Гулона убил я сам.
– Мне жаль его, – сказал Петроний. – Он вынянчил на своих руках не только тебя, но и меня.
– Я даже хотел дать ему свободу, – возразил Виниций, – но не стоит говорить об этом. Поговорим о Лигии. Рим – это море…
– Жемчужин вылавливают именно из моря. Мы, конечно, не найдем ее ни сегодня, ни завтра, но в конце концов непременно отыщем. Ты пеняешь на меня теперь, что я посоветовал тебе прибегнуть к этому средству, но средство само по себе было хорошим, сделалось же оно дурным лишь после того, как условия сложились неблагоприятно. Притом ты же слышал от самого Авла, что он намеревался со всем семейством перебраться в Сицилию. Таким образом, Лигия все равно была бы далеко от тебя.
– Я поехал бы за ними, – возразил Виниций, – и, во всяком случае, она была бы в безопасности, теперь же, если этот ребенок умрет, Поппея и сама поверит, и внушит цезарю, что это случилось по вине Лигии.
– Ты прав. Это встревожило и меня. Но эта маленькая кукла может еще выздороветь. Если же она и умрет, мы все-таки придумаем какой-нибудь способ. – Петроний, подумав немного, продолжал: – Поппея, как говорят, исповедует веру иудеев и верит в злых духов. Цезарь суеверен… Если мы распространим слух, что Лигию унесли злые духи, этому все поверят, – тем более что она, если ее не захватили ни цезарь, ни Авл Плавций, в самом деле исчезла загадочным образом. Лигиец без чужой помощи не мог бы сделать этого. Очевидно, ему помогали; но каким образом раб в течение одного дня мог собрать столько людей?
– Рабы оказывают поддержку друг другу во всем Риме.
– И Рим когда-нибудь кроваво поплатится за это. Да, они действуют заодно, но не во вред другим рабам, – а в этом случае понятно, что на твоих слуг падет ответственность и что они понесут наказание. Если ты внушишь своим рабам мысль о злых духах, они тотчас же подтвердят, что видели их собственными глазами, и это сразу оправдает рабов перед тобою… Спроси любого из них, не видал ли он, как Лигия взлетела на воздух, – раб поклянется щитом Зевса, что так именно и было.
Виниций, который также был суеверен, посмотрел на Петрония испуганным и удивленным взором.
– Если Урс не мог созвать рабов на подмогу и не отважился бы отбивать Лигию один, так кто же, в самом деле, похитил ее?
Петроний засмеялся.
– Вот видишь, – сказал он, – как же они не поверят, если ты сам уже почти поверил? Таков наш свет, глумящийся над богами. Все поверят и не станут искать ее, а мы тем временем скроем Лигию подальше от Рима, в какой-нибудь моей или твоей вилле.
– Однако же кто мог оказать ей помощь?
– Ее единоверцы, – ответил Петроний.
– Какие единоверцы? Какому божеству она поклоняется? Мне следовало бы знать это лучше, чем тебе.
– Почти каждая римлянка чтит иное божество. Несомненно, что Помпония воспитала Лигию в преклонении перед тем божеством, которому сама поклоняется, а какому божеству она поклоняется – мне неизвестно. Известно лишь одно: никто не видел, чтобы она приносила жертвы богам в каком-либо из наших храмов. Ее обвиняли даже в том, что она стала христианкой, но допустить это невозможно. Тайное следствие сняло с нее это обвинение. О христианах говорят, что они не только поклоняются ослиной голове, но и ненавидят человечество, не гнушаясь самыми возмутительными преступлениями. Следовательно, Помпония не может быть христианкой, так как славится своей добродетелью, a человеконенавистница не обращалась бы столь милостиво с невольниками, как она.
– Ни в одном доме не обращаются с ними так, как у Авла, – подтвердил Виниций.
– Помпония упомянула при мне о каком-то боге, который, по ее мнению, един, всемогущ и милосерд. Куда девала она остальных богов, это ее дело, но этот ее «Логос» или не так уж всемогущ, или, вернее, был бы довольно жалким богом, если бы ему поклонялись только две женщины, то есть Помпония и Лигия, с их Урсом в придачу. Верующих в него должно быть больше – и они-то оказали помощь Лигии.
– Их вера предписывает прощать, – сказал Виниций. – Я встретил Помпонию у Актеи, и она сказала мне: «Пусть Бог простит тебе обиду, нанесенную тобою Лигии и нам».
– По-видимому, их бог – какой-то весьма благосклонный попечитель. Ну, что ж, пусть он простит тебя и в доказательство своего прощения возвратит тебе девушку.
– Я принес бы ему завтра же в жертву гекатомбу. Я не хочу ни пищи, ни ванн, ни сна. Надену темный дождевой плащ и отправлюсь скитаться по городу. Быть может, переодетым найду ее. Я болен.
Петроний посмотрел на него с некоторым состраданием. Под глазами Виниция, действительно, темнела синева, зрачки лихорадочно блестели, необритая поутру борода оттенила синеватой полосой выдавшиеся челюсти, волосы были всклокочены – он выглядел в самом деле больным. Ирада и златокудрая Эвника также смотрели на него с состраданием, но он, казалось, не замечал их; и он и Петроний столь же мало обращали внимания на присутствие рабынь, как будто возле них вертятся собаки.
– У тебя жар, – заметил Петроний.
– Да.
– Выслушай же меня… Я не знаю, какое средство прописал бы тебе врач, но я знаю, как поступил бы я на твоем месте: в ожидании, пока отыщется Лигия, я поискал бы в другой возмещения утраты. Я видел в твоем доме прекрасные тела. Не возражай мне… Я знаю, что такое любовь, понимаю, что когда страсть внушена одной, другая не может заменить ее. Но красивая рабыня все-таки может доставить хоть временное развлечение…
– Не хочу! – ответил Виниций.
Но Петроний, питавший к нему искреннее расположение и действительно желавший облегчить его страдания, стал придумывать, как бы сделать это.
– Быть может, твои рабыни не представляют для тебя прелести новизны? – сказал он и, посмотрев несколько раз то на Ираду, то на Эвнику, положил руку на бедро златокудрой гречанки, – но взгляни на эту нимфу. Несколько дней тому назад молодой Фонтей Капитон предлагал мне в обмен за нее трех прелестных мальчиков из Клазомен – прекраснейшего тела не изваял, пожалуй, и Скопас. Я сам не понимаю, почему до сих пор остался равнодушным к ней, не ради же Хризотемиды воздержался я! И вот я дарю тебе ее, возьми ее себе!
Златокудрая Эвника, услышав эти слова, мгновенно побледнела как полотно; устремив испуганные взоры на Виниция, она, казалось, обмерла, ожидая его ответа.
Но молодой воин порывисто вскочил со скамьи и, сжав руками виски, заговорил торопливо, как человек, который, терзаемый болезнью, не хочет слышать никаких увещаний:
– Нет, нет!.. К чему мне она, к чему мне все иные женщины… Благодарю тебя, но я отказываюсь! И иду разыскивать по городу Лигию. Прикажи подать галльский плащ с капюшоном. Я пойду на ту сторону Тибра. О, если бы мне удалось увидать хоть Урса!
Воскликнув это, он быстро удалился. Петроний, убедившись, что Виниций в самом деле не в силах усидеть на месте, не старался удержать его. Приняв, однако, отказ молодого человека за проявление временного отвращения ко всем женщинам, кроме Лигии, и не желая быть щедрым лишь на словах, он сказал, обращаясь к рабыне:
– Эвника, выкупайся, умастись благовониями, оденься и ступай в дом Виниция.
Гречанка упала перед ним на колени и, простирая руки, стала умолять, чтобы он не удалял ее из дома. Она не пойдет к Виницию, она предпочитает носить здесь дрова в гипокауст, чем быть там первою между слугами. Она не хочет, не может! И умоляет его сжалиться над нею. Пусть он прикажет бичевать ее хоть ежедневно, лишь бы только не отсылал ее из дома.
Эвника, дрожа как лист от страха и вместе с тем восторженного возбуждения, простирала к нему руки, а он с изумлением слушал ее. Рабыня, осмеливающаяся отвечать мольбами на приказание, заявляющая: «Я не хочу и не могу», – была явлением столь неслыханным в Риме, что Петроний почти не верил своим ушам. Наконец брови его сдвинулись. Он был слишком изысканным, чтобы снизойти до жестокости. Рабам его предоставлялось больше свободы, чем всем другим, особенно в отношении разврата, от них требовалось только, чтобы они образцово прислуживали и волю господина чтили наравне с божьей. Однако когда рабы нарушали одно из этих двух требований, Петроний, не задумываясь, подвергал их обычным наказаниям. Кроме того, он не выносил противоречий и всего, что нарушало его спокойствие; посмотрев поэтому на коленопреклоненную рабыню, он сказал ей:
– Позови ко мне Тирезия и возвратись вместе с ним.
Эвника встала, дрожа, со слезами на глазах, и ушла; вскоре она вернулась с надсмотрщиком над атрием, критянином Тирезием.
– Возьми Эвнику, – сказал ему Петроний, – и дай ей двадцать пять ударов, но так, однако, чтобы не испортить кожи.
Затем он удалился в библиотеку и, сев к столу из розового мрамора, принялся работать над своим «Пиром Тримальхиона».
Но бегство Лигии и болезнь маленькой Августы слишком отвлекали его мысли, так что он поработал недолго. Особенно важным событием казалась ему болезнь. Петроний сообразил, что если цезарь поверит в околдование Лигией маленькой Августы, ответственность может пасть и на него, так как девушку препроводили во дворец по его просьбе. Он надеялся, однако, что при первом же свидании с цезарем сумеет каким-нибудь образом объяснить ему всю нелепость подобного предположения; он рассчитывал отчасти и на некоторую слабость, которую питала к нему Поппея, – хотя она и старалась тщательно скрыть это чувство, тем не менее Петроний успел догадаться. Подумав немного, он пожал плечами, убедившись в неосновательности своих опасений, и решил спуститься в триклиний, позавтракать и затем приказать отнести себя еще раз во дворец, а потом на Марсово поле и к Хризотемиде.
Идя в триклиний, у входа в коридор, предназначенный для слуг, Петроний заметил среди других рабов стройную фигуру Эвники и, забыв, что приказал Тирезию лишь высечь ее, снова сдвинул брови и стал оглядываться, ища его.
Не найдя Тирезия среди прислуги, он обратился к Эвнике:
– Высекли ли тебя?
Она вторично бросилась к его ногам, приложила к устам край его тоги и ответила:
– О да, господин! Меня наказали, о да, господин!
В голосе ее звучали радость и благодарность. Она, очевидно, полагала, что наказание должно заменить удаление ее из дома и что теперь она может уже остаться. Петрония, который понял это, удивила упорная настойчивость рабыни; он был слишком проницательным знатоком человеческой души, чтобы не догадаться, что одна лишь любовь могла быть причиной такого упорства.
– У тебя есть любовник в этом доме? – спросил он.
Она подняла на него свои голубые, влажные от слез, глаза и ответила так тихо, что едва можно было расслышать:
– Да, господин!..
Эвника, с ее чудными глазами, с зачесанными назад золотыми волосами, с выражением боязни и надежды в лице, была так прекрасна, смотрела на него таким молящим взором, что Петроний, который, как философ, сам провозглашал могущество любви и в качестве эстетика почитал всякую красоту, почувствовал к рабыне некоторую жалость.
– Который из них твой возлюбленный? – спросил он, указывая головой на рабов.
Но вопрос его остался без ответа. Эвника безмолвно склонила лицо к самым ногам его и замерла как изваяние.
Петроний осмотрел рабов, между которыми были красивые и статные юноши, но ни одно лицо ничего не объяснило ему; он увидел лишь на всех устах какие-то странные улыбки. Посмотрев еще раз на лежащую у его ног Эвнику, он молча удалился в триклиний.
Позавтракав, он приказал отнести себя во дворец, а оттуда к Хризотемиде, у которой пробыл до поздней ночи. По возвращении домой он призвал к себе Тирезия.
– Наказал ли ты Эвнику?
– Да, господин. Ты не позволил, однако, повредить ей кожу.
– Не отдал ли я еще какого-нибудь приказания?
– Нет, господин, – тревожно ответил Тирезий.
– Хорошо. Кто из рабов стал ее любовником?
– Никто, господин.
– Что ты знаешь про нее?
Тирезий заговорил неуверенным голосом:
– Эвника никогда не уходит ночью из кубикула, в котором спит вместе со старою Акризионой и Ифидой; после твоего купанья она никогда не остается в бане… Другие рабыни смеются над нею и называют ее Дианой.
– Довольно, – сказал Петроний. – Мой родственник Виниций, которому я подарил сегодня утром Эвнику, не принял ее, следовательно, она останется дома. Можешь уйти.
– Дозволишь ли мне, господин, сказать еще несколько слов об Эвнике?
– Я приказал тебе сообщить все, что ты знаешь о ней.
– Господин, вся челядь говорит о бегстве девушки, которая должна была поселиться в доме благородного Виниция. После твоего ухода Эвника пришла ко мне и сказала, что знает человека, который сумеет отыскать эту девушку.
– Что это за человек? – спросил Петроний.
– Я не знаю его, господин, я думал, однако, что должен тебе сообщить об этом.
– Хорошо. Пусть этот человек ожидает завтра в моем доме прибытия трибуна, которого ты попросишь от моего имени поутру посетить меня.
Тирезий поклонился и вышел.
Петроний невольно стал думать об Эвнике. Сначала ему представилось вполне ясным, что молодая рабыня хочет, чтобы Виниций нашел Лигию только потому, чтобы не быть вынужденной заменить ее в доме трибуна. Но потом ему пришло в голову, что человек, воспользоваться услугами которого предлагает Эвника, может быть, ее любовник, и это предположение показалось ему вдруг неприятным. Проверить его было, конечно, не трудно: стоило только приказать, чтобы позвали Эвнику, но время было уже позднее, Петроний чувствовал себя утомленным после продолжительного пребывания у Хризотемиды и его клонило ко сну. Идя в спальню, он припомнил, однако, неизвестно почему, что в углах глаз Хризотемиды подметил сегодня морщинки. Он подумал, кроме того, что в действительности она далеко не такая красавица, какою слывет в Риме, и что Фонтей Капитон, предлагавший трех мальчиков из Клазомен за Эвнику, хотел купить ее, однако, слишком дешево.
III
На следующий день, едва только Петроний успел одеться в унктуарие, как пришел приглашенный Тирезием Виниций. Он знал уже, что от городских ворот не получено никаких новых сведений, и известие это, вместо того чтобы порадовать трибуна, как доказательство, что Лигия находится в Риме, еще более огорчило его, так как он стал предполагать, что Урс мог вывести ее из города немедленно после похищения и, следовательно, раньше, чем рабы Петрония были посланы сторожить у ворот. Положим, осенью, когда дни становились короче, ворота запирали довольно рано, но их также и отпирали для уезжающих, число которых бывало довольно значительно. За городские стены можно было выбраться и другими путями, которые были, например, хорошо известны рабам, желавшим бежать из Рима. Виниций разослал на все дороги, ведущие в провинцию, своих слуг, поручив им раздать начальникам стражи заявления о двух беглых рабах, с подробными приметами Урса и Лигии и назначением наград за их поимку. Представлялось, однако, сомнительным – настигнет ли исчезнувших эта погоня, а если настигнет, сочтут ли местные власти возможным задержать беглецов на основании частного требования, не засвидетельствованного претором. Между тем засвидетельствовать свои заявления Виниций не успел. Сам он весь вчерашний день отыскивал Лигию по всем закоулкам города, переодевшись рабом, но не нашел ни малейшего следа или указания. Он встречал лишь рабов Авла, но те, по-видимому, также чего-то искали, – и это подтвердило предположение, что похитили Лигию не Авл и Помпония и что они также не знают, что сталось с нею.
Когда Тирезий сообщил, что нашелся человек, берущийся отыскать Лигию, Виниций бросился опрометью к дому Петрония и, едва поздоровавшись с ним, принялся расспрашивать про этого человека.
– Мы сейчас увидим его, – сказал Петроний. – Это один знакомый Эвники, которая сейчас придет собирать складки моей тоги и сообщит нам о нем более подробные сведения.
– Та рабыня, которую ты вчера хотел подарить мне?
– Та, от которой ты вчера отказался, за что я, впрочем, признателен тебе, потому что во всем городе нет лучшей «одевальщицы».
Эвника вошла, едва он произнес эти слова, и, взяв лежавшую на кресле, отделанном слоновой костью, тогу, развернула ее, чтобы набросить на плечи Петрония. Кроткое лицо ее прояснилось, в глазах светилась радость.
Петроний посмотрел на нее, и она показалась ему прелестной. Когда, облачив его в тогу, она принялась собирать складки, наклоняясь иногда для расправления их, он заметил, что руки Эвники отливают дивным бледно-розовым оттенком, а грудь и плечи – прозрачным отблеском перламутра или алебастра.
– Эвника, – сказал он, – пришел ли тот человек, о котором ты говорила вчера Тирезию?
– Да, господин.
– Как зовут его?
– Хилоном Хилонидом, господин.
– Кто он такой?
– Лекарь, мудрец и предвещатель, умеющий читать в книге человеческих судеб и предсказывать будущее.
– Предсказал ли он будущее тебе?
Эвника вспыхнула, даже уши и шея ее порозовели от внезапно набежавшего румянца.
– Да, господин.
– Что же он предсказал тебе?
– Что меня ожидают огорчение и счастье.
– Огорчение нанесено тебе вчера рукою Тирезия, следовательно, должно исполниться и предсказание о счастье.
– Оно уже исполнилось, господин.
– В чем же состоит это счастье?
Она чуть слышно прошептала:
– Я осталась.
Петроний положил руку на ее златокудрую голову.
– Ты хорошо собрала сегодня складки, и я доволен тобою, Эвника.
Когда его рука прикоснулась к молодой гречанке, глаза ее мгновенно подернулись дымкой блаженства и грудь порывисто заколебалась.
Петроний с Виницием перешли в атрий, где ожидал их Хилон Хилонид, который, увидев их, отвесил низкий поклон. Петроний невольно улыбнулся, вспомнив о своем вчерашнем предположении, что это, быть может, любовник Эвники.
Человек, стоявший перед ним, не мог быть ничьим любовником. В его странной наружности было что-то и отвратительное и смешное. Он не был стар: в его неопрятной бороде и курчавых волосах лишь кое-где просвечивала седина. Живот он имел впалый, плечи – сгорбленные, так что на первый взгляд казался горбатым, а над этим горбом возвышалась большая голова с лицом обезьяньим и вместе с тем с лисьими пытливыми глазами. Желтоватая кожа его лица была испещрена прыщами, а сплошь покрытый ими нос свидетельствовал о чрезмерном пристрастии к бутылке. Небрежная одежда, состоящая из темной туники, вытканной из козьей шерсти, и такого же дырявого плаща, говорила о действительной или притворной нужде.
Петронию при виде его вспомнился гомеровский Терсит; ответивши поэтому склонением руки на поклон Хилона, он сказал:
– Приветствую тебя, божественный Терсит: что поделывают твои шишки, которыми наградил тебя под Троей Улисс, и как поживает он сам на Елисейских полях?
– Благородный господин, – ответил Хилон Хилонид, – мудрейший из умерших, Улисс, посылает через мое посредство мудрейшему из живущих, Петронию, свой привет и просьбу, чтобы ты одел новым плащом мои шишки.
– Клянусь Гекатой, – воскликнул Петроний, – ответ стоит плаща!
Нетерпеливый Виниций прервал дальнейший разговор, приступив прямо к делу. Он спросил Хилонида:
– Достаточно ли ознакомился ты с задачей, за которую берешься?
– Не трудно узнать, в чем дело, – ответил Хилон, – когда две фамилии двух знатных домов не говорят ни о чем другом, а вслед за ними повторяет известие половина Рима. Вчера ночью похищена девушка, воспитанная в доме Авла Плавция, по имени Лигия или, точнее, Каллина, которую твои рабы, господин, препровождали из дворца цезаря в твой дом. Я берусь отыскать ее в Риме, или, если, – что представляется маловероятным, – она удалилась из города, указать тебе, благородный трибун, куда она убежала и где скрывается.
– Хорошо, – сказал Виниций, которому понравилась сжатость ответа, – какими же средствами располагаешь ты для этого?
Хилон лукаво усмехнулся:
– Средствами обладаешь ты, господин, – я имею только ум.
Петроний также улыбнулся, так как остался вполне доволен своим гостем.
«Этот человек может отыскать девушку», – подумал он.
Тем временем Виниций сдвинул свои сросшиеся брови и сказал:
– Если ты меня обманываешь ради наживы, я прикажу насмерть заколотить тебя палками.
– Я – философ, господин, а философ не может льститься на наживу, в особенности на ту, которую ты великодушно обещаешь.
– Как, ты философ? – спросил Петроний. – Эвника сказала мне, что ты лекарь и гадатель. Как ты познакомился с Эвникой?
– Она приходила ко мне за советом, так как слава моя дошла до ее ушей.
– Какого же совета просила она?
– Касательно любви, господин. Она хотела излечиться от несчастной любви.
– И ты исцелил ее?
– Я сделал больше, господин, так как дал ей амулет, обеспечивающий взаимность. В Пафосе, на острове Кипре, есть храм, в котором хранится перевязь Венеры. Я дал ей две нити из этой перевязи, заключив их в скорлупу миндаля.
– И, конечно, ты взял хорошую цену?
– За взаимность никогда нельзя заплатить достаточно, я же, лишенный двух пальцев на правой руке, коплю деньги на покупку невольника-писца, который записывал бы мои мысли и сохранил бы мое учение для мира.
– К какой же школе принадлежишь ты, божественный мудрец?
– Я киник, потому что ношу дырявый плащ, я стоик, потому что терпеливо переношу нужду, а перипатетик я потому, что, не имея носилок, хожу пешком от виноторговца к виноторговцу и по дороге поучаю тех, которые обещают заплатить за жбан.
– А за жбаном вина ты становишься ритором?
– Гераклит сказал: «Все течет», – а станешь ли ты отрицать, господин, что вино есть жидкость?
– Он учил, что огонь есть божество, и это божество пылает на твоем носу.
– А божественный Диоген из Аполлонии учил, что мир создан из воздуха, и чем теплее воздух, тем совершеннее порождаемые им существа, а из самого горячего воздуха рождаются души мудрецов. А так как осенью наступают холода, – ergo, истинный мудрец должен согревать душу вином… потому что ты также не станешь утверждать, господин, что жбан, хотя бы полпива из окрестностей Капуи или Телезии, не разливает теплоты по всем костям бренного человеческого тела.
– Где твоя родина, Хилон Хилонид?
– Над Эвксинским Понтом. Я родом из Мезембрии.
– Ты велик, Хилон!
– И непризнан! – меланхолически добавил мудрец.
Терпение Виниция снова истощилось. Прельстившись блеснувшею ему надеждой, он хотел, чтобы Хилон тотчас же приступил к поискам, и весь этот разговор показался ему лишь бесполезной потерей времени, за которую он досадовал на Петрония.
– Когда начнешь ты розыски? – сказал он, обращаясь к греку.
– Я уже принялся за них, – ответил Хилон. – Находясь здесь и отвечая на твои благосклонные вопросы, я также ищу. Доверься мне, благородный трибун, и знай, что, если бы ты потерял ремень от обуви, я сумел бы найти ремень или того человека, который поднял его на улице.
– Случалось ли уже тебе исполнять подобные поручения? – спросил Петроний.
Грек возвел глаза к небу.
– Слишком низко ценят нынче добродетель и мудрость, чтобы даже философ не был принужден искать иных средств к пропитанию.
– Какими же средствами пользуешься ты?
– Я стараюсь разузнавать обо всем и снабжаю новостями всех, которые их желают.
– И которые за них платят?
– Ах, господин, мне надо купить писца, не то моя мудрость умрет вместе со мною.
– Если ты не скопил еще денег на новый плащ, заслуги твои, очевидно, не особенно замечательны.
– Скромность не позволяет мне рассказывать о них. Но прими в соображение, господин, что теперь перевелись такие благодетели, которым в прежние времена не было счета и которым осыпать человека золотом за услугу было столь же приятно, как проглотить устрицу из Путеоли. Ничтожны не заслуги мои, а людская благодарность. Если сбежит дорогой раб, кто отыщет его, как не единственный сын моего отца? Когда на стенах появятся надписи против божественной Поппеи, кто обнаружит виновных? Кто разнюхает, что у книготорговцев появились стихи на цезаря? Кто донесет, о чем говорят в домах сенаторов и патрициев? Кто передаст письма, которые не хотят доверить рабам? Кто подслушивает новости у дверей цирюльников, для кого не имеют тайн виноторговцы и помощники пекарей, кому доверяются рабы, кто умеет осмотреть любой дом напролет, от атрия до сада? Кто знает все улицы, переулки, тайные притоны, кто знает, что говорится в банях, в цирке, на рынках, в гимнастических школах, в сараях, у работорговцев и даже в аренариях.
– Ради богов! Довольно, благородный мудрец! – воскликнул Петроний. – Не то мы потонем в твоих заслугах добродетели, мудрости и красноречия. Довольно! Мы хотели узнать, что ты за человек, и узнали!
Виниций обрадовался: он подумал, что этот человек, пущенный по следу, как гончая собака, не остановится, пока не отыщет тайника.
– Хорошо, – сказал он, – нужны ли тебе указания?
– Мне нужно оружие.
– Какое оружие? – спросил с удивлением Виниций.
Грек подставил одну ладонь, а другой рукой показал, будто отсчитывает деньги.
– Такие уж теперь времена, – сказал он со вздохом.
– Значит, ты превратишься в осла, овладевающего крепостью при помощи мешков с золотом? – заметил Петроний.
– Я останусь лишь бедным философом, господин, – смиренно ответил Хилон, – золото имеете вы.
Виниций бросил ему кошелек; грек подхватил его на лету, хотя действительно на правой руке его недоставало двух пальцев.
Затем он поднял голову и сказал:
– Господин, я знаю уже больше, чем ты ожидаешь. Я пришел сюда не с пустыми руками. Я знаю, что девушку похитили не Авл и его супруга, так как я уже расспросил их рабов. Я знаю, что ее нет в Палатинском дворце, где все заняты заболевшею маленькой Августой, и, быть может, я даже догадываюсь, почему вы предпочитаете искать девушку при моем посредстве, а не с помощью стражи и воинов цезаря. Я знаю, что бегству ее содействовал слуга, происходящий из той же страны, где родилась и она. Он не мог найти пособников среди рабов, потому что невольники, действующие всегда сообща, не оказали бы ему поддержки во вред твоим рабам. Ему могли помочь только единоверцы…
– Послушай, Виниций, – прервал Петроний, – не говорил ли я тебе слово в слово то же самое?
– Я считаю это за честь для себя, – сказал Хилон. – Девушка, господин, – продолжал он, обращаясь снова к Виницию, – несомненно, поклоняется тому же божеству, которое чтит Помпония, – эта добродетельнейшая из римлянок, истинная матрона «stolatas». Слышал я и о том, что Помпонию тайно судили за поклонение каким-то иноземным божествам, но мне не удалось выведать от слуг, что это за божества и как называются поклоняющиеся им. Если бы я узнал это, я обратился бы к ним, сделался бы самым набожным среди них и заручился бы их доверием. Но ты, господин, как мне известно также, провел несколько недель в доме благородного Авла. Не можешь ли ты дать мне какие-нибудь сведения об этом?
– Не могу, – ответил Виниций.
– Вы долго расспрашивали меня о разных вещах, благородные господа, и я отвечал на вопросы, – позвольте же теперь мне расспросить вас. Не видел ли ты, благородный трибун, каких-либо статуэток, жертв, знаков или амулетов на Помпонии или на твоей божественной Лигии? Не заметил ли ты, что они чертят какие-либо изображения, понятные только для них?
– Постой!.. Да, я видел однажды, что Лигия начертила на песке рыбу.
– Рыбу? А-а! О-о-о! Сделала ли она это один раз, или повторила неоднократно?
– Только один раз.
– И ты уверен, господин, что она начертила рыбу?
– Да, я уверен в этом! – ответил заинтересованный Виниций. – Догадываешься ли ты, что это означает?
– Еще бы я не догадался! – воскликнул Хилон.
Поклонившись, он добавил в виде прощального приветствия:
– Пусть Фортуна осыплет вас поровну всеми дарами, благородные господа.
– Прикажи дать себе плащ! – сказал ему на дорогу Петроний.
– Улисс благодарит тебя за Терсита, – отвечал грек.
И, поклонившись еще раз, он вышел из атрия.
– Что же скажешь ты об этом благородном мудреце? – спросил Виниция Петроний.
– Скажу, что он отыщет Лигию! – радостно воскликнул Виниций, – но добавлю, что если бы существовало царство плутов, он мог бы быть царем его.
– Несомненно. Я должен поближе познакомиться с этим стоиком, а пока прикажу освежить курением атрий.
А Хилон Хилонид, задрапировавшись в новый плащ, побрякивал под его складками полученным от Виниция кошельком, радуясь как тяжести его, так и звонкости. Идя неторопливо и оглядываясь, не следят ли за ним из дома Петрония, он миновал портик Ливии и, добравшись до угла Clibus Virbius[30], свернул в Субурру.
«Надо зайти к Спору, – рассуждал он сам с собой, – и совершить легкое возлияние вином Фортуне. Я нашел наконец то, чего искал издавна. Он молод, вспыльчив, щедр, как рудники Кипра, и за эту лигийскую коноплянку готов отдать половину состояния. Следует, однако, обращаться с ним осторожно, потому что его насупленные брови не предвещают ничего хорошего. Увы, волчата господствуют ныне над миром!.. Я не так боялся бы этого Петрония. О боги, зачем посредничество оплачивается теперь лучше, чем добродетель!.. А, она начертила тебе на песке рыбу? Если я знаю, что это означает, пусть подавлюсь куском козьего сыра! Но я узнаю! А так как рыбы живут под водой и производить розыски под водой труднее, чем на суше, ergo: он заплатит мне за эту рыбу отдельно. Еще один такой кошелек, и мне можно будет забросить дедовскую котомку и купить себе раба… Но что сказал бы ты, Хилон, если бы я посоветовал тебе приобрести не раба, а рабыню?.. Я знаю тебя! Ручаюсь, что ты согласишься!.. Если бы она была красива, как, например, Эвника, ты и сам помолодел бы около нее и вместе с тем приобрел бы в ней источник честного и верного дохода. Я продал этой бедной Эвнике две нитки из моего собственного старого плаща. Она глупа, но если бы Петроний подарил мне ее, я не отказался бы… Да, да, Хилон, сын Хилона… Ты лишился отца и матери… Ты осиротел, так купи на утешение себе хоть рабыню. Она, конечно, должна где-нибудь помещаться, следовательно, Виниций наймет для нее квартиру, в которой приютишься и ты; она должна и одеться, следовательно, Виниций заплатит за ее одежду, и должна питаться, следовательно, он будет кормить ее. Ох, как трудно жить на свете! Где те времена, когда за обол можно было купить столько бобов с солониной, сколько влезет в обе руки, или кусок козьей кишки, налитой кровью, длиною равный руке двенадцатилетнего мальчика!.. А вот и этот мошенник Спор! В лавке виноторговца легче всего навести справки».
Он вошел в винницу и приказал подать жбан «темного»; заметив недоверчивый взгляд хозяина, он вытащил золотую монету из кошелька и, положив ее на стол, сказал:
– Спор, я работаю сегодня с Сенекой от рассвета до полудня, и посмотри, чем мой приятель отдарил меня на дорогу.
Круглые глаза Спора при виде монеты сделались еще более круглыми. Вино мгновенно появилось перед Хилоном, который, обмакнув в него палец, начертил на столе рыбу и сказал:
– Знаешь, что это означает?
– Рыба? Рыба и есть – рыба!
– Ты глуп, хотя и разбавляешь вино таким количеством воды, что в нем могла бы оказаться и рыба. Это – символ, на языке философов означающий: «улыбка Фортуны». Если бы ты разгадал, быть может, и ты добился бы счастья. Смотри, почитай философию, не то я переменю винницу, к чему давно уже склоняет меня мой близкий друг Петроний.
IV
В течение нескольких дней Хилон нигде не показывался. Виниций, узнав от Актеи, что Лигия любит его, во сто крат пламеннее желал отыскать молодую девушку. Он приступил к поискам собственными силами, так как не желал, да и не мог просить помощи у цезаря, внимание которого всецело было поглощено опасной болезнью маленькой Августы.
Ей не помогли ни жертвы, принесенные в храмах, ни молитвы и обеты, ни искусство врачей и всевозможные чудодейственные средства, к которым прибегнули, когда исчезла последняя надежда на выздоровление. Через неделю девочка умерла. Римский двор и столица облеклись в траур. Цезарь, при рождении ребенка безумствовавший от радости, безумствовал теперь от горя; замкнувшись в своих покоях, он целых два дня не принимал пищи. Во дворце толпились сенаторы и августианцы, спешившие выразить свое горе и соболезнование, но Нерон не хотел никого видеть. Сенат собрался на чрезвычайное заседание, на котором умершая девочка была провозглашена богиней; сенаторы решили посвятить ей храм и назначить для служения новой богине особого жреца. В других храмах также приносились жертвы в честь умершей; ее статуи отливались из драгоценных металлов, а погребению была придана беспримерная торжественность. Народ удивлялся необузданным проявлениям скорби, которой предавался цезарь, плакал вместе с ним, протягивал руки к подачкам и в особенности тешился необычайным зрелищем.
Смерть маленькой Августы встревожила Петрония. Весь Рим узнал уже, что Поппея приписывает ее колдовству. Слова Поппеи усердно повторялись врачами, обрадовавшимися удобному случаю оправдать безуспешность своих усилий; вслед за ними то же самое заговорили жрецы, жертвы которых оказались бесполезными, прорицатели, дрожавшие за свою жизнь, и народ.
Петроний радовался теперь, что Лигия скрылась; так как он, в сущности, не желал зла семье Авла, а себе и Виницию желал добра, то, как только убрали кипарис, посаженный в знак траура перед Палатинским дворцом, он отправился на прием, устроенный для сенаторов и августианцев, чтобы убедиться, насколько Нерон верит известию о чародействе, и предотвратить последствия, которые могли бы из этого возникнуть.
Петроний, зная Нерона, допускал, что он, хотя бы даже не верил в колдовство, будет притворяться, что верит, чтобы обмануть свое собственное горе и выместить его на ком-нибудь, а главное – предупредить толки о том, что боги начинают карать его за преступления. Петроний не думал, чтобы цезарь мог искренно и глубоко любить даже собственное свое дитя, хотя он проявлял страстную привязанность к нему. Петроний не сомневался, что Нерон, во всяком случае, будет преувеличивать свое горе. И, действительно, он не ошибся. Нерон выслушивал утешения сенаторов и всадников с окаменелым лицом, устремив глаза в одну точку; видно было, что если он в самом деле страдает, то в то же время думает и о том, какое впечатление производит его отчаяние на окружающих. Нерон разыгрывал роль Ниобеи, точно актер, изображающий на сцене олицетворение родительской скорби. Он не сумел, однако, как бы окаменеть в безмолвном горе, по временам он то делал жесты, точно посыпая голову прахом, то глухо стонал. Увидев Петрония, он стал восклицать с трагическим пафосом, очевидно, желая, чтобы все слышали его:
– Eheu!..[31] Ты виновен в ее смерти! По твоему совету допущен в эти стены злой дух, который одним взглядом высосал жизнь из ее груди… Горе мне! Лучше бы моим глазам не смотреть на светлый лик Гелиоса… Горе мне! eheu! eheu!..
Цезарь, все повышая голос, огласил зал отчаянными воплями. Петроний мгновенно решился поставить все на один бросок костей. Протянув руку, он быстро сорвал с шеи Нерона шелковый платок, который тот носил постоянно, и приложил к губам Нерона.
– Цезарь! – торжественно произнес он, – сожги Рим, сожги с горя весь мир, но сохрани нам свой голос!
Изумились все присутствующие, остолбенел на мгновение сам Нерон, – один только Петроний стоял невозмутимо. Он хорошо знал, что делает: Петроний не забыл, что Терпносу и Диодору был отдан приказ, не смущаясь, закрывать цезарю рот, чтобы его голос не пострадал от излишнего напряжения.
– Цезарь, – продолжал Петроний столь же внушительным и скорбным тоном, – мы понесли безмерную утрату, так пусть же останется нам в утешение хоть это сокровище!
Лицо Нерона задрожало, и вскоре из глаз его полились слезы; положив руки на плечи Петрония, цезарь вдруг преклонил голову к его груди и стал повторять сквозь слезы:
– Только ты, Петроний, вспомнил об этом, только ты, Петроний! Только ты!
Тигеллин позеленел от зависти, а Петроний снова обратился к Нерону:
– Поезжай в Анций! Там она явилась на свет, там тебя осенила радость, там снизойдет на тебя успокоение. Пусть морской воздух освежит твое божественное горло; пусть грудь твоя подышит соленой влагой. Мы, твои верные слуги, всюду последуем за тобой, и когда утолим твое горе сочувствием, ты утешишь нас своей песней.
– Да, – жалобно ответил Нерон, – я напишу гимн в честь ее и положу его на музыку.
– А потом ты поедешь в Байи, оживишь себя лучами жаркого солнца.
– А затем поищу забвения в Греции.
– В отчизне поэзии и песен!
Тяжелое, удрученное настроение постепенно рассеивалось, подобно облакам, закрывающим солнце. Завязалась беседа, по-видимому, еще исполненная грусти, но, в сущности, оживленная замыслами о будущем путешествии; говорили о том, как будет подвизаться цезарь в качестве артиста, обсуждали празднества, которые необходимо устроить по случаю ожидаемого приезда царя Армении, Тиридата.
Тигеллин, правда, попробовал было напомнить о колдовстве, но Петроний принял вызов уже с полною уверенностью в своей победе.
– Тигеллин, – сказал он, – неужели ты думаешь, что колдовство может повредить богам?
– О чарах говорил сам цезарь, – ответил придворный.
– Устами цезаря гласило горе, но скажи, что ты сам думаешь об этом?
– Боги слишком могущественны, чтобы на них могли влиять чары.
– Но разве ты не признаешь божественности цезаря и его родственников?
– Peractum est![32] – отозвался стоявший возле Эприй Марцелл, повторяя народный возглас, отмечающий в цирке, что гладиатору сразу нанесен смертельный удар.
Тигеллин затаил в себе гнев. Между ним и Петронием давно уже существовало соперничество относительно Нерона. Тигеллин превосходил Петрония в том отношении, что Нерон в его присутствии почти вовсе не стеснялся, но до сих пор Петроний при столкновениях с Тигеллином всегда побеждал его сообразительностью и остроумием.
Так случилось и теперь. Тигеллин замолчал и старался лишь твердо запомнить имена сенаторов и всадников, которые толпою окружили удалявшегося в глубь залы Петрония, полагая, что после произошедшего он, несомненно, сделается первым любимцем цезаря.
Петроний, выйдя из дворца, приказал отнести себя к Виницию; рассказав ему о столкновении с цезарем и Тигеллином, он сказал:
– Я отвратил опасность не только от Авла Плавция и Помпонии, но и от нас обоих, а, главное, – от Лигии, которую не будут разыскивать хотя бы потому, что я убедил рыжебородую обезьяну поехать в Анций, а оттуда – в Неаполь или в Вайи. Он непременно поедет, так как в Риме до сих пор не решался выступить перед публикой в театре, а я знаю, что он давно уже собирается выступить на сцене в Неаполе. Затем он мечтает о Греции, где ему хочется петь во всех главнейших городах, после чего он, со всеми венками, которые ему поднесут «graeculi», отпразднует триумфальный въезд в Рим. В это время мы можем без помехи искать Лигию и, если найдем, скрыть в безопасном месте. Ну а что ж, наш почтенный философ еще не приходил?
– Твой почтенный философ – обманщик. Он так и не показался, и, конечно, мы более не увидим его!
– А у меня сложилось более лестное для него представление если не о его честности, то об уме. Он однажды уже пустил кровь твоему кошельку, – будь уверен, что он придет хотя бы только для того, чтобы пустить ее еще раз.
– Пусть остерегается, как бы я сам не сделал ему кровопускания.
– Не делай этого, отнесись к нему терпеливо, пока надлежащим образом не убедишься в обмане. Не давай ему больше денег, а вместо того обещай ему щедрую награду, если он принесет тебе верные известия. Ну а что ты предпринимаешь сам по себе?
– Два мои вольноотпущенника, Нимфидий и Демас, разыскивают ее во главе шестидесяти людей. Тому из рабов, который найдет ее, обещана свобода. Кроме того, я послал нарочных на все дороги, ведущие из Рима, чтобы они расспрашивали в гостиницах о лигийце и девушке. Сам я бегаю по городу днем и ночью, надеясь на счастливый случай.
– Что бы ты ни узнал, напиши мне, так как я должен ехать в Анций.
– Хорошо.
– А если в одно прекрасное утро, встав с ложа, ты скажешь себе, что для какой-нибудь девчонки не стоит мучиться и столько хлопотать, то приезжай в Анций. Там вволю будет и женщин и утех.
Виниций стал ходить быстрыми шагами, Петроний смотрел на него некоторое время, потом сказал:
– Скажи мне откровенно, не как мечтатель, который что-то в себе таит и к чему-то себя возбуждает, а как человек рассудительный, который отвечает другу: ты все по-прежнему увлечен Лигией?
Виниций на минуту остановился и так взглянул на Петрония, как будто его пред тем не видал, потом снова начал ходить. Видно было, что он сдерживает в себе неукротимый порыв. Но в глазах его от сознания собственного бессилия, от скорби, гнева и неутолимой тоски заблестели две слезы, которые сильнее говорили Петронию, чем красноречивейшие слова.
Задумавшись на минуту, он сказал:
– Не Атлас, а женщина держит мир на своих плечах, и иногда играет им, как мячиком.
– Да! – промолвил Виниций.
И они стали прощаться.
Но в эту минуту невольник дал знать, что Хилон Хилонид ожидает в прихожей и просит позволения предстать пред лицом господина.
Виниций приказал его немедленно впустить, а Петроний сказал:
– Что? Не говорил я тебе? Клянусь Геркулесом! Сохрани только спокойствие, не то он тобой овладеет, а не ты им.
– Привет и хвала сиятельному военному трибуну и тебе, господин! – сказал, входя, Хилон. – Да будет ваше счастье равным вашей славе, а слава да обежит весь свет, от Геркулесовых столпов и до границ Арзацидов.
– Здравствуй, законодатель добродетелей и мудрости, – отвечал Петроний.
Но Виниций спросил с притворным спокойствием:
– Какие известия приносишь ты?
– В первый раз, господин, я принес тебе надежду, а теперь приношу уверенность в том, что девица будет найдена.
– Это значит, что ты не нашел ее?
– Да, господин, но я нашел, что значит сделанный ею рисунок: я знаю, кто эти люди, которые ее отбили, и знаю, среди поклонников какого божества следует ее искать.
Виниций хотел вскочить с кресла, на котором сидел, но Петроний положил ему руку на плечо и, обращаясь к Хилону, сказал:
– Говори дальше!
– Ты, господин, вполне уверен, что эта девица начертила на песке рыбу?
– Да! – воскликнул Виниций.
– Ну, так она – христианка, и ее отбили христиане.
Настало молчание.
– Послушай, Хилон, – сказал Петроний, – мой родственник назначил тебе за отыскание Лигии значительное вознаграждение, но и не меньшее количество розог, если ты вздумаешь его обманывать. В первом случае ты купишь себе не одного, а трех писцов, во втором же – философия всех семи мудрецов, с твоей собственной в придачу, послужит для тебя целебной мазью.
– Господин, эта девица – христианка! – воскликнул грек.
– Постой, Хилон, ты человек не глупый. Мы знаем, что Юния Силана с Кальвией Криспиниллой обвинили Помпонию Грецину в исповедовании христианского суеверия, но нам также известно, что домашний суд освободил ее от этого извета. Неужели ты хочешь теперь снова возбуждать его? Неужели ты думаешь нас убедить в том, что Помпония, а вместе с нею Лигия могут принадлежать к врагам человеческого рода, к отравителям источников и колодцев, к почитателям ослиной головы, к людям, которые убивают детей и предаются грязнейшему разврату? Смотри, Хилон, как бы высказываемый тобою тезис не отразился на твоей спине в виде антитезы.
Хилон развел руками в знак того, что это не его вина, и сказал:
– Господин, произнеси по-гречески следующие слова: Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель.
– Хорошо. Вот я назвал!.. Но что же из этого?
– А теперь возьми первые буквы каждого из этих слов и сложи их так, чтобы они составили одно выражение.
– Рыба! – сказал с удивлением Петроний.
– Вот почему изображение рыбы сделалось символом христианства! – ответил с гордостью Хилон.
Все замолчали. В выводах грека было, однако, нечто до такой степени поразительное, что оба друга не могли не задуматься.
– Виниций, – спросил Петроний, – не ошибаешься ли ты? Действительно ли Лигия нарисовала рыбу?
– Клянусь всеми подземными богами, можно с ума сойти! – воскликнул с запальчивостью молодой человек. – Если бы она начертила птицу, я так и сказал бы, что – птицу!
– Следовательно, она христианка! – повторил Хилон.
– Это значит, – сказал Петроний, – что Помпония и Лигия отравляют колодцы, убивают украденных на улице детей и предаются разврату! Какой вздор! Ты, Виниций, был дольше меня в их доме, я был недолго, но я достаточно знаю Авла и Помпонию. Если рыба служит символом христиан, – против чего действительно трудно возражать, – и если они христианки, то, клянусь Прозерпиной, очевидно, христиане не то, за что мы их принимаем.
– Ты говоришь, господин, как Сократ, – отвечал Хилон. – Кто когда-нибудь расспрашивал христианина? Кто ознакомился с их учением? Когда я три года тому назад ехал из Неаполя в Рим (о, зачем я там не остался!), ко мне присоединился один человек, именем Главк, о котором говорили, что он христианин, и, несмотря на то, я убедился, что он был человек хороший и добродетельный.
– Уж не от этого ли добродетельного человека ты узнал, что значит рыба?
– Увы, господин! На дороге в одной гостинице кто-то пырнул почтенного старца ножом, а его жену и ребенка захватили торговцы невольниками, я же, защищая их, потерял вот эти два пальца. Но у христиан, как говорят, нет недостатка в чудесах, и я надеюсь, что пальцы у меня отрастут.
– Как так? Разве ты сделался христианином?
– Со вчерашнего дня, господин, со вчерашнего дня: эта рыба сделала меня христианином. Смотри, какая, однако, в ней сила! Чрез несколько дней я буду самым ревностным из ревностных, чтобы они допустили меня до всех своих тайн, а когда меня допустят до всех тайн, я узнаю, где скрывается девица. Тогда, быть может, мое христианство лучше заплатит мне, чем моя философия. Я дал обет Меркурию, что если он поможет мне найти девицу, то я принесу ему в жертву двух телок одного возраста и одинакового роста, которым велю вызолотить рога.
– Значит, твое христианство со вчерашнего дня и твоя старая философия позволяют тебе верить в Меркурия?
– Я всегда верю в то, во что мне следует верить, – это есть моя философия, которая должна прийтись по вкусу в особенности Меркурию. К несчастью, вы, достойные господа, хорошо знаете, какой это подозрительный бог. Он не верит даже обетам беспорочных философов и, быть может, хотел бы сначала получить телок, а это потребует огромных затрат: не каждый может быть Сенекой, и мне бы с этим не справиться, разве вот благородный Виниций пожелает в счет обещанной суммы… сколько-нибудь…
– Ни обола, Хилон! – отрезал Петроний. – Ни обола! Щедрость Виниция превзойдет твои надежды, но только тогда, когда Лигия будет найдена, то есть когда укажешь нам ты ее убежище; Меркурий должен поверить тебе в долг две телки, хотя меня не удивляет, что он делает это неохотно, – в этом я вижу его ум.
– Выслушайте меня, достойные господа. Сделанное мною открытие – великое открытие, потому что хотя я до сих пор не нашел девицы, но зато отыскал дорогу, на которой следует ее искать. Вы разослали вольноотпущенников и рабов по всему городу и по провинциям, а дал ли вам указание хоть один из них? Нет! Я один дал. Я скажу вам больше. Между вашими невольниками могут быть христиане, о которых вы не знаете, так как суеверие это распространилось уже повсюду, и они вместо того, чтобы помогать вам, будут изменять. Худо уже и то, что меня здесь видят, и потому ты, благородный Петроний, обяжи Эвнику молчанием, а ты, сиятельный Виниций, разгласи, что я тебе продаю мазь, употребление которой дает лошадям верную победу в цирке… Я один буду искать и один найду беглецов; вы же доверьтесь мне и знайте, что сколько бы я ни получил вперед, это будет для меня только поощрением, так как я всегда буду надеяться на еще большие награды, и тем более буду уверен, что обещанная награда меня не минует. Да, так-то! Я, как философ, презираю деньги, хотя ими не пренебрегают ни Сенека, ни даже Музоний и Карнут, которые, однако, не лишились пальцев во время защиты кого-либо и которые могут сами писать и завещать свои имена потомству. Но, кроме невольника, которого я намереваюсь купить, и Меркурия, которому обещал телок (а вы знаете, как вздорожал скот), сами розыски сопряжены с множеством расходов. Выслушайте меня терпеливо. За эти несколько дней у меня на ногах сделались раны от постоянной ходьбы. Я заходил и в винные погребки покалякать с людьми, и в пекарни, и к мясникам, и к продавцам оливок, и к рыбакам. Я обегал все улицы и закоулки, побывал в притонах беглых рабов, проиграл около ста ассов в мору; заходил в прачечные, в сушильни и харчевни, видел погонщиков мулов и резчиков; видел людей, которые лечат от болезней пузыря и вырывают зубы; беседовал с продавцами сушеных фиг, был на кладбищах, – а знаете ли, зачем? Для того чтобы везде чертить изображение рыбы, смотреть людям в глаза и слушать, что они скажут, когда увидят этот знак. Долго я ничего не мог добиться, но раз встретил у фонтана старого невольника, который черпал воду ведрами и плакал. Подойдя к нему, я спросил о причине слез. Он мне ответил, когда мы сели на ступенях фонтана, что целую жизнь он собирал сестерций за сестерцием, чтобы выкупить из неволи любимого сына, но что его господин, какой-то Павза, как только увидел деньги, забрал их, а сына удержал в рабстве. «И вот я плачу, говорил мне старик, хотя твержу: да будет воля Божия! Но не могу, бедный грешник, воздержаться от слез». Тогда я, как бы пораженный предчувствием, омочил палец в ведре и начертил рыбу, а он заметил: «И я надеюсь на Христа». Я спросил его: «Ты меня узнал по этому знаку?» Он сказал: «Да, да будет мир с тобою!» Тогда я стал выспрашивать его, и старичина рассказал мне все. Его господин, этот Павза, сам вольноотпущенник великого Павзы и поставляет по Тибру в Рим камни, которые невольники и наемные рабочие выгружают с плотов и таскают к строящимся домам по ночам, чтобы днем не останавливать движения на улицах. Среди них работают многие христиане и его сын, но работа свыше его сил, оттого отец и хотел отпустить его на волю. Но Павза захотел удержать и деньги и невольника. Говоря так, он снова стал плакать, я же смешал с его слезами мои, – это мне было не трудно сделать по доброте сердца и вследствие колотья в ногах, полученного от постоянной ходьбы. Я стал при этом жаловаться, что недавно только прибыл из Неаполя и что не знаю никого из братьев, не знаю, где они собираются на общую молитву. Он удивился, что христиане в Неаполе не дали мне писем к римским братьям, но я сказал, что письма у меня украдены в дороге. Тогда он сказал, чтобы я приходил ночью к реке, где он познакомит меня с братьями, а они уже проводят меня до молитвенных домов и к старейшинам, которые управляют христианской общиной. Услышав это, я так обрадовался, что дал ему сумму, необходимую для выкупа его сына, в той надежде, что великодушный Виниций возместит мне ее вдвойне…
– Хилон, – прервал его Петроний, – в твоем повествовании ложь плавает на поверхности правды, как оливковое масло на воде. Бесспорно, ты принес важные известия, я даже думаю, что на пути к отысканию Лигии сделан большой шаг, но не приправляй ложью своих известий. Как зовут того старика, от которого ты узнал, что христиане узнают друг друга при посредстве изображения рыбы?
– Эврикием, господин. Бедный, несчастный старик! Он напомнил мне Главка, которого я оборонял от убийц.
– Верю, что ты познакомился с ним и что сумеешь воспользоваться этим знакомством, но денег ты ему не дал. Не дал ни асса, понимаешь? Ничего не дал!
– Но я помог ему нести ведра и о его сыне говорил с величайшим сочувствием. Да, господин! Что может укрыться от проницательности Петрония! Я не дал ему денег или, вернее, дал ему их только мысленно, в душе. Ему этого было бы довольно, если бы он был истинным философом… Я дал ему потому, что считал такой поступок необходимым и полезным: подумай только, господин, как бы он сразу расположил ко мне всех христиан, какой бы открыл к ним доступ и какое бы внушил им доверие ко мне!
– Правда, – сказал Петроний, – и ты обязан был это сделать.
– Я для того и прихожу, чтобы заручиться возможностью сделать это.
Петроний обратился к Виницию:
– Вели отсчитать ему пять тысяч сестерциев, но в душе, мысленно…
Но Виниций сказал:
– Я дам тебе слугу, который понесет потребную сумму, а ты скажешь Эврикию, что слуга – твой невольник, и при нем отсчитаешь старику деньги. А так как ты принес важное известие, то столько же получишь и для себя. Зайди сегодня вечером за слугой и деньгами.
– Ты щедр, как цезарь! – сказал Хилон. – Позволь, господин, посвятить тебе мое сочинение, но также позволь сегодня вечером прийти только за деньгами, так как Эврикий сказал мне, что уже все плоты выгружены, а новые прибудут из Остии только через несколько дней. Да будет мир с вами! Так приветствуют христиане друг друга… Я куплю себе рабыню, то есть, я хотел сказать, раба. Рабы попадаются на крючок, а христиане – на рыбу. Pax vobiscum! Pax! Pax! Pax![33]
V
Петроний к Виницию:
«С надежным невольником посылаю тебе из Анция это письмо, на которое, я надеюсь, ты пришлешь немедленно ответ с тем же человеком, хотя твоя рука более привыкла к мечу и копью, чем к тростнику. Я тебя оставил на верной стезе и полным надежды, и я надеюсь, что ты или уже удовлетворил свои сладкие желания в объятиях Лигии, или удовлетворишь их прежде, чем настоящий зимний вихрь повеет на Кампанию с высот Соракты. О, мой Виниций! Пусть будет твоей наставницей златокудрая богиня Кипра, а ты будь наставником этой лигийской утренней звездочки, которая убегает перед солнцем любви. Однако помни, что мрамор, даже самый дорогой, сам по себе ничто и получает истинную ценность лишь тогда, когда рука ваятеля сделает из него художественное произведение. Будь таким ваятелем, carissime! Недостаточно любить, надо уметь любить и учить любви. Наслаждение испытывает и чернь, и даже звери, но истинный человек тем от них отличается, что превращает это наслаждение в возвышенное искусство и любуется им сознательно, претворяет в мысль все его божественное значение и таким образом насыщает не только тело, но и душу. Неоднократно, когда я думаю о тщете, неуверенности и заботах нашей жизни, приходит мне в голову, что ты, быть может, сделал наилучший выбор и что не двор цезаря, а война и любовь – единственные две вещи, для которых стоит родиться и жить.
В войне тебе посчастливилось, будь же счастлив и в любви, а если хочешь знать, что делается при дворе цезаря, я тебе расскажу обо всем. Сидим мы здесь в Анции и холим свой небесный голос, выражая неизменную ненависть к Риму, а на зиму собираемся в Байи, чтобы выступить перед публикой в Неаполе, жители которого, будучи греческого происхождения, лучше могут нас оценить, чем волчье племя, живущее по берегам Тибра. Сбегутся люди из Байи, из Помпеи, из Путеоли, из Кум, из Стабиев, ни в рукоплесканиях, ни в венках не будет недостатка, – и это послужит поощрением к задуманному путешествию в Ахайю.
А память маленькой Августы? Да! Мы еще оплакиваем ее. Мы воспеваем гимны собственного сочинения столь удивительные, что сирены от зависти попрятались в глубочайших пещерах Амфитриты. Вместо них нас могли бы слушать дельфины, если бы им не мешал шум моря. Наша грусть до сих пор не улеглась, мы показываем ее людям во всевозможных позах, какие только известны искусству ваяния, особенно стараясь притом, чтобы эти позы присутствующим казались красивыми и чтобы они сумели оценить их прелесть. Ах, дорогой мой, мы останемся до смерти шутами и фиглярами.
Здесь находятся все августианцы и августианки, не считая пятисот ослиц, в молоке которых купается Поппея, и десяти тысяч слуг. Иногда даже бывает весело. Кальвия Криспинилла стареет; говорят, что она упросила Поппею позволить ей брать ванну после Августы. Лукан дал пощечину Нигидии, обвиняя ее в связи с гладиатором. Спор проиграл Сенециону свою жену в кости. Торкват Силан предлагал мне за Эвнику четверку гнедых, которые в этом году непременно выиграют на ристалищах. Но я не захотел! А тебя также благодарю, что ты не взял ее. Что касается до Торквата Силана, то он, бедняга, и не подозревает, что скорее представляет собою тень, чем человека. Участь его решена. А знаешь ли, в чем состоит его вина? Он виновен в том, что приходится правнуком божественному Августу. Для него нет спасения. Таков наш свет!
Ждали мы здесь, как тебе известно, Тиридата. Между тем от Вологеза получено оскорбительное письмо. Он покорил Армению и просит оставить ее за ним для Тиридата, а если не оставят, то он все равно не отдаст ее. Явная насмешка! Мы уже решили начать войну. Корбулон получил власть, какою пользовался великий Помпей во время войны с морскими разбойниками. Была, однако, минута, когда Нерон колебался: он, видимо, боится славы, которую может снискать Корбулон своими подвигами. Думали даже, не предоставить ли главное начальство нашему Авлу. Этому воспротивилась Поппея, которой добродетели Помпонии, очевидно, колют глаза.
Ватиний известил нас о какой-то необычайной борьбе гладиаторов, которую намерен устроить в Беневенте. Смотри, до чего в наше время доходят сапожники, вопреки изречению «ne sutor supra crepidam»![34] Вителий потомок сапожника, а Ватиний родной сын! Может быть, он сам строчил дратвой! Гистрион[35]
28
Горе мне, несчастному!
29
Со сверхчеловеческой радостью.
30
Вербиев склон.
31
Увы!
32
Готов!
33
Мир с вами! Мир! Мир! Мир!
34
«Пусть сапожник судит не выше сапога» (лат.)
35
Актер.