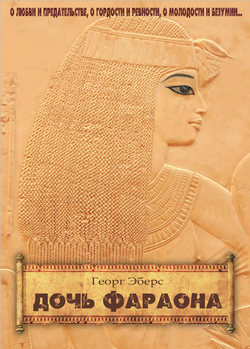Читать книгу Дочь фараона - Георг Эберс - Страница 3
Глава третья
ОглавлениеВсе гости покинули дом.
Подобно граду, павшему на цветущую ниву, обрушилась брань сибарита на радостное настроение прощавшихся собеседников; сама Родопис стояла бледная и дрожащая в по-праздничному украшенной комнате. Кнакиас погасил пестрые лампы на стенах. Вместо яркого света разлился неприятный полумрак, едва освещавший беспорядочно наваленную посуду, остатки кушаний и сдвинутые с места скамьи. В открытую дверь врывался холодный воздух, так как уже начинало рассветать, а перед солнечным восходом в Египте бывает холодно. По телу легко одетой женщины пробегала дрожь. Без слез блуждали ее глаза по опустевшей комнате, еще за несколько минут перед тем наполненной весельем и ликованьем. Она сравнивала свое душевное состояние с этой опустевшей залой пиршества. Ей казалось, что червь грызет ее сердце, и кровь ее превращается в снег и лед.
Так она стояла долгое время, пока не явилась ее старая рабыня, с лампой в руке, за которой она ходила в спальню.
Молча позволила Родопис раздеть себя, молча отдернула занавес, отделявший ее спальню от другой. Посреди второй спальни стояла кровать из кленового дерева, и на ней, на тюфяке из нежной овечьей шерсти, покрытом белыми простынями, под светло-голубыми одеялами покоилось очаровательное существо.
Это была Сафо, внучка Родопис. Эти нежные, пышные формы, это личико с тонкими чертами принадлежали расцветающей девушке, а блаженная, спокойная улыбка – беззаботному, счастливому ребенку.
Одна рука, на которой покоилась прелестная головка спящей, скрывалась в массе густых, темно-каштановых волос; другая слегка придерживала маленький амулет из зеленого камня, висевший на шее. Длинные ресницы закрытых глаз едва заметно шевелились, а щеки спящей были покрыты нежным розовым румянцем. Тонкие ноздри расширялись при ровном дыхании. Так изображают невинность, так улыбается мечтательное спокойствие, такой сон ниспосылают боги беспечному юношескому возрасту.
Неслышно ступая на кончиках пальцев, Родопис осторожно приблизилась к этому ложу по толстому ковру. С невыразимой нежностью вглядывалась она в улыбавшееся детское личико, тихо и безмолвно опустилась на колени перед кроватью, осторожно прижалась лицом к мягким одеялам, так что рука девушки касалась ее волос. Затем она беззвучно заплакала, точно хотела слезами смыть с себя оскорбление, которому подверглась сегодня, а с ним и всю тоску, накопившуюся в душе.
Наконец она встала, запечатлела легкий поцелуй на челе спящей, с молитвой подняла руки к небу и вернулась на свою половину так же тихо и осторожно, как вошла сюда.
У своего ложа она нашла старую рабыню, все еще ожидавшую ее.
– Зачем ты сидишь здесь в такую позднюю пору, Мелитта? – проговорила она тихо и ласково. – Поди, ложись спать, ты знаешь, что ты более не нужна мне. Прощай, не приходи завтра прежде, чем я позову тебя. Я, кажется, не скоро засну и потому буду рада, если утро принесет мне сон на короткое время.
Рабыня медлила; видно было, что она хочет что-то сказать, но не решается.
– Ты, вероятно, хочешь о чем-нибудь просить меня? – спросила Родопис.
Старуха все еще стояла в нерешимости.
– Говори же, говори, но только поскорей!
– Я видела, как ты плакала, – заговорила рабыня, – ты, кажется, огорчена или нездорова; не могу ли я остаться на ночь при тебе? Скажи мне, что мучит тебя? Ты уже не раз испытывала, что, поделившись горем, облегчаешь свою грудь и уменьшаешь самое горе. Доверь мне и сегодня свою печаль; это облегчит тебя и, может быть, возвратит тебе утраченное душевное спокойствие.
– Нет, я не могу говорить, – возразила Родопис. Затем она продолжала, горько улыбаясь: – Я снова убедилась, что ни одно божество не в состоянии изгладить прошлое человека и что несчастие и позор неразделелимы! Прощай, оставь меня, Мелитта!
В полдень следующего дня та же самая барка, которая в предыдущий вечер привезла афинянина и спартанца, остановилась у сада Родопис.
Солнце светило так ярко и радостно с чистого темно-голубого египетского неба, воздух был так прозрачен, жуки жужжали так весело, лодочники на барках так громко распевали свои песни, берег Нила был так цветущ, так пестрел флагами и кишел людьми; пальмы, сикоморы, акации и бананы зеленели и цвели так великолепно, природа выглядела так богато одаренной щедрым божеством, – что путник мог бы подумать, что из этих равнин изгнано всякое несчастие, что именно здесь местопребывание всякой радости и веселья.
Как часто, проезжая мимо деревеньки, скрытой среди цветущих плодовых деревьев, мы представляем себе, что она должна быть прибежищем мира, сердечной доброты и благополучия. Но стоит нам войти в отдельные хижины – и мы найдем в них, как и повсюду, страх и нужду, желания и страсти, опасения и раскаяния, тоску и горе, и – увы! – так мало радостей! Кто, прибыв в Египет, мог догадаться, что улыбающаяся плодородная страна солнца, небо которой никогда не заволакивается тучами, питает людей, склонных к угрюмости и ожесточению? Кому могло прийти в голову, что в прелестном, обвитом цветами гостеприимном доме счастливой Родопис бьется сердце, удрученное глубоким горем? Кто из гостей всеми превозносимой фракиянки мог догадаться, что это сердце принадлежит старухе, на лице которой всегда виднелась очаровательная улыбка?
Бледная, но, как всегда, прекрасная и приветливая, сидела она вместе с Фанесом в тенистой беседке около прохладной струи фонтана. Видно было, что она плакала. Афинянин держал ее за руку и как мог, старался утешить.
Родопис терпеливо слушала его, иногда улыбаясь то с горечью, то с видом одобрения. Наконец она прервала доброжелательного друга и сказала:
– Благодарю тебя, Фанес! Рано или поздно этот позор должен быть забыт. Время – хороший врач. Если бы я была слаба характером, то покинула бы Наукратис и стала бы жить в уединении, только для своей внучки. В этом молодом создании, повторяю тебе, дремлет целый мир. Тысячу раз собиралась я покинуть Египет, но тысячу раз побеждала в себе этот порыв. Меня удерживало вовсе не желание принимать поклонение от людей твоего пола; на мою долю выпало его столько, что я уже давно пресытилась им. Меня, слабую, когда-то презираемую рабу, удерживало и удерживает сознание, что я могу принести некоторого рода пользу и даже иногда быть необходимой свободным благородным людям. Привыкнув к деятельности в обширном мужском кругу, я не могла бы довольствоваться заботой об одном любимом существе; я засохла бы, подобно растению, пересаженному в пустыню из плодородной почвы, и моя внучка вскоре осталась бы совершенно одинокой в мире, троекратной сиротой. Я остаюсь в Египте!
Теперь, после твоего отъезда, я буду действительно необходима нашим друзьям. Амазис стар; если ему наследует Псаметих, то нам придется столкнуться с большими трудностями, от которых до сих пор мы были избавлены. Я должна остаться и продолжать борьбу за свободу и благосостояние эллинов. Такова цель моей жизни. Этой цели я останусь верна тем более, чем реже женщина осмеливается посвящать свою жизнь подобным целям. Пусть мои стремления называют не женскими. В эту ночь, проведенную в слезах, я почувствовала, что во мне есть еще бесконечно много женской слабости, составляющей в одно и то же время счастие и несчастие моего пола. Сохранить в моей внучке эту слабость, соединенную со значительной степенью нежной женственности, было первой моей задачей; второй же было – сбросить с себя самой всякую мягкость. Но нет возможности одержать победу над собственной природой, не потерпев поражения. Если меня подавляет горе, и я готова предаться отчаянию, то единственное мое лекарство – вспоминать о лучшем из людей, моем друге Пифагоре и его словах: «Сохраняй соразмерность во всем, избегай как шумной радости, так и громких сетований, и старайся сохранить твою душу столь же гармоничной и благозвучной, как струны хорошо настроенной арфы!» Этот пифагоровский душевный мир, это глубокое нерушимое спокойствие духа я ежедневно вижу в моей Сафо; но я сама стремлюсь к нему, вопреки неоднократному вмешательству судьбы, которая насильственно расстраивает струны моего сердца. Теперь я спокойна! Ты не можешь себе представить, какое огромное влияние имеет на меня одна мысль об этом великом философе, об этом спокойном, сдержанном человеке. Воспоминание о нем проносится над моим существованием подобно мягкому и вместе с тем оживляющему звуку. Ты также знаком с ним и должен понимать меня. Теперь я прошу тебя высказать твою просьбу. Мое сердце так же спокойно, как волны Нила, который так мирно катит мимо нас свои прозрачные волны. Хорошее или дурное скажешь ты, – я готова тебя выслушать.
– Вот такой ты нравишься мне, – проговорил афинянин. – Если бы ты ранее подумала о благородном друге мудрости, – как Пифагор имел привычку называть себя, – то твоя душа уже вчера обрела бы свое прекрасное равновесие. Учитель требует, чтобы мы каждый вечер проверяли в своем уме события, чувства и мысли протекшего дня. Если бы ты сделала это, то сказала бы себе, что непритворное удивление всех твоих гостей, между которыми находилось много мужей, славных своими заслугами, в тысячу раз перетягивает брань пьяного развратника; ты должна была бы чувствовать себя любимицей богов, так как в твоем доме бессмертные ниспослали благородному старику величайшее счастие, которое может выпасть на долю человека после многих лет невзгод; наконец, они, лишив тебя друга, тотчас же даровали тебе другого, более достойного. Не противоречь мне и позволь высказать теперь мою просьбу.
Ты знаешь, что меня называют то афинянином, то галикарнасцем. Ионийские, дорийские и эолийские наемники с давних времен не ладили с карийскими; поэтому мне, предводителю обеих частей, в особенности было полезно мое, так сказать, двойственное происхождение. Какими прекрасными качествами ни обладал бы Аристомах, но Амазис все-таки почувствует мое отсутствие. Мне без труда удавалось восстанавливать согласие между наемниками, между тем как для спартанца встретятся большие затруднения относительно карийцев.
Это мое двойственное происхождение имеет следующую причину. Отец мой женился на галикарнаске из благородного дорического рода и, для получения наследства после ее родителей, проживал в Галикарнасе, именно в то время, как я родился.
Хотя меня увезли в Афины уже на третьем месяце жизни, но я, собственно, кариец, так как местом рождения определяется отечество человека.
В Афинах я, в качестве юного эвпатрида, сына благородного отца, из знатного древнего рода Аякса, был вскормлен и воспитан во всей гордости аттического аристократа. Храбрый и мудрый Писистрат, принадлежавший к семье, равной нам, но нисколько не знатнее нас по происхождению (более знатного рода, чем род моего отца, не существует), сумел овладеть верховной властью. Соединенными усилиями аристократии удалось дважды низвергнуть его. Когда он захотел возвратиться в третий раз, при помощи Лигдамиса Никсосского, аргосцев и эретрийцев, то мы воспротивились ему. Мы расположились лагерем у храма Афины в Паллене. Когда мы перед завтраком приносили жертву богине, умный правитель невзначай напал на нас, бросился на наше безоружное войско и одержал легкую, нисколько не кровавую победу. Так как мне была доверена половина всего враждебного тирану войска, то я решился скорее умереть, чем отступить. Я боролся всеми силами, заклинал воинов держаться и сам не отступал ни на шаг, но, наконец, упал, пронзенный копьем в плечо.
Писистратиды сделались властителями в Афинах. Я бежал в Галикарнас, свое второе отечество, куда за мной последовала жена с нашими детьми, получил приглашение занять место главного начальника наемников в Египте – так как мое имя стало известно, вследствие моей пифийской победы и смелых военных подвигов, – участвовал в Кипрском походе, разделил с Аристомахом его славу при завоевании для Амазиса родины Афродиты и, наконец, сделался верховным начальником всех наемников в Египте.
Моя жена скончалась прошлым летом; дети – мальчик одиннадцати и девочка десяти лет остались у своей тетки в Галикарнасе. Но и ее постигла неумолимая смерть. Итак, я несколько дней тому назад сделал распоряжение о том, чтобы малюток привезли сюда; но они не могут прибыть в Наукратис раньше чем через три недели и, вероятно, уже отправились в путь, так что вторичное распоряжение уже не застанет их.
Через две недели я должен покинуть Египет и поэтому не могу сам встретить детей.
Я решил отправиться во фракийский Херсонес, куда мой дядя, как тебе известно, призван племенем Долонков. Пусть туда отправятся и дети. Коракс, мой старый, верный раб, останется в Наукратисе, чтобы привезти ко мне малюток.
Если ты хочешь доказать свою дружбу ко мне, то прими моих детей и присмотри за ними до тех пор, пока во Фракию не отправится какой-либо корабль, и скрой их заботливо от взглядов шпионов наследника престола, Псаметиха. Ты знаешь, что он смертельно ненавидит меня и легко может отомстить отцу посредством детей. Я прошу у тебя этой великой милости, во-первых, потому, что знаю твою доброту; а во-вторых, потому, что твой дом, вследствие грамоты фараона, может служить убежищем, где мои дети будут защищены от вмешательства стражников порядка, которые в этой стране формальностей предписывают объявлять должностным лицам округа о каждом вновь прибывшем иноземце, не исключая детей.
Ты видишь, как глубоко я уважаю тебя, я передаю тебе единственное сокровище, заставляющее меня дорожить жизнью. Даже отечество не дорого мне, пока оно позорно преклоняется перед тираном. Желаешь ли ты возвратить спокойствие встревоженному сердцу отца? Желаешь ли?…
– Я согласна на все, Фанес! – воскликнула Родопис с непритворной сердечной радостью. – Ты ни о чем не просишь меня, а делаешь мне подарок. О, как я рада малюткам! И в каком восторге будет Сафо, когда приедут милые создания и оживят ее одиночество! Но я наперед говорю тебе, Фанес, что ни в каком случае не допущу, чтобы мои маленькие гости отплыли на первом фракийском корабле! Уж на какие-нибудь полгода ты можешь расстаться с ними; я ручаюсь тебе, что их будут отлично образовывать здесь и приучать ко всему доброму и прекрасному.
– Об этом-то я бы не стал беспокоиться, – возразил Фанес с благодарной улыбкой, – но я все-таки настаиваю на том, чтобы ты отправила их с первым кораблем. Мои опасения относительно мести Псаметиха, к сожалению, слишком основательны. Поэтому уже заранее прими сердечную благодарность за твою любовь и доброту к моим детям. Впрочем, я сам думаю, что они будут приятным развлечением для твоей Сафо в ее одиночестве.
– А затем, – прервала его Родопис, опустив глаза, – доверие, оказываемое благородным человеком моим материнским добродетелям, дает мне право не думать более о сраме, причиненном мне пьяным кутилой! Но вот идет Сафо!