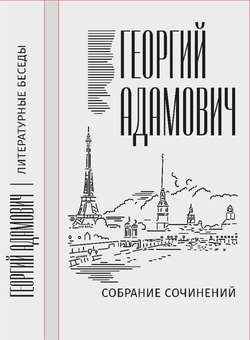Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 2. Литературные беседы («Звено»: 1923–1928) - Георгий Адамович - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1923
На полустанках
Оглавление1
Не надо обладать остротой ума, чтобы понять, как бесплодны заранее составленные поэтические программы и манифесты. Принуждение, или даже только понуждение писать «так», а не иначе, ничего дать не может. Теория поэзии состоит из выводов, а не из предпосылок. И, однако, поэт наедине с собой не в силах все-таки перестать думать о том, какие дороги ведут его к совершенству.
Так теперь, после разрушения почти всех наших школ и течений, когда-то возбуждавших столько надежд, столько споров и вопросов, в дни ночной разноголосицы в искусстве поэт не скажет все-таки собратьям: пишите, как хотите. Очень отчетливо обрисовываются вдалеке линии искусства, которое должно быть завтрашним: его не легко определить несколькими словами, но достаточно сказать, что его тональностью является пресыщение шумом и пестротой XIX и начала XX века, реакция против романтизма, понятого по-французски, и в поэзии обратный перелет к тем берегам, на которых последним удержался Андрей Шенье.
Люди, знакомые с развитием форм поэзии, поймут, какие теоретические требования выдвигает этот «неоклассицизм». Но было бы смешно и печально, если бы кто-либо из наших мэтров, собрав около себя учеников, стал бы учить их ясности стиля, точности в выборе слов, последовательности в композиции. Эти тончайшие тайны искусства, навязанные пусть даже и талантливым юношам, остались бы внутренне чужды им и создали бы группу эпигонов. Что сделали бы они, эти юноши, еще встревоженные душевно, еще смущенные и беспокойные, с хрупким наследством Расина?
По-видимому, только предчувствием ясных, мощных и стройных линий будущего, как утренними косыми лучами, должно быть озарено, что делает поэт сейчас.
2
Есть две истории литературы. Одна, излагаемая в письменных курсах, иногда глубоких и блестящих, учит, что наиболее значительными созданиями Пушкина являются «Онегин» и «Борис Годунов», а из произведений Лермонтова надо выделить «Демона», что замысел «Домика в Коломне» трагичен, а не комичен, что Некрасов был поэтом русского крестьянства, и прочее, и прочее.
Другая передается устно и нигде не изложена: она знает, что Пушкин – и не один только он – «держится» не на чистоте образа Татьяны и не на идее Полтавы, а на нескольких десятках строчек, как бы околдовавших нашу память. Я подчеркиваю и повторяю: на нескольких десятках строчек. Все остальное есть только окружение их, подготовка к ним или отзвук.
Это не умаляет общего значения крупных созданий. Они величественны и прекрасны, но печать «тайны» лежит не на них.
Некрасов был подлинно великим поэтом, но если вычеркнуть из его поэм эти как бы золотом вышитые строки, эти издалека подготовляющиеся вскрики:
Волга! Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля…
что бы осталось от него, кроме сентиментальности и дурного стиля?
Надо думать, что лишь все растущим сознанием этого, а не упадком творческой силы, объясняется то, что теперь поэты пишут много меньше и много медленнее, чем в былые годы.
3
Игнорируя эту сторону искусства, печатная история поэзии нигде еще не отразила соперничества Пушкина и Тютчева – тему, столь частую в беседах поэтов между собой. Тютчев, не создавший ничего крупного по размерам, никогда не считался претендентом на наш поэтический престол.
Но я помню восклицание одного русского поэта, случайно, в книжной лавке, раскрывшего том Тютчева на восьмистишии о Ламартине: «Это ни с чем не сравнимо!»
В этих словах было все-таки преувеличение. Тютчев напряженнее и выразительнее Пушкина. Поэтому против его воздействия труднее сопротивляться, и своеобразие его кажется «ни с чем не сравнимым».
Но не остается ли от пушкинской бедности более долгий и «божественный» отсвет, и нет ли в ней того чутья художника, которое заставляет его найти узкую тропу между стилистическим безличьем и скоропортящейся «роскошью красок».
Об этом очень верно и очень умно писал К. Леонтьев в разборе романов Льва Толстого.
4
Нет чувства более «декадентского», чем ирония. Но в наше время культом ее увлечены многие проницательные люди. Это говорит лишь о том, что без нее добрая половина современной литературы была бы совершенно невыносима.
Ирония – перец в нашей литературной кухне.
В иронии есть упорство человека, не признающегося, что он ничего не хочет и ничего не ждет. Поэт иронизирует над «крушением своих идеалов» и улыбается, жалко и растерянно. Это начало конца и гибели.
У всех еще в памяти насмешливо-мертвенное «Седое утро» Блока.
Настоящее искусство не иронично. Оно сердечно и сдержанно.
Если теперь приятным кажется яд иронии, то лишь потому, что боишься в отсутствии ее почувствовать простую ограниченность ума, не видящего и не понимающего всей «мировой чепухи»: политики, войн, революций, вечного одиночества человека.
Но мужественный художник, не одержимый плебейским вкусом к издевке, взглянул бы на все это без улыбки.
5
Есть французский поэт, которого хочется вспомнить, говоря это. Его образ – один из чистейших.
Это Альфред де Виньи. Его мало знают и мало любят. В традиционном представлении он заслонен Гюго, а в воспоминаниях поэтов – кометой-Бодлером. Он остался благородной, но второстепенной фигурой.
В судьбе его не все справедливо. Бесспорно, в нем не было силы, одушевляющей творчество других только что названных поэтов. Но по сравнению с некоторыми отрывками его тускнеет решительно все, что написано во Франции в XIX веке. После горечи их все пресно.
Бодлер кажется риторикой, а Гюго пошлостью. Виньи – скупой, сухой и холодный художник. Его чувства подчинены расчету. Его ум не обманут – никаких иллюзий, ни тени надежды. Все погибнет и ничего не воскреснет. Но в стихах его нет ни усмешки, ни крика, ни слез. Это будто каменистые отроги Альп, над которыми тянется пустое небо.
Перед памятью Виньи виновата Россия: Пушкин обмолвился о нем несколькими презрительными и пустыми словами.
6
Русский футуризм так наивен в своей идеологии, что с его проповедниками трудно спорить. Напрасно утешаются некоторые апологеты его тем, что в этой наивности – залог силы. Пусть перечтут они первые главы «Бесов», где описывается приезд генеральши Ставрогиной и Верховенского в Петербург и встречи их с нигилистической молодежью 60-х годов. Это до смешного похоже на то, что и до сих пор еще происходит в Москве между испуганным Брюсовым и футуристами.
Оставим бутафорию: ругань, скандалы, печатанье на обоях. Это делается для «большой публики». Оставим пристрастие к машинам, аэропланам и трамваям. Это дело вкуса. Но проповедь свободного стиха, до сих пор еще подносимая как откровение, увлечение игрой созвучий и связыванье каких-то надежд с этим ребячеством, безудержное развитие метафоры, ведущее к гибели самого образа, – все это рассчитано на Кострому или Калугу.
У нас много пишут о преувеличенном развитии мастерства в искусстве, о засилье формы и о том, что теперь все всё умеют.
Какие пустяки! Только на девственной почве возможно то, что происходит в русской поэзии.
Слаб человек. Любит он искусство, в котором узнает себя, свою грусть и жизнь.
Но если кто-нибудь плачет над книгой и если слезы эти вызваны описанием какого-либо печального события, а не удачно поставленным словом, – не велика цена этим слезам.
И искушенный долгим опытом поэт предпочитает писать о закате солнца и о дожде, стекающем по листьям, а не о страданиях человека. Так, по крайней мере, он застрахован от ложных и дешевых восторгов.
Тот же, кому понятен язык искусства, почувствует иногда и в описании заката то же, что в рассказе о гибели Ипполита.