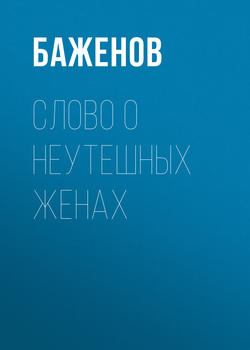Читать книгу Слово о неутешных жёнах (сборник) - Георгий Баженов - Страница 3
Сёстры
Сказание о русских женах
Глава 2
Варвара
ОглавлениеДом Ильи Сомова прилепился к самой окраине поселка. Дочери Ильи, Варвара и Катерина, перед самой войной совсем заневестились, особенно старшая, Варька: время ее подкатывало к девятнадцати годам. Девка она была с норовом, темная волосом – почти вороного крыла, глаза бесовские – с глубоким донным отливом, в которых то густо, а то еще гуще плавилась, казалось, сама чернота. Характером вышла взбалмошная, своенравная; Авдюшка Куканов, который ухлестывал за ней, и мучился с Варварой, и проклинал ее, а отстать не мог – приворожила. Девка – она ведь чем неподатливей да дурней норовом, тем сильней не то что парня, а и мужика к себе влечет. Будто самой природе, самой жизни хочется такому парню или мужику доказать, что нет, не выйдет с ним такое, сломит он хребет девке, переиначит на свой лад, заставит плясать под свою дудку. А вот и месяц прошел, и два, и год, и второй покатился, а девка не поддается: и делать с собой что хочешь дает, кроме главного, и твоя она вроде, с тобой ходит, гуляет, тебе время свое драгоценное – вечернее девичье время – отдает, а уверенности у тебя никакой. Руки, губы, тело – все рядом, а душа – Бог знает, где только она витает у нее. Да и есть ли вообще душа у Варьки?
Одно удобно – дом Сомовых на краю поселка, дотемна ли бродишь или, может, вовсе не хочет тебя видеть сегодня Варвара, ходить да миловаться, – потихоньку проводил ее к калитке и был таков – никто тебя не видел, ни позора твоего, ни твоих крадущихся шагов, никто вслед не прошептал зло, не крикнул насмешливо: «Кукушонок вон, бес его возьми, опять по ночи шастает, на девок оружие свое оттачивает…» К тому же и нрав у Ильи Сомова, отца Варьки, был похлеще дочериного, только и сказал однажды ей: «Принесешь в подоле – убью!» – а отсюда вывод: не любил он, когда дочери его по вечерам в гулеванье ударялись. Не любил, понятно, и Авдюшку Куканова. Не потому, что не нравился ему парень, наоборот – по дневному-то делу он ему по душе был: спокойный, хозяйственный да и не дурак к тому же, – а вот по ночному, по тому, что в темной да зрелой ночи может натворить с его старшей дочерью, девкой дурной и заполошной, – тут Илья Сомов не мог себя превозмочь, опасался, косился на Авдюшку Куканова настороженным глазом, ждал подвоха, а то и подлости. Потому что, рассуждал он здраво, были бы у парня серьезные мысли, не прятался бы по огородам да не кукарекал у калитки (позывной такой у них с Варькой был: ку-ка-ре-ку-у!..), а пришел бы сам к Илье Сомову, сказал бы: так, мол, и так, – а еще лучше – сватов заслал, глядишь бы – и породнились с отцом его Сергием…
Только не знал Илья Сомов, что заковыка-то была не в Авдюшке Куканове, а в Варьке. Вертела она им, как хотела, а на самую его главную мольбу – пойти за него замуж – бросала особо насмешливо, даже зло: «Дурень ты, Кукушонок, не люблю если – так это тебе не слаще оглобли покажется…» Так что Сомов Илья, косясь на Авдюшку Куканова, делал это зря.
Поселок у них в то время был хоть и рабочий, но все же напоминал скорей большую деревню, особенно по окраинам. Металлургический завод, некогда основанный здесь знаменитой уральской династией купцов и заводчиков Демидовых, особого размаха не получил, имел не более чем областное значение, не разрастался, и заводской люд, как это всегда бывает при небольших фабриках и заводах, был наполовину крестьянской закваски, а еще точней – имел собственное натуральное хозяйство: здесь и коровы, овцы, куры, гуси, огороды, делянки, покосы… отсюда и особая психология большинства посельчан: завод заводом, там, конечно, план, смены, металл, но здесь, дома, ты сам себе хозяин, огород не вскопаешь, сена не накосишь, считай – зиму не проживешь, семью не прокормишь…
И нравы в поселке, и говор, и обычаи, и сам ритм жизни – все, пожалуй, так и продолжалось во времени: полудеревенское-полугородское. Никого это не удивляло, не расстраивало: что естественно, то хорошо и разумно. И поэтому, когда в никем и ничем, казалось бы, не примечательном поселке появилось несколько не просто новых, а совершенно других, другого склада и вида, людей, может, даже из самой столицы, как поговаривали, посельчане разом и возгордились, и насторожились. Люди эти и в самом деле из Москвы – военспецы, каких никогда не бывало на их заводе. Толков и слухов о будущей войне, как и по всей России, хватало, конечно, и у них, но теперь, когда не где-нибудь, а в их забытом богом поселке, на небольшом заводишке появились военные специалисты, – тут посельчане призадумались. И пока они думали и по закоренелой полудеревенской привычке чесали лбы, жизнь продолжала катиться вперед, и так вскоре эта жизнь притерла военспецов к нравам и ритмам поселка, что вскоре и перестали на них обращать внимание. Хотя помнили, конечно, помнили о них – суды да пересуды о войне что-то не утихали сами по себе, скорей наоборот.
Одно оказалось неудобство в поселке – не было в нем гостиниц; не то что гостиниц, даже захудалого какого-нибудь дома для приезжих – и того не было. Больше того, посельчане и не представляли, что такие дома, оказывается, где-то существуют. Пришлось военспецов распределять на жилье по домам рабочих – где получше, почище, где поудобней. Дом Ильи Сомова, например, выбрали именно по третьему признаку – где удобней. Как срубил его Илья когда-то, так он и стоял – окраинный и как бы одинокий, – дальше в ту сторону строить не разрешали, потому что неподалеку начинались цеха. А раз совсем рядом были цеха, Егор Егорович Силантьев, старший военспец, и выбрал для себя дом Сомовых: днем ли, ночью ли, утром – завод всегда рядом. Выделили Егору Егоровичу маленькую, но опрятную (с окнами на завод, с одной стороны, с видом на огород – с другой) комнату-«малушку», и с тех пор в доме Сомовых – необычное для них дело – поселился чужой человек, «жилец». Покато привыкли они к Егору Егоровичу!..
А Егор Егорович Силантьев, хотя и военспец, оказался человеком мягким, добрым, правда, малообщительным, но это его качество все понимали и уважали: во-первых, у военных всегда есть свои тайны, а во-вторых, он ведь человек не как все, не поселковый какой-нибудь и даже не из Свердловска – а из самой Москвы, из далекой загадочной столицы, – чего ему особо разговаривать с посельчанами, о чем?
Неразговорчивость Егора Егоровича, правда, имела другую причину, но это выяснилось гораздо позже. К тому же старший военспец был настолько поглощен заводскими делами, настолько весь, как говорится, ушел в металл (задачей военспецов было – найти особый режим плавки для производства специальной, высокопрочной марки стали), что неразговорчивость Силантьева можно было объяснить и занятостью, и усталостью, и просто нерасположенностью после трудового дня к пустым разговорам.
– Что ж не жалеете-то себя, – вздохнет, бывало, глядя на него, как на сына, одинокого, безродного, неутешного, Евстолия Карповна, хозяйка дома. – Почернели совсем…
Егор Егорович, задумавшись и как бы слепо вглядываясь в какую-то одному ему известную, заветную точку в окне, забыв о ложке с супом, которая на полпути ко рту застыла в воздухе, вздрагивал от слов хозяйки, но не смущался, а только хмурился, будто становился недоволен собой.
– О себе теперь думать преступно. – И слова его звучали жестко, твердо, совсем не похоже на его мягкую добрую натуру.
– Стало быть, вы полагаете, Егор Егорович, – вставлял свое слово Илья Сомов, стараясь говорить степенно, умно и грамотно, – война с немцем надвигается? Или, может, другое что в этом роде?
– Да, война, – коротко отвечал Силантьев и, словно выйдя из забытья, принимался хлебать щи.
– А я говорю – никакой войны не будет! – неожиданно выпалила однажды Варька и смело, как бы поддразнивая военспеца, уставилась на склоненную над щами фигуру Силантьева.
– Цыц ты! – прикрикнул на старшую дочь отец; младшая, Катя, от испуга и стеснительности сидела, опустив глаза.
Егор Егорович оторвал взгляд от тарелки, набрякшие его веки – было видно – с трудом поднялись вверх, и он с непониманием, с тяжелым осуждением взглянул на Варвару.
Варька выдержала его взгляд; глаза ее искрились озорством, вызовом, лукавством и той особой, счастливой беспечностью, которую недаром в народе окрестили: молодо – зелено.
Вот так они и смотрели друг на друга – глаза в глаза, лицо в лицо. И Силантьев не выдержал, вдруг легко согласился с Варькой:
– Ну, значит, не будет… – И улыбнулся странной своей, мягкой и доброй улыбкой давно уставшего, мудрого человека, принявшего на себя все заботы о несчастных, заблудших людях, улыбнулся удивительной своей улыбкой так, что с этой секунды что-то перевернулось в девичьей душе Варьки…
Варька, независимая, гордая, бедовая девка, которая только и делала, что смеялась всегда над парнями, смеялась тем больше, чем больше нравилась им (Авдюшку Куканова, к примеру, совсем иссушила, сделала глупым ручным теленком, каким тот по характеру и по природе своей вовсе никогда не был) – эта взбалмошная девчонка изведала наконец, что такое душевная, необоримая тяга к другому человеку; из тяжелых, серьезных, умных глаз Егора Егоровича будто влился в девственную и слепую пока душу Варьки сладостный ток чувственного томления; томление самого Егора Егоровича, по всей видимости, было иного рода, разрядом или рангом выше обычной чувственности и личной эгоистичной любви, его томление было думой о людях, сопряженной с состраданием к ним, к их скорым, возможно, тяжким и лихим испытаниям, он как бы заранее любил всех, всех прощал, всем воздавал, оставляя в себе самом всеобщую грусть и тоску, аккумулируя эти чувства в душе – один за множество людей, как некий избранник слепой, но вполне реальной могущественной судьбы. Вот эту печать Силантьева – избранность его – Варька не поняла, нет, но почувствовала, на нее дохнуло неотразимой мощью человеческого духа. Как будто Силантьев – это недосягаемая вершина, а она, Варька, где-то глубоко в пропасти, но в глубину и бездонность ее пробился луч помощи, поднял Варьку на свое светоносное крыло, вызволил из пропасти и понес, понес, закружил, даже дух у Варьки перехватило!..
Однако сам Егор Егорович, конечно, не сознавал, какой властной и губительной силой оглушил вдруг Варькину душу; дел-то всего для него было – взглянул на девчонку, посмотрел ей внимательно в глаза и улыбнулся. Улыбнулся и, может быть, даже забыл о Варьке, хотя какое-то время перед глазами у него стояла ее лукавая, озорная, беспечная улыбка-вызов. Что с нее возьмешь – девчонка, с сосредоточенной печалью решил Силантьев и, наскоро покончив с обедом, заторопился на завод.
На завод они всегда ходили вместе – Илья Сомов и Силантьев, отправились вместе и на этот раз.
– Постойте, меня подождите! – крикнула Варька, но отец махнул рукой: «Не барыня – ждать тебя…»
Варька и сама толком не понимала, почему вдруг бросилась за ними, – та осиянность, которой одарил ее Силантьев всего лишь одним внимательным взглядом своих серых печальных глаз, то трепетное и чувственное томление, которым через край были наполнены ее душа и тело, словно требовали теперь, чтобы она, Варька, была всегда рядом с Силантьевым, даже не так – чтобы Егор Егорович находился всегда в виду ее глаз, где-то рядом – слышимый, чувствуемый, осязаемый. И вот она бросилась за ними – просто от испуга: как же так, она-то вот где, здесь, а они, он, Егор Егорович, уходит, исчезает, – это невозможно!
Отец с Силантьевым ушли, а мать Варвары, бросив на дочь внимательно изучающий взгляд, полуспросила- полуудивилась:
– Чего это ты, девка? Иль сама на завод дорогу не знаешь?
Варьке, странное дело, захотелось ответить матери что-нибудь грубое, резкое, но тут к ней подошла младшая сестра Катя, всегда такая ласковая, обняла за плечи: «Пойдем, Варя», – и Варька сразу успокоилась, только сверкнула на мать глазищами: вечно ты лезешь, когда тебя не спрашивают!
Варька, надо сказать, частенько ругалась с матерью: была в Евстолии Карповне какая-то елейность, неискренность, что ли, и Варька, став взрослой, чутко слышала в матери эту фальшивинку, и чуть что – у них с матерью шум, гам, ссоры. Катя была для матери гораздо больше по душе – ни слова грубого, ни взгляда косого, однако сама Катя была сердцем на стороне Варьки: ее восхищала Варькина прямота, смелость, бесшабашность. Только что окончив десять классов, Катя еще нигде не работала (а пойдет, конечно, на завод – обычная жизненная дорога большинства посельчан), Варька же рассчиталась со школой, как она сама посмеивалась, еще в прошлом году – сестры были погодами – и работала теперь в листопрокатном цехе, ученицей на сортировке, и хотя, если хотела, работала горячо, неистово, разряд ей никак не присваивали – срывалась, начинала грубить то бригадиру, то мастеру, натура такая… попала шлея под хвост – и понеслась Варька вскачь, как дурная кобыла. Так ей в цехе и говорили иной раз: «Кобыла ведь уже, но до чего дурная, а?..»
Варька с Катей вышли из дома и только было направились на завод, к ним из-за забора, усмехаясь и посмеиваясь, больше от робости, чем от наглости, вынырнул Авдюха Куканов.
– Привет честной компании! – громко поздоровался он, но вся его бравада, громкий голос, легкое постукивание прутиком по сапогам, начищенным до блеска черной ваксой, все это было напускным, ложно-панибратским.
– Дай прутик-то – поприветствуем тебя! – вместо игривого «здравствуйте-пожалуйте» ответила Варька, и обе сестры, переглянувшись, озорно рассмеялись – так прямо и прыснули.
– А чего, на, постегай. Попробуй! – Широко улыбаясь, Авдюха протянул Варьке прутик.
– И не заплачешь? – Варька, даже глазом не моргнув, перехватила из его рук прут.
– А ты испробуй! – отважно предложил Авдюха, подставляя спину, и даже, ерничая, ловким движением выдернул из штанин низ рубахи, оголил спину. Спина у него была видная – широкая, мускулистая, с мощным хрящом-позвоночником, который, как кряж, бугристо разрезал широкую долину спины. С такой-то мощью да силой ему, конечно, легко давалась работа на заводе – вторым подручным сталевара, на котором, естественно, лежала немалая физическая нагрузка.
И вот тут, в эти секунды, замахиваясь прутом, Варька и осознала (ее как бы пронзило), что такое главное она должна сделать в своей жизни… Не это вот, дикое и скоморошное дело, тьфу на него, на Авдюшку Куканова, хотя можно и хлестануть его пару раз – так, для острастки, из озорства, да еще чтоб не хвастался, и она в самом деле хлестанула его – да от души! – раза три по широкой спине, – но самое главное: она должна отвоевать Силантьева у жизни, завоевать его, она знает, поняла теперь, как сделать это, и чего бы ей ни стоила любовь – пусть хоть в тартарары потом, хоть к черту на рога, ей все равно…
И Варька, занятая этими мыслями, как бы даже не совсем поняла, что произошло вдруг: Катя, что так не похоже на нее, резко, с болью перехватила Варькину руку и даже не проговорила, а простонала:
– Да ты что, Варька, сдурела?! Ты что это?! Ты же прутом его, прутом… – И глаза ее налились слезным тихим укором, а чуть позже пролились две-три слезинки, как ни сдерживала себя Катя.
Разогнувшись, заправив рубаху в брюки, Авдюха Куканов с удивлением смотрел на Катерину.
– А чтоб в другой раз не хвастался, – хотела легко отмахнуться от разговора Варька, но младшая сестра продолжала крепко держать ее за запястье. – Ну, пусти ты, очумела, что ли… – дернула рукой Варька и, повернувшись к Авдюхе, проговорила презрительно: – Тебе вот за кем хороводить-то надо, за Катькой. А ты все за меня, дуру грубую, цепляешься.