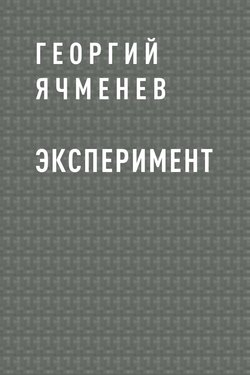Читать книгу Эксперимент - Георгий Константинович Ячменев - Страница 1
ОглавлениеЗавещание
Вот и пришли времена, когда человек считается чуть ли не властителем всей природы. Какой-бы вызов нам не бросили, какое-бы испытание не поставили, мы спокойно справимся с ним в своих уютных «особняках», располагая валом шаблонов для преодоления любой из трудностей, стоит только верно выбрать требуемый инструмент. Никаких сложностей, просто бездумное использование уже всего преподнесённого на блюдечке, да с каёмочкой, отполированной тысячами учёных светил. А что толку от такой простоты, если сами мы продолжаем прозябать в невежестве? Чужие костыли до того срослись с нашим естеством, что подпорки уже перестали казаться чем-то отличным от тела. Эта сторонняя искусственность заменила собою конечности; благо, разум не так просто обменять, ибо если нечто схожее постигло бы и его, то навряд ли бы это строки увидели свет.
Оглянитесь люди! Магазины на каждом углу, аптеки и медицинские центры в пяти минутах ходьбы от дома, работа, способная быть столь безопасной и комфортной, что вместо активности, рабочее место скорее будет вгонять в дремоту. До того ведь хорошо живётся! Но нет во всём этом никакой жизни. Разве матери рождают детей в расслабленном умиротворении? Разве наши предки, ради так называемой жизни барахтались в молочных реках и упивались кисельными морями? Нет, они в поте лица трудились, воевали и никогда не останавливались на достигнутом, а всё потому, что понимали – понимали ту простую суть, которую сейчас не может уловить весь человеческий род: жизнь – это что-то вечно незавершённое, никогда не способное стать по настоящему обузданным. Всё ныне творящееся, весь мировой процесс – игра в существование, суррогат жизни, жалкий аналог, пытающийся выдать слепость за зоркость. Жизнь ощутима там, где идёт борьба, принимается вызов, ведётся жестокая игра, но её правила не должны отыгрываться по уже известным шаблонам, стоит чуть-чуть, но внести частицу себя, так тут же всё окрасится яркими красками чувства какой-то новизны. Среди этих воззрений и кроется ответ на злободневный вопрос: «Как же всё-таки жить, а не бессмысленно существовать?» Нужно всего-то прекратить идти исхоженными тропами, перестать пользоваться тем, что и так уже опробовано сотни раз. Если какая-то задача решается одним достоверным способом, это не исключает наличие какого-то ещё, нужно только заставить себя пуститься на его поиски. Но в случае с современностью требуется скорее не пуститься, а отчаяться, ибо до того страшно уйти от комфорта, что ощущение жизни, – если кто всё-таки и отважится отыскать его, – станет дозволенным лишь тем, кто поместит себя в условия, когда новое облачается в старое, при этом, где первое и второе нашего собственного производства; конечности будут оставаться конечностями, а не чужими протезами. Эти самые условия есть эксперимент. Прежде чем заявить об открытиях, гипотеза каждого научного откровения проходит испытание на прочность, а вне экспериментальных условий это невозможно. Так и в случае с жизнью; этот витальный артефакт нуждается в обновлении и вне экспериментальной постановки, человек настолько норовит окостенеть в своём уютном убежище, что он вот-вот, да обязуется уже сейчас выродиться в виде аморфного растения. К этому ли мы шли?..
Если не идти новшествами, а уповать на старину, ни о какой жизни можно даже не промышлять. Чем дольше служишь известному, тем меньше стараешься собственным усилием оправдать своё существование, а такое отношение чревато бессмысленностью. Человек на то и человек, что горазд выбирать, какой смысл для него несёт та или иная вещь. Если перестать поддерживать в себе эту исключительно человеческую способность, то мы превратимся в предметы, вещи без души и цели, так как стремиться к чему-то покажется детской забавой. «Какой толк что-то искать, когда всё и так уже дано?» – спросите вы, а я отвечу, что не было, нет и не будет ровни вечности, кроме самой жизни, как раз и несущей ответственность за обновление нас же самих, придачу свежести нашему желанию быть здесь и сейчас, в здравии и бодрости. Поэтому эту кратенькую историю стоит расценивать не как аннотацию к новой главе человеческой истории, а как мольбу о начинании привнесения в мир чего-то нового. Мы наследники, это так, но наша эпоха показывает, насколько плохо мы справляемся со своей ролью приемников, ведь до того разленились, до того безалаберными стали, что кажется совершенно утратили возможность мыслить самостоятельно. Поэтому-то и призываю вас не приникать к столь хорошо проработанному прошлому; не заливаться радостями от завещанных даров, так как обживая новые владения, мы сумасбродно, словно ониоманы1, стараемся обустроить каждую комнатку, когда как, в сущности, для удобства нужна всего одна единственная.
Своим кратким назиданием я хочу побудить читателя к открытию для себя новых горизонтов путём эксперимента и не абы над чем, а над своей персоной, так как лучший опыт, который удавалось выразить во всей ясности всегда был только собственный и ничей другой. Все последующие мысли – это предостережения, опасности и проблемы, с которыми столкнулся повествующий на этих странницах экспериментатор. Он желает лишь одного: той жертвенной частичкой себя выразить предстоящие трудности для всякой души, что изберёт такой же путь, как и он сам.
Пролог
Будем знакомы. Приветствие – это великое таинство, без него не выйдет отличного взаимопонимания, а эту рукопись стоит понять, уж поверьте. Вас, за всей этой словесной амбразурой, я буду кратко звать Читателем. Я буду обращаться к Вам, домогаться Вашей помощи, подсказок, но лишь за одним и прошу простить мне эту, пожалуй, скверную черту моего писательского характера – мне сейчас приходится не сладко, мысли туги и от натяжения вот-вот кажется порвутся (о причинах этих трудностей далее). Я же представлюсь как «Э» или Экспериментатор, очень приятно. В некоторых кругах, Вы могли слышать об этой личности, какие-то мелочи, подробности о незаурядной, но в тот же момент аскетической фигуре; иногда этого скитальца замечали пролетающей тенью над городскими садами, в других, он теснился близ тёмных углов кофеен и выжидательно смаковал взглядом снующее в суете окружение. Никто не знал, чего именно ему нужно, для чего он даёт о себе знать, ведь казалось, если бы захотел, то точно бы сделался невидимкой и в своей призрачности не смущал бы мир своим присутствием, но поскольку желания его зависли вдалеке от публичности, то оставалось лишь гадать об истинных намерениях этого не то человека, не то ожившей фантасмагории. Такое ничтожное, но в то же время зажигающее интерес притяжение не могло не превратить скрытность и отшельничество Экспериментатора в бродячий миф, получивший ещё одно имя. Мне оно не льстит, но приведу его только как переправу к наболевшей теме моей истории. Город нарёк вышеупомянутого мистера «Э» Хейстоном.
Всё остальное, а именно: настоящие имя, место проживания будут оставаться от Вас в тайне. Как по мне, это далеко не то, чему требуется уделять здесь внимание. Куда важнее, что мое прозвище отражает саму сущность, почему я принялся экспериментировать. Все дело в спешке2. Всюду и всегда я ставил себя в тяжёлые, кажущиеся безвыходными, а иногда настолько изнуряющие ситуации, что природа каждой явственно указывала на то, будто я куда-то опаздываю, куда-то спешу, что-то не успеваю. Мне не были известны причины такого поведения. Всегда подгоняемый чувством, что время утекает сквозь пальцы, опыты ставились с расценкой получить наибольший результат в чрезвычайно короткие сроки. По началу, такой «скоростной» характер всё еще затуманивал мою прозорливость, не давая увидеть происходящее во всей широте, но теперь, всё предстало в таком отчётливом виде, что сомневаться в ниспосланном мне откровении уже бесполезно. А причина моей уверенности проста как день – я умираю. Результат ли это моих завышенных ожиданий от экспериментального образа жизни, может быть это кара за пренебрежительное отношение к самому дару, в моём понимании, виденном как возможности постановки опыта или же вовсе что-то другое? Мне сложно понять причину моего столь раннего ухода и этим дневником, я хочу сорвать уродующее моё зрение бельмо. Волны беспокойного смятения идут от предположения, что ни один эксперт не решится утвердить, будто это сама идея эксперимента повинна в моем нынешнем состоянии, даже если бы тот ознакомился с тремя последними годами моего жития, а мысленно отмотав плёнку на три годовых цикла назад, мы как раз получаем период, когда родился, собственно, сам Экспериментатор. Вас конечно может смутить факт, что я говорю о себе в третьем лице и прикрываюсь маской Экспериментатора. Уверяю, Экспериментатор и я – разного поля ягоды. Как человек, я существую двадцать один год. Экспериментатором же удалось прожить только три, но этими тремя годами я именно жил, а сказать, что существовал – то же, что солгать.
Если Вы, дорогой Читатель, прочтя мои записи, увидите причину моей кончины именно в пристрастии к экспериментированию – так тому и быть, поспорить с Вами мне уже всяко не выдастся случая, но даже не зная Вашего мнения, мне будет приятно, что может и не открыто, а всё-таки нащупал во всех моих раздумьях какую-никакую истину. Ведь человек – это микрокосм и сто́ит найти исток собственного бытия, незамедлительно поспеет плод более сочный и ароматный. Этим яблоком Эдема, как мне кажется, будет разгадка на вопрос о происхождении самой Вселенной! Так что, дорогой Читатель, лови момент. Если гипотеза с убившим меня экспериментированием всё же подтвердится, не превратит ли всё сказанное здесь в некоторый шифр, разобрав который будет угодно достучаться до небес, а того гляди, может и подальше заглянуть разрешат?
Мои опыты на границе семнадцати-восемнадцати лет. О всём предшествующем этому возрасту можно упоминать только в связке со «временем», «времяпрепровождением», «протяженностью», но никак не с жизнью, ибо те года осенены бездумной формой существования, в путах которой, до поры, пребывает любой, кто только начинает обмываться потоками мировых и исторических закономерностей. Семнадцать лет впитывания и практически никакой обработки разразились интенсивным перелопачиванием скопившихся переживаний от детства и отрочества. В них-то меня и смутили вещи, объяснить которые мне всё никак не давалось. Пробы найти вожделенную подсказку проваливались одна за другой, и причина моих проигрышей была в слишком большом расчёте на других людей; я пришёл к той народной мудрости, гласящей: «Если хочешь что-то сделать хорошо – делай это сам», которая и продала мне билет на рейс судьбы экспериментатора. Есть разные опытники: одни боязливы, ползут миллиметровыми рывками; они по сто раз заводят одну и ту же пластинку, где уже не игла способна отклониться, а скорее механизм самого патефона прикажет долго жить; другой вид – это настоящие экспериментаторы, рискующие пойти во все тяжкие, готовые вколоть какую-то плохо опробованную инъекцию не на подопытных грызунах, а на себе самом; я благоволю такому типу, он не побрезгает вылепить из себя что-то такое, чего могут бояться, в других случаях – над чем можно посмеяться, но суть, как в первом, так и во втором вариантах одна – это неустрашимость перед выдвиганием своего «Я» на место испытуемого. Так поступил и я, когда понял, что ни один человек на этом свете не сможет выручить меня с ответами на мои вопросы. Кто-то попробует проткнуть меня упрёком, мол: «Да как семнадцатилетний юнец мог создать такое представление о людях, когда он и искать-то толком ещё не умеет?!», но позвольте мне бережно отвести вашу шпагу моей скромной, но всё же имеющей какой-то вес контратакой – если ответственность за столь молодую смерть и лежит на плечах моих исследований над телом и разумом, то разве не оказал я милость всему мировому сообществу? Окажись, – ибо неведомо и навряд ли уже станет известным мне, так оно на самом деле или нет, – эти манускрипты кладезем знаний для прогресса, разве не хорошо, что юная душа не стала тянуть резину и решила взять всё и сразу; плохо ли не дожидаться сорока, а то и пятидесятилетнего возраста, когда назревает заветное «Пора браться за работу!»? Я вижу поистине великую услугу, если человек не оттягивает всё до последнего срока, а находит силы принять общечеловеческий долг прямо сейчас. Будучи по Вашему мнению, начав свои опыты лишь навострившись в поиске нужных мне людей, я бы тем самым просто на всего отдалил то, что со мной произошло уже сейчас; не в двадцать, так в тридцать; не в сорок, так в шестьдесят; суть этого мероприятия неизменна – конец, как у всего нашего рода, один.
С этим напутствующим экскурсом, позвольте пустить Вас по следам нашего героя; не переживайте, я буду присматривать за Вами, давать разъяснения в трудных местах, а если кой отрезок выдастся на Ваш взгляд тернистым, а по мне – низкой возвышенностью, то не обессудьте, преодолевать его вам придётся под спудом моего томящего молчания, но всегда помните одно: подоспеет новый фрагмент текста и в нём, мой голос снова примется направлять и поддерживать. Можете, конечно, вопрошать, мол «От чего же ты отговаривал не опираться на чужие подпорки, когда сам тут всучиваешь нам свои собственные костыли? Якобы твои лучше, чем у всех остальных?», но не за этим ли, да и вообще любым сомнением кроется взаимность читателя и автора? Хотите – проникайтесь; тут же извольте – просто закройте и не читайте; я не приговариваю и не принуждаю. Книги – это нечто деликатное и заглатывать их без йоты сомнительности то же, как полностью вверить себя чужой воле, совершенно забыв о собственной, а мне этого не нужно. Я жажду от Вас, мои дорогие, самостоятельности в тех же вопросах, которые подстрекали меня на каждый эксперимент; мне хочется прознать, верны ли были те или иные повороты. Жаль их конечно не застать, но если кто-то пустится по той же колее, что и я, тогда ему останется лишь одно – сверяться со своими и уже Вашими размышлениями. Так что считайте мои «костыли» тем же вызовом Вашим собственным мыслям, Вашей самостоятельности, не более.
Всё, чего только и смею просить – пусть сказанное здесь воспримется не как чужая, но глубоко личностная история; хочется, чтобы блики на моей глади судьбы запечатлелись и в Вашей собственной истории, тем самым пробудив новых экспериментаторов в этом до ужаса скучном мире потребителей.
Эксперимент #1
Всё началось в конце семнадцатилетнего возраста. Тогда я уже заканчивал школу и после экзаменов должен был поступить в университет. Вопрос с армией я тогда не рассматривал, хоть и обладал всеми необходимыми параметрами: достаточно – не побоюсь такого эпитета – изысканным телом. Конституция была мезоморфична и астенична, другими словами, у меня преобладали черты хорошо сложенных мышц и отчётливо проступающих мускулов, да в сочетании с ростом под сто восемьдесят пять сантиметров такое сочетание порождало поистине дивного молодого человека в рассвете своей юности. Не смотря на облик Аполлона, меня не тянуло растрачивать его на армейские упражнения, но вместе с этим, я не пренебрегал юношеской силой на свободе, вдалеке от каких-то секций, кружков занятости и прочего бреда, в которые наведываются от незнания, куда-бы влить бурлящую внутри молодость. Ежедневно я занимал себя велосипедными поездками, походами на близлежащие горы или простыми пробежками, словом, юность звала меня использовать врученные мне дарования по максимуму, чем я, собственно, и занимался.
Радости странничества по горам, где-то в отдалении от шумного города не могли выйти мне боком. Одиннадцатый класс далеко не шестой и не седьмой, когда единство однокашников начинает разделяться на маленькие группки, каждая из которых обращается оплотом какого-то одного типа мышления, а все входящие в неё становятся отрезанными от остальных, ублажая себя родством мысли с такими же, как и ты сам. Последний школьный год отходит от подросткового влечения к индивидуальности и снова сращивает былые разрывы. Одноклассники вновь начинают активно общаться и строить планы на будущее; отщепенцев или попросту говоря «белых ворон» в последний год почти не сыскать, однако не везде устанавливается такая идиллия и где-нибудь, да найдётся такой вот «особенный», встающий единству поперёк дороги. Таким вот «особым» кадром был я, но не потому, что был ведом детской страстью показать свою непохожесть на остальных, наоборот, зачастую я стоял на общении и том, чтобы как можно дольше вести разговор, но вся специфичность раскрывалась в характере моей общительности. Манера не только беседы, но и поведения напоминала ребячливого, впервые выбравшегося в горы, сайгака. Пока все спокойно шли, я носился рядом от дерева к дереву, приветствовал каждого встречного и вёл себя вульгарнее, чем весь вместе взятый цирковой коллектив, оказавшийся вне своего пристанища. Кому-то такая активность покажется не совсем «нормальной», но именно в противовес этой – как считал и продолжаю стойко считать – никудышной нормальности я вёл себя таким образом. Все пестрили деловитостью и взрослостью, что по сути было откровенным притворством; своими повадками мне хотелось вновь пробудить в моих друзьях дух детской открытости, той лучезарности, которую, как мне казалось, удавалось как-то поддерживать моими действиями, но попытки в итоге оказались тщетными.
В один момент я забросил эту затею, да и не потому, что сам отчаялся, а из-за отношения, которое сложилось обо мне у окружающих. «Эй, не желаешь ли покорить это деревце?» или «Посмотри какая девка, спорим наш чудак с лёгкостью с ней заговорит», ещё вариант, когда звучало что-то вроде «Посмотри-ка чем они занимаются, расспроси их», – «Но зачем, что тебе это даст?», – Не важно, просто… Иди и сделай это, вот и всё». Я шёл и делал, при чём, ясно понимал в такие моменты, что меня используют как куклу, как игрушку, чтобы развлечься, посмеяться и взбодриться, но останавливаться и не делать я тоже не мог. Нравилось само чувство открытости, отсутствие зажатости, коих качеств как раз не ощущалось в моих приказчиках. Всегда взволновывала эта лёгкость при общении, хоть и представало всё как цирковое представление. Однажды, когда я более решил не потакать таким низким желаниям моих «друзей», я всё равно не сумел избавиться от образа ребёнка с рядом стоящими «взрослыми». Что-то продолжало поддерживать во мне убеждённость, будто я допытываюсь от окружающих не тех же детских отношений, как в раннешкольном возрасте, а чего-то совершенно иного. И с этой задумчивости началось то, что повлекло за собой превращение пышущего энергией мальчугана в скелетообразное и изнемождённое существо.
Тогда я не читал, – да что там «не читал», даже не знал! – такого философа как Шопенгауэр. Что и говорить, я совсем тогда не любил читать, ведь кто будет предаваться умиротворению в чтиве, когда его тело взывает вырваться затхлой квартирки, да пробежаться по горным лугам. Будучи ещё не начитанным, не зная, что такое категории и каково их предназначение, однако поздний я, наделённый рефлексирующим сознанием смог оправдать мои непонятные на семнадцатилетний возраст поползновения. Я рождал в окружающих смех и это главное, за что стоит ухватиться. Когда школьник становится студентом, изменяется не только его положение в обществе, изменяется и образ его личности. По окончанию школы, в нас мало чего-то от себя, большинство фундамента и всего на нём выстроенного даётся родителями, друзьями и учителями, но тем не менее, даже с участием посторонней помощи, возделывается образ, какая-то фигура, обладающая своими индивидуальными особенностями. Грубо говоря, чем дольше человек получает какой-то опыт, тем больше он предстаёт в виде категории, какого-то сосуда. Единственное отличие сосуда-предмета и сосуда-человека в том, что содержимое первого всегда просто представить; если утрировать, то для определения наполненности вещи нужно всего-то открыть крышку, заглянуть внутрь и готово, всё как на ладони. С человеком такой приём провернуть не получится, ибо мало того, что «крышку» отвинтить не удастся, так ещё и не поймёшь, как правильно смотреть и в этом последнем кроется главная проблема межличностного общения: прежде чем понять другого, сперва стоит понять самого себя. Многие так и хотят достучаться до окружающих, но не могут этого сделать как раз по причине незнания самих себя. И меня постиг этот рок, ведь именно это я и вершил своим ребяческим подходом к миру. От Шопенгауэра я узнал одну интересную идею о категориях. Если человека представить как формирующуюся личность и общность, включающую в себя невесть какое содержимое, то это ничем не отличимо от той же категории, которую пока ещё слабо изучили. Нам могут быть отлично известны такие понятия как вселенная, добродетель, субстанция, их описывает не одна книга, поэтому стоит взять томик «Этики» Спинозы или «Метафизику» Аристотеля, как тут же станешь всеведущим. Но столетие за столетием, стоило прогрессу продвинуться немного вперёд, среди старых заключений учёные тут же находили чёрные пятна, какие-то вещи, которые пока нельзя было описать, но возможно было увидеть. Шопенгауэр высказал такую гипотезу, что, сталкиваясь с чем-то неизвестным, мы стараемся скрыть наше невежество либо смехом, либо страхом. К примеру, выступающий на сцене актёр, одетый в совершенно не подобающий его роли костюм может ввести публику в смехотворное замешательство: «Словно циркач на праздничном балу», могут вопиять зрители, но это если всё обстоит комедийно; другое отношение, хоть и слабо отличное от первого, будет при появлении фигуры, которая среди юмористических персонажей даёт знать о себе, как о каком-то мрачном призраке. Поневоле сложится впечатление, будто в постановку закралось нечто, никак не прописанное в сценарии, но оно всё же здесь, а значит, ошибки быть не может, всё идёт так, как задумывалось и, если у кого-то решит пробежать холодок по спине или кровь начнёт стыть от ужаса, значит и актёру, и постановщику удалось достичь задуманного эффекта. Но что остаётся несчастному зрителю, кроме как не защищаться, пытаясь прикрыть свой страх маской смеха3. Он попытается разбавить своё гнетущее состояние какой-то шуткой или тупым юмором, но от правды всё равно никуда не деться, а воля укрыться за личиной шутника будет лишь отсрочкой уже начавшего созревать в нём чего-то нового.
Но как я сказал ранее, меня даже под дулом пистолета было трудно заставить что-то прочесть, тем более такую философскую литературу. Я старался собственными силами настигать нужное мне знание. Я был тем, кто полагался лишь на собственный опыт и как ещё мне было его отыскивать, как не своими же действиями. На подсознательном уровне я чувствовал в человеке тайну и хотел проявить её подобно комедийному актёру. Пока все были как на одно лицо, совершали одни и те же воздержанные манипуляции, я всегда старался растормошить окружающих каким-то неподходящим для ситуации моментом: то начну громко разговаривать на какую-то щепетильную тему, то стану до того подвижным, что буду напоминать энергичную детину среди престарелых; все эти действия, выбивающиеся из траншеи нормальности, никогда не были направлены на меня самого, мне не хотелось заявлять «Смотрите каков я, до чего особенный и непохожий на вас, скучных и простодушных!». Нет, говорю откровенно, такие мысли никогда меня не наводняли. Преследованию подвергалось другое: чтобы окружающие, будто бы глядя на выбивающееся из привычного, смогли заметить какой-то скрытый режиссёрский посыл, почувствовать задуманное невидимым сценаристом, ведь наша жизнь слабо отличается от фильма, где упор всегда делается на проявление у зрителя определённого ощущения. Триллер будоражит волнение, драма – грусть, комедия – смех и от последнего, я и решил отталкиваться таким вот нетривиальным методом, через себя и свою ребячливость, постараться озарить задуманное Создателем истинную мистерию человека, сокрытую под покровом телесности.
Но увы! Только горе и разочарование повстречал я на этом пути. Люди как смеялись, праздно вставляли пару колких фраз и больше не обращали внимания на прыгающего перед ними шута, так и продолжили относиться к нему с тем же пренебрежением; сперва выделяющийся из общей массы комедиант становился таким же привычным, как и многое другое. А если что-то становится частью повседневности, чем-то самим собой разумеющимся, то ни до какой-то там тайны человеческого бытия уже не выйдет дознаться.
Сейчас я просто диву дивлюсь: какие же люди слепцы! Появись перед нами сказочные персонажи и мифические герои, они ведь тоже будут казаться далеко не привычным, мы будем благоговеть перед ними, уделять им куда больше внимания, чем всему остальному, ведь это «остальное» есть обыденность, а они, наши фантастические фантомы, словно ложка мёда пресном завтраке; мы бы стали до того свежими и ободрёнными, если бы не одно но – склонность человека облачать события в сансару повседневности. Здесь не может быть исключений и это, пожалуй, худший из человеческих законов, если дело касается того, чтобы за короткий срок увидеть в пока ещё чём-то новом то, что не растворится в череде монотонности суток. Встань перед нами Ахилл, мы сразу же поймём, что перед нами не просто человек, а богочеловек, само собой, не без некоторых размышлений, но сам факт, что это некто точно выбивающийся из общепринятых рамок и таящий в себе секрет человеческой природы, не будет никаких сомнений. Так от чего столь невежественно, слепо и глухо тот же «аналитик» Ахилла подходит к прыгающей перед ним цирковой зверюшке, броско одевающейся или странно выглядящей личности?! Нет в этом величия, нет в этом и героичности, но не каждое событие и явление должны обладать такими возвышенными чертами, не всему, что проводит истину уготовано являть себя как что-то прекрасное, ведь не многие располагают высоким положением в обществе или звучащим именем, однако их малый статус едва ли мешает донесению до человечества скрытого в них знания. Абсурдность и нелепость – вот верные спутники тех, кто чувствуют в человеке глубину, сакральную сущность, которая пока не обнаружена, но готова вырваться. Нужно лишь верно подобрать инструмент выведения и посмотреть под правильным ракурсом, а остальное изучение, – уверяю вас, – пойдёт как по наитию.
Раздосадованный своим, пожалуй, самым первым экспериментом, я впал в уныние и со временем, от некогда открытого и радующегося любой мелочи юнца осталась хладная ко всему, к тому же и скупая на разговоры, ничем не отличимая от своих сверстников, душа одиннадцатиклассника.
Эксперимент #2
Время шло, экзамены были сданы, документы в университет поданы и к концу летнего сезона я уже мчался на всех парах в другой город. Это был прорыв в мир самостоятельной жизни, больше никаких родительских ограничений, никаких принуждающих формальностей вроде «Ужин ровно в восемь часов», «Трапезы всегда справляем все вместе и никак иначе», «Уборка каждые два дня и это не оговаривается» и т. д., все эти установления пошли в пекло и я был безумно счастлив. Обосновавшись в однокомнатной квартирке со скудным наполнением, мне едва виделось нужным как-то менять интерьер. Шкаф, пара полок, небольшой компьютерный столик в уголке зала, пара табуретов и стол со стоящей на нём микроволновкой; прибавляя сюда холодильник, столовый гарнитур и пространство прихожей я считал это достаточным для того, чтобы полностью отдаться чему-то ещё, не задумываясь о физическом существовании. И в этом была главная трудность: новый город, новое место обучение, потенциальные знакомства и ещё не заделанные друзья – столько дел было уготовлено, но в глубине души, я понимал, что не ради этих мирских радостей покинул родительские пенаты. Настоящая цель моего отрыва от попечительства старших для меня всё ещё оставалось неведомой. Словно бы университет был не главным, а чем-то второстепенным, всего лишь доводом логики, мол «Не зря же ты переехал, само собой, университет – твоё предназначение», которому я не особо-то доверял. Слова разума пронизывала ложь и решив докопаться до истины, я стал идти методом by trial and error4.
Знакомства в институте напоминали грибницу, очухавшуюся в жаркий день после дождя. Количество лиц, то и дело, беспрестанно мелькавших передо мной было не сосчитать. Каждый был особенным, каждый, – в отличии от моих старых, все как на один типаж друзей, – выделялся, запоминался и это притягивало разговаривать не со многими, а со всеми сразу. Хотелось въесться в чужие мысли, впитать социум без остатка и тем самым проверить, правда ли это то самое, из-за чего я прибыл в новое окружение. Оказалось, что это не так. Общение было, как и любой другой говор: скучным, незамысловатым и переваривающим обыденность. Всё было толерантнее, утончённей, но и я уже не провоцировал округу несуразным поведением, от чего крепло убеждение, будто стоит мне вновь вызывать у людей смех, так даже в новом обществе, все усилия опять окажутся бесполезными. Одно мне не давало покоя: с кем бы не заводилась беседа, не в словах собеседника, а в самом его присутствии ощущалось что-то блуждающее и постоянно ускользающее от того, чтобы стать произнесённым. Это посеяло во мне интригу и поиски переместились от изучения людей к созерцанию природы.
Спустя пару недель, я наткнулся на давно забытый сквер, близ городской окраины. В нём редко бывали люди, от чего гуляния среди берёзовых рощ и сосновых боров превращались в настоящие отшельничества. Одинокие скитания пресыщали меня новыми силами и подготавливали к очередному возврату в задушливый город. Как-то так прогуливаясь по не раз уже хоженой тропке меня вдруг как молнией пронзило какое-то неизвестное доселе мироощущение. Всё вокруг словно бы стало истончать невидимые для глаза пары, а небо занялось переливом самой разнокрасочной палитры: от фиолетового к зелёному, от зелёного к красному и т. д. Это не было похоже на приступ галлюцинаций, я не употреблял, – для этого пока ещё рано, – психотропные вещества, я был чист как стёклышко; не смотря на полуденную свежесть и бодрость сознания, мне явилось какое-то откровение. Всё же был во всём творящемся какой-то знакомый подтекст, что-то похожее уже проскакивало в памяти, но где именно? Тут я вспомнил ту симпатию к глубине человеческого естества. Окрыляющее чувство загадочности практически не отличалось, что при общении с человеком, что при соприкосновении с природой. Мне было неизвестно, почему возникло это невесть откуда взявшееся психоделическое восприятие леса, но посыл видения, как тогда показалось, всё же смог ухватить. Смысл заключался в том, что не конкретный человек привлекал меня отстраниться от родственников, ни какое-то место, вроде гор, леса и т. п., а та установка сыщика, который всегда занят какими-то исканиями, но не понимает, что ищет он на самом деле себя самого. Человек запрограммирован искать истину и редко кто удосуживается поискать её прямо у себя под носом, – немало важно подчеркнуть – под своим собственным носом, – а что под ним может ещё такого быть спрятано, кроме всех тех оставшихся, навскидку, ста восьмидесяти сантиметров юношеского тела? Само собой, все пути вели к одному – ко мне же самому. Вся таинственность, исходившая от округи, была не в других людях, а во мне самом. Я как-бы проецировал секрет своего бытия на окружающих, думая, что это они источники неизвестной энергии, хотя на самом деле, это моё «Я» являлось таковым.
Придя к этим выводам, грянула спокойная пора. Мне стало ясным моё пребывание в одиночестве, моя незаинтересованность в общении, слабая активность в университете. Все вопросы словно получили ответы; все, кроме одного: «Если я перекладывал поиск волнующей меня загадочности на других, то почему же я так усердно отказывался попробовать проявить её в себе самом, чего я боялся?». А я, по правде говоря, несусветно боялся и страх мой был не без основы. Вся проблема касалась самостоятельности и страха использовать её должным образом.
Корни моей неспособности к самостоятельным действиям берут своё начало ещё дошкольном возрасте. Первый класс я покорял без детсадовской закалки. Меня не отдавали воспитателям, мне не назначали репетиторов, не было и общения со сверстниками. Отрезанность от внешней среды превратила меня в постоянно скучающего, незнающего чем себя занять капризного ребёнка. Только и помню, что дёргал матерь за халат и твердил: «Мне скучно!», затем снова и снова ставя на repeat5 эту же пластинку. Это нервировало не только родителей, но и меня самого. Приходилось лично занимать себя какими-то вещами, просто, чтобы не превратиться в подобие кошки, спящей по пятнадцать часов в день от того, что ей нечем больше заняться. Надо сказать, справлялся я со своей миссией ужасно, ибо ни одно занимательство не увлекало меня на достаточно продолжительный срок, обычно заинтересованность пропадала спустя тридцать минут, в лучшем случае через час. Но тело росло, разум креп и приход в школу устранил потребность в постоянном занимании себя какой-то деятельностью. Уроки, домашнее задание и, – о чудо из чудес! – появление живых, да ещё и одного со мной возраста людей не подавало поводов скрупулёзно отыскивать предмет для интереса, теперь он сам находил меня и не соглашался отпускать, что меня полностью удовлетворяло.
Становясь взрослее, детская проблема саморазвлечения выродилась в ключевом отличии меня от всех остальных, имевших за спиной детсадовский опыт. Ни у кого не было трудности в подчинении, слово учителя – закон, школьные правила – табу, директор – высшее лицо, не терпящее отказа или неповиновения. Все три формальности были до того поверхностными, что, казалось, будто бы вся школьная атмосфера сплошь игра, к которой неизвестно почему относятся столь серьёзно. При чём, правила я не нарушал и учителям не перечил, мне просто было скучно как следовать, так и противиться установившимся порядкам, вместо этого привлекало другое: попробовать самому стать каким-то устоем, который будет регламентировать и что-то декламировать. Ведь так всегда, кто не способен встать в подчинение, сам решается подчинять, вот только в моём случае, поставить кого-то в зависимость хотелось не относительно себя, а по отношению к тому, кто стал моей целью. Другими словами, холодность к правилам высекла искру революционности и овеяло меня каким-то духом свободы, я желал, чтобы люди шли не за писанными законами, а за самими собой, стали познавать себя, а не конституцию, Библию и прочее. В этом плане мне предназначалась роль зеркала, глядя на меня, человек должен был увидеть нечто схожее внутри себя самого; как я выделялся своей циркачностью из массы, так и смотрящий должен был в один момент перестать наконец заливаться хохотом и задуматься: «А нет ли во мне чего-то такого же, отличного от всего привычного?» На эту заветную мысль я уповал и надеялся, но, к превеликому горю, растормошить её мне так и не удалось.
Каково же во всём этом место самостоятельности? В том, что почти на спадающий фокус внимания со своей самости в детстве полностью лишил меня интереса к ней в старшем возрасте. Когда у всех она только просыпалась, ибо близилась жизнь без родительского попечения, мне уже до того осточертело всегда искать ей применение, что сделало меня в некотором роде инфантильным сорванцом. Все эти выводы ретроспективны и в момент первого эксперимента я не понимал природу движущей меня силы. Просто предаваясь скрытому порыву, мне выносилось предписание, что следует делать то-то и то, а зачем и почему – вопросы последние. С таким вот комплексом неполноценности я подсознательно заставлял людей верно использовать свою самость в качестве инструмента по открытию в себе того, что, в сущности, требовалось открыть в себе самом.
Одно всё же не оставляло меня в покое. Раз все действия в прошлом так ни к чему и не привели, не означало ли это, что моя цель не заслуживала столь много уделяемого ей времени, энтузиазма и порывистости? Эти вопросы обрушились словно шквал. Действительно, а что, если всё к тому и шло, дабы я бросил эту глупую затею и перестал искать в человеке чего-то обведённого ореолом мистики? Просто сидя и думая об этом ничего не добьёшься и я принялся проверять свою очередную гипотезу. Развернув свою направленность на сто восемьдесят градусов, человек-зеркало решил посмотреть на своё собственное отражение в себе же самом и это был второй эксперимент, который окончательно предрешил, кем я буду и каким образом распоряжусь вверенными мне телом и разумом.
* * *
Сразу расставлю все точки над «i». Не составило трудности удостовериться в верности моих предположений. Недра человека поистине заслуживают внимания, но важно то, каким образом я к этому вышел. Понимая, что никто не сможет мне помочь, никто не будет ошиваться рядом, напоминая своим шутовством или мудрёностью о существовании чего-то противоположного всему привычному, оставалось рассчитывать только на себя самого, а поскольку я сам становился и причиной, и потенциальным следствием, то это обязывало погрузиться в тотальное уединение – полное одиночество и от этого во мне стал возобладать эгоизм. Трепетное отношение к себе самому ставило окружавших меня не в счёт с моей «величественной» персоной, ведь она претерпевала то, от чего многие уклонялись или попросту не решались стать сами себе толпой: «In solis sis tibi turba locis6», – гласит устав отшельника. Мне было наплевать, что старики считали в праве наслаждаться уединённостью лишь после отдачи общественного долга и лишь по достижению пенсионного возраста. Даже из уст почитаемого мною Монтеня7 эти слова звучали как укор и в то же время как вызов; не уж то столь велики были отличия между пятидесятилетним семьянином и семнадцатилетним юношей? Различие укрывалось за стереотипом, что каждый обязан отдать себя на служение миру, нужна определённая жертва, чтобы спокойно уйти в одиночество. К работе я пока не был предрасположен, а как в отношении к первокурснику, университетские поручения не заходили дальше заучивания конспектов; оставался один вариант – начать заняться писательством. В прошлом имелась пара успехов на литературном поприще, да и сочинения по русскому языку всегда оценивались по высшему разряду. Школа дала мне писательскую закваску и, чтобы совесть не мучила меня фактом безответственного ухода в себя, как-то поддерживать связь с реальностью, я решил путём ведения дневников и создания заметок, так заодно удавалось обойти заповедь «Не отдавший общественный долг не заслуживает отдыха», ибо кто посмеет упрекнуть меня в том, что я ничего не делаю: вот книжечка с парой выписок, вот ещё не засохшее от чернил перо – все признаки, что я чем-то, да занимаюсь, а вот вопрос, чем именно, пока и сам не мог ответить, даже о чём писать не до конца удавалось понять…
Записи делались всегда спонтанно, без расписания как у писателей, но с налётами неожиданных прозрений, как у художников. То какое-то сновидение привидится, то опять нападёт психоделический приход во время прогулки – из этих единичных случаев и состояло моё творчество. Однажды мне всё же стало интересно, а почему я продолжаю дневниковую слежку, почему не забрасываю ежедневные записи и просто не возьмусь, да и положусь на свою память? Заморозив писательское ремесло, со временем я стал чувствовать себя хуже, желание вставать и начинать новый день было ни к чёрту, выйти в магазин и встретиться с прохожим взглядом причиняло такую боль, будто он не добродушно посмотрел на меня, а хотел своим взглядом тотчас испепелить; сам я становился всё раздражительнее. Иногда, даже руки, держа какой-то предмет казались настолько неуклюжими, то и дело, побуждая к мысли оторвать их и выкинуть, а самому – залечь под одеяло и больше никогда не сталкиваться с реальностью, с этим физическим миром, который чего-то, но всё-таки лишил меня. «Или это я сам лишил себя чего-то?», – как-то раз явилась ко мне спасительная фраза и вспомнив последние изменения в своих распорядках, я вновь вернулся к письму. На удивление, я снова стал спокойным, мир перестал контрастировать одними лишь раздражителями и позволил видеть людей именно людьми, ничем не угрожающими и просто спешащими куда-то по своим делам. Этот феномен меня заинтересовал, и я стал искать причину, чем же я таким повязан с писательством, что оно так бойко отозвалось в моей психике.
Во-первых, я уяснил для себя главный принцип любого творчества. Творчество есть творение из пустоты. Во-вторых, всякое творчество изменяет известную нам реальность, мир преображается и всё в нём заложенное также подвергается изменчивости. Дано какое-то понятие и стоит кому-то написать книгу по этому самому понятию, так тут же будет брошен вызов существующей истине. «Может быть располагаемое нами не столь истинно?», – начнут вопрошать некоторые и им ничего другого не останется, кроме как либо пойти за новаторской идеей, либо постараться выступить с защитой старых положений, но, что первое, что второе – оба варианта обязывают творить. Это напрямую соотносилось с тем, что я хотел пересмотреть самого себя, как те же понятия и категории, но каким образом это было возможно осуществить не имел ни малейшего представления.
Немного погодя подступило следующее открытие. Оказывается, что незадолго возникшее кризисное состояние без писательства было тем же, когда человек испытывает страх перед незнанием того, чем ему себя занять. Случилось это так: был довольно жаркий осенний день, птицы за окном всё не переставали свиристеть, а дурманящий запах опавших листьев рьяными потоками затягивался в комнатку, где я, – то ли в медитации, то ли от балды, – лежал на полу и без дрожи в зрачках, упирался взглядом в потолок, стараясь рассмотреть в орнаментальных узорах какие-то знакомые образы. Края поля зрения начали немного мерцать, затем всё больше отдавать зелёными, пурпурными и жёлтыми оттенками, и затем окончательно погрузили меня в уже не раз случавшийся транс психоделики. Они стали приниматься как нечто привычное, но вкупе с запахом улицы и настроенностью к углублению в себя, я вскочил и на радостях наваял следующую запись: «Ах, память ты моя прихотливая! Неужели, чтобы заставить тебя работать требуется столь удачное стечение обстоятельств… Запах прямо как тогда, рядом с берёзовой опушкой, а это внезапное видение многокрасочности! Судьба так и благоволит, чтобы занять меня чем-то, подарить повод что-то записать и обдумать какую-то мысль. Не знаю, Что ты или Кто ты, но спасибо Тебе за спонсорство таким приятным на ощущение материалом». Мои видения в тот период времени били непрерывным ключом. Не было ночи, когда мне не пришло бы какое-то сновидение и я его не запомнил. Всюду меня преследовал дух, заставлявший делать записи и разбираться в них, а я, дурак, решил на время избавить себя от такой услады. Больше такие ошибки не совершались, а главное, чувство опустошённости больше не делало брешей в броне из стали писательского происхождения. Так творчество зарекомендовало себя как избавление от пустоты, от безделья и пустого прожигания времени, а следующим же выводом стало обращение к очередным воспоминаниям, когда, ещё не пойдя в школу, я растрачивал столь недюжинное количество сил, чтобы найти занятное времяпрепровождение. Тогда я писать то толком не умел, от того скорее и переживалась самостоятельность как что-то более роковое, но вооружившись этой способностью спустя двенадцать лет, я вновь был поставлен перед былой трагедией моей судьбы – незнанием, чем заняться, кроме как выжиданием очередного видения и его поспешного конспектирования. Но во всякой сласти всегда, да найдётся ложка дёгтя. Благодаря повторно раскрывшейся детской ране, скука от пустого, ничем не занятого времени сопровождалась уже не просто словами «Мне скучно», а она начала с насмешкой пригарцовывать вместе с ощущением страха – страхом вновь очутиться в том унылейшем состоянии, в какое я впадал без своих дневников.
Наконец-то был найден толковый провожатый в мир новых впечатлений и, как-бы это не поражало, именно в страхе я увидел ведущего меня через сумрак непонимания. Страх должен был прорубать тернистые витиеватости моих заблуждений, страху было уготовлено провести меня к глубине собственного «Я». Почему я так мыслил? Да потому что раз смехом всё никак не удавалось разыскать чаемую мною сакральность, то антагонистом уж точно удастся схватить вожделенную тайну за проворно виляющий «хвост». Ещё никогда я не был столь благодарен той неопределённости, вечно присутствующей в непристроенности моей самостоятельности, ибо, столкнувшись с скрывающейся за ней пустотой и излучаемым от этого страхом, я открыл для себя мир беллетристики. Я спросил себя: «Где люди обычно боятся? Как они искусственно вызывают тревогу и трепет?» и ответы давались слишком уж легко. Фильмы ужасов, хоррор-игры, дома с привидениями – эти вещи возможно и могли оказать эффект на того, кто мало смотрел кино (ко мне это не относилось) и не провёл подростковый период наедине с компьютерными играми (этот грех меня также не обошёл стороной), но всё перечисленное уже было когда-то мною пережито. Единожды переболев всем этим, я выработал своего рода иммунитет и более не мог поддаться страсти вновь пустить себя на поводу этих детских шалостей. Оставалось одно – опробовать такое, что ни разу не соприкасалось со мной и, – напомню, что в школе, не смотря на успехи по русскому и литературе, чтиво для меня всегда казалось наискучнейшим занятием, – nolens-volens8, пришла пора утопить себя в омуте книжничества.
Отторжение, отрицание, недопонимание, но вот, роман за романом, я втянулся и окончательно сросся с аватаром чтеца. Начинал я с классики: «Мартен Иден» Джека Лондона, «Лезвие бритвы» Ивана Ефремова, «Приключения Эраста Фандорина» Бориса Акунина и т. д. Если кто спросит: «Что же пугающего в этих произведениях, где же тут притаится страху?», то Вы не представляете, каким же испытанием, какой больной прививкой оказалось приучивание себя к погружениям в истории! Отдаться на волю книжным простором было для меня сродни тому, когда долго не разрабатывающий мышцы спортсмен снова приступает к тренировкам, на следующий день его мышцы будут ныть, а все члены трястись от прошлодневной нагрузки; то же самое напряжение испытывал мой мозг, в случае с которым, всё обстояло ещё хуже чем у несчастного гимнаста, ведь я практически никогда и не занимался чтением как отдельным, не побоюсь выразиться, видом спорта, от чего переживания, смятения и непонимание от происходящего сумбура внутри моего мышления, ощущались во много раз страшнее, чем если бы я хотя бы когда-то имел подобный опыт, но увы, им я себя в прошлом успешно обделил. На первых парах страх был, нёсся разъярённым авангардом и виднелся он, как ни странно, в каждом возвращении к этим «безмятежным» или по заверению некоторых, чуть ли не буколическим в своей «умиротворённости» романам.
За месяц я осилил около дюжины похожих на вышеперечисленные произведения и ощутив возможности к лёгкому усвоению любого материала, я приступил к тестированию на себе книжного страха. Начал я с тёмного фэнтези и первым в списках среди самых популярных авторов этой категории значился Стивен Кинг. Пролистав его библиографию, взгляд зацепился за серию «Тёмная Башня». На следующий же день, закупка в книжном обошлась мне в кругленькую сумму, так как серия начисляла за собой семь томов и одну промежуточную историю. С этим кладезем я вернулся в свой укромный уголок и две недели от меня больше не было никаких вестей, я испарился со всех радаров и создал видимость, будто бы меня никогда не существовало, родные переживали, в университете стали бить тревогу, а для меня, в этой заброшенности наступили четырнадцать дней ни с чем несравнимого блаженства, потому что мои, – по студенческим меркам, – книжные затраты всецело окупились, можете не сомневаться. Проглотив все тома «Башни», я заинтересовался другими работами Кинга. Так были переварены «Сияние», «Доктор сон», «Бессонница» и «Ловец снов». Разочаровавшись в последнем, я понял, что с Кингом пора завязывать, да и каким-бы приятным не было чтение истории о Стрелке и его достижении башни, цель экспериментирования так и не была достигнута – страха я так и не почувствовал. После неудачной попытки, следом последовала тяжёлая артиллерия: сборники рассказов Говарда Лавкрафта и Эдгара По, в дополнение к которым приобрёл серию «Монстролога» Рика Янси. После второй волны «ужасных и вгоняющих в жуть» работ я потерял веру в идею пробудить страх таким вот книжным способом.
Продолжая ломать голову, почему же многие считали эти произведения универсумами ужаса, я решил проанализировать прочитанное не на выявление в них конкретики, вроде образа страшного оборотня или всепоглощающей бездны, а на тенденцию, которая красной нитью связывает каждую из книг. Рассуждения имели следующий вид: где-бы не создавалась атмосфера ужаса, там всегда соприсутствовал элемент мистики, а всё мистическое никогда не оставалось в отдалении от таких явлений как «страх Божий» и повышенного психологизма, призывающего отрешиться от всего мирского и вознести свою душу выше материальных пределов. Мистическое опьяняло свободой от физических оков. В одном из трактатов Кьеркегора Сёрена, философия которого так и сочится мистификациями, где-то сказано: «Страх есть головокружение свободы» и выходило, что вопрос страха опять возвращал меня к проблеме свободы и незнанию, куда деть свою злободневную самостоятельность. Вовремя свернув с этой скользкой дорожки, я посмотрел на всё уже не в детской перспективе, когда пытался отыскать действие или какое-то событие, а в ныне складывающейся ситуации, где всё упиралось в писательство. Творя, мы переиначиваем известные шаблоны, потрошим общепризнанное и тем самым создаём новое, рушатся одни начала и строятся новые и не в этом ли на самом деле запрятан корень всех страхов? В средневековье церковь с предвзятостью и сомнением относилась к мистикам, ибо их новации всегда несли с собой изменения. Мистическая ниша располагала не комментаторами, по десятку раз читавших одну и ту же догму и делавших в ней незначительные поправки, а проповедниками будущего и до того боязно становилось святым церкви за свои догматы, что практически на каждом мистике ставили тавро отступника и еретика. Баталия между догматизмом и свободным мышлением была тем же противостоянием нормы и ненормы, а перенеся эту параллель на занимавшую меня литературу, оказалось, что история мало чем отличалась от тех же борений добра и зла, чёрного и белого, героического и злодейского. Но вот, что интересно: стоило норме повстречаться со своей противоположностью, схождение двух полюсов преломлялось через творчество и создавалось нечто третье, сочетающее в себе по чуть-чуть от каждого, лежащего теперь в основе новоиспечённой, как ни странно, очередной нормы. Старые порядки забываются, а только родившееся заступает в качестве чего-то актуального, на которое уместно начать ровняться всем и каждому. Расставив эти мысли по своим местам, они приняли вид вполне удовлетворительного заключения: притягивающее меня в себе самом, пытавшееся стать разбуженным в других при помощи комичности моих поступков, старающееся показаться в череде прочтённых мною книг пришло к одному единственному, но всегда мелькавшему во всех поисках моменту и было это ненормальностью.
А вы думали я сейчас название новой планеты продиктую или отвечу на вопрос, что такое вселенная? Само собой, мне приходилось двигаться маленькими шажками, преодолевать коротенькие дистанции, но такой детской очевидностью, – думаю, не стоит говорить, что если сильно увлечься каким-то предметом и тот долго не желает поддаваться мышлению, то любое, даже совершенно ничтожное продвижение способно предстать не иначе как инсайт, что собственно я и чувствовал, когда пришёл к столь, как может показаться читателю, заурядной идее ненормальности, – мне удалось не впасть в старые блуждания с моей самостью; наградой же, хоть и с промедлением улитки, но не лишённого при этом успешности избегания, стало всё приближающееся осознание сущности нужного мне страха.
Последующие размышления велись не день, не два, а несколько недель. Записей я делал мало и только спустя месяц, писательское перо наконец получило приглашение вновь окунуться в лоно запылившейся чернильницы:
«Смех и страх – лучшие выразители того, что выбивается из привычности. Вот пред человеком стоит выбор: посмеяться ему или испугаться? И то, и другое заставят повседневную скуку заползти обратно в свою коморку; от первого, будет радость, будет счастье, но какого-то урока из этого не вынести; второе строго́ и от этого запоминается куда ярче, нежели юморизм. Люди так и грезят одной и той же мыслью: «От смехотворности меньше вреда психике, меньше угнетённости и не проще ли посмеяться, да забыть нечто из ряда вон выходящее?», – но это не по мне. Смех не помогает, а только расслабляет, даёт передышку или того хуже, вовсе ослепляет, прикрывает незамутнённую линзу на всю исцарапанную и замыленную, а что ещё плачевнее, так это то, что даже с этим пониманием, народ так и продолжает смеяться и бояться без должного отношения к предмету, вызвавшего смех или страх; у большинства не возникает и намерения задуматься о притаившемся перед ними величии… И если искания мои до сих пор заходили в тупик, может и нет во мне никакой тайны, нет той мистической ненормальности? Всё такое поверхностное и одновременно прячущее за собой что-то большее, прячется ли и во мне это самое «большее» или я просто всё выдумал и на столько предался фантазии, что утратил видимость грани между правдой и ложью?…» Последние штрихи этой записи пошли криво и неуверенно. Тогда я и впрямь потерял твердыню, ноги будто парили в облаках или скользили по водной глади. Куда не ступал, в какую-бы книгу не заглядывал, всюду мерещилось, что живу уже не я, не индивидуальность, не личность, а маска, пустотная, ничего за собой не закрепляющая и ничего в себе не покоящая. Но всё изменилось во время одной из – ставших в те времена довольно редкими – вылазок на рынок. Идя вдоль скамеек и протискиваясь между заполонивших главную улицу старушек, – этот контингент составлял основную массу торговцев, – наконец-то удалось пробиться к любимой пекарне. Прозвенел колокольчик и рыночный шум усмирился вместе с захлопнувшейся дверью. Пройдя мимо стеллажей, усталый взгляд не привлекало ни одно кулинарное изделие, тогда мне казалось, что я зашёл только для какой-то условной формальности, потому что никогда не отказывал себе повидаться с милым, в сравнении со всеми остальными, в здешних краях продавцом. Это была женщина около пятидесяти лет, греческо-грузинских корней с приятным, привносящим какую-то пикантность, русским наречием; всегда мила и доброжелательна, на выпечку не скупилась и иногда отдавала за так, лишь бы поделиться с кем-то своим счастьем, счастьем владеть такой пекарней и своим местом в этом мире. Вспоминая всё это сейчас, вместе с чем рельефно изваивая пером каждую буковку, мне сразу же стало понятно, с какой целью я тогда зашёл в это пропахшее кунжутом и корицей местечко. Что, как не вдохновение от уверенной в себе знакомой может поддержать сломленного экспериментатора? И вдохновлённость сумела-таки отзвучать своим сольным арпеджио, выразившимся приветствием меня не как завсегдатая, а скорее фигурой, выделяющейся из всякой обычности и эта самая необычность сыграла тогда главную роль. «Батюшки родные! Вы посмотрите кто к нам пожаловал, а что же это с тобой сталось?! Не уж то проклятие студенческой жизни дало о себе знать?», – с свойственным для любой приветливо встречающей гостя продавщицы пропела моя знакомая. «В каком это смысле? Всё как всегда, извините, просто времени не было заскакивать…», – и тут она меня перебила, произнеся слова, выдавившие фурункул той шаткости, уже начавшей изрядно разгнаивать мой дух. «Ох, нет же, посмотри на себя: кожа, да кости. Совсем забросил себя, ещё и клиентов всех распугал. Ты то может и не заметил, а у меня глаз намётан. Как зашёл, так тут же, один за другим и…, – здесь она звонко присвистнула, не уводя взгляда с моей, в тот момент и впрямь, изрядно исхудавшей фигуры, – с концами, теперь не сыщешь уже этих людей, распугал ты их, мой дорогой. Вон как засеменили, будто смерть к ним средь бела дня наведалась. Не гоже ведь себя до такого доводить. Сегодня уж не откажу, всё, что выберешь – за бесплатно отдам, а то так и окочуриться можно, страх ты наш доморощенный», – подхихикнув в конце, тем самым закончив своё, как чувствовалось, ни в коем разе не терпящее пререканий обращение. Эта поистине позитивная леди всучила мне провианта на две недели вперёд и приказала тут же пресытиться хотя бы чем-нибудь, так и уповая в тот момент, что если я что-то вкушу, то тотчас расширюсь в габаритах. Жаль было её расстраивать, но выходя из пекарни, ни аппетит, ни любое другое желание связанное с рынком не могло выместить из меня те семена, посаженные её шутливой манерой вести разговоры с покупателями. До чего же поразительна судьба! Всегда удивлялся такому, на первый взгляд, лишённому всякой важности и примечательности, но не простоты, антуражу, дающему такое, чего не ожидаешь заполучить даже во время экзальтированного состояния при проведении какого-то ритуала. Вот уже добравшись до дома, я всё равно продолжал идти вперёд, проходя улицу за улицей, минуя здание за зданием и только выйдя на городскую границу, ноги наконец-то остановились, а столь долго вскармливаемые мысли были готовы извергнуться.
«Боялись? Меня? Ведь я даже ничего для этого не делал, никаким образом не старался заставить людей себя бояться, так почему же они беспокоились, почему уходили? Неужели какая-то часть меня самостоятельно решила попытать ни в чём не повинных людей? Но пожалуй и вправду хороший вопрос, а может ли кто-то быть повинен в существовании другого человека, если по своей природе, этот другой именно тот, кем он является здесь и сейчас и никаким другим характером или строением тела обладать не может?», – спрашивал я у самого себя и в сгущающемся вечере, ради тех подаренных продавщицей слов, с лёгкостью отправился бы на совершение любого из подвигов Геракла, ибо солнце физической реальности может и опустилось, но моё внутреннее светило, разогнав громовые валы, воспрянуло из самых низов и дало цельность всем моим ранее всё никак не складывающимся пазлам. Травя окружающих смехом и заделывая на их лицах улыбки, я не преследовал эти цели специально. Действовало исключительно подсознание, оно мною руководило, а потакая ему, я отказывался при этом постичь сподвигающий меня механизм. Себя радовать мне тоже удавалось, но только неосознанно, это сейчас я вспоминаю всё это с расчётом, что во всём есть своя causa9, но тогда, история шла без рефлексии, без взгляда назад и в этом было кардинальное различие с тем, как я позже стал подходить к феномену страха. Уже не бессознательно, а с намерением, со всей устремлённостью и рвением я желал отыскать пугающую меня сущность и в этом была моя ошибка. Как автору стать отличным писателем, если он не может довести навык печатания до автоматизма, чтобы более не отвлекаться на постоянные исправления и вглядывание в маленькие буковки на клавиатуре; как стать самым громогласным оратором, если никак не разрабатывать голосовые связки; как успевать сделать куда как большее количество дел, если мы не можем научиться собственным усилием просыпаться в нужный для этого час и постоянно заручаемся помощью будильника? Ответ на все эти вопрос один – всегда необходимо что-то доводить до уровня непроизвольно выполняемой установки, тогда мы не будем тратить часть сил на внимание к мелочам и всецело сможем сконцентрироваться на конечной цели. В случае со страхом, этого то мне как раз и не удавалось достичь, какая-то часть сознания всегда работала предумышленно, заранее стоя наизготовке для ещё не начавшихся исканий. Поэтому я зарёк себе на носу, если и в самом деле во мне присутствует та же ненормальность, что и в тысячах других, значит она даст о себе знать только когда прекратится намеренное вытягивание совращающей меня ужасности. А совращать было чем, не только третьим экспериментом, речь о котором далее, но и тем, благодаря чему мне впервые сказали, что я неосознанно пугаю люд, а именно голодом, а вернее – его нелицеприятным результатом.
Эксперимент #3
Представьте картину: огромное семейство стремглав носится из одного угла кухни в другой, торжественные и праздничные блюда обвораживают своими заморскими и столь редкими для обоняния запахами, каждый входящий в эту кулинарную обитель мгновенно подвергается неостановимому потоку слюны, не в силах сдерживать природный рефлекс, семейный круг уже в нетерпении наконец-то сесть за стол и начать справлять торжество. Вот все расселись, схватили ножи и вилки и в зал входят главные повара с десятками подносов, под которыми теплятся столь нежные и восхитительные лакомства. И… *барабанная дробь* В одночасье, всё это выбрасывается в печь и сгорает у всех на глазах. Какова была бы реакция в любой из нормальных семей? Крики, стоны, гнев, ненависть и всё из-за какой-то пищи! Но тот же пример совершенно иначе предстаёт в семье аскетического нрава, где после неожиданной «поджарки» ни один не вскрикнет и не пожалуется на сумасбродность шеф-повара, все продолжат сидеть в уединённости, лелея слух урчанием животов своих родственников. Таковой же торжественной процессией стал заниматься и я. По первой, когда часы били время принятия пищи, я не мог сначала отучить себя садиться за кухонный стол и чего-то ожидать. Это смешно, но я просто сидел за пустым столом, слушал песнопения желудка и успокаивал себя одной мыслью: «Мне нужно так изменить себя, чтобы внушать страх без ведома осознанности, без усилия целенаправленной провокации».
Так длилась неделя, две, месяц, полгода и вот, спустя семь месяцев, аскетическое закаливание неожиданно спрогрессировало, но в самых разнонаправленных крайностях.
Первая состояла в неприятии своего тела. Мне было уже восемнадцать лет, столько энергии, столько животрепещущей силы из меня вулканировало и в один прекрасный момент мне до того опротивела эта всегдашняя преисполненность, когда я, как по звоночку, отправлялся куда-то на прогулку, стоило телу начать изламываться в потребности двигаться, что решение было следующим: к голоданиям стали приплетаться физические упражнения. Не просто гимнастика или комплексы асан, а неимоверно напрягающие, доводящие тело до степени, когда после всех процедур, мысли мельчали до одной единственной – «прилечь и не двигаться». Плоды самобичевания отразились на моём теле: теперь если кто и видел плетущееся на двух ногах человеческое изваяние, он не мог точно сказать, юноша перед ним или девушка, старец или молодой человек, в конце концов, живое оно или просто ожившее. Поначалу меня это забавляло, я и сам стал замечать проступающую андрогинную природу. Во мне всё меньше оставалось от тела бойкого мальчугана, складки и черты старой телесности смешивались с женским началом, чем порождалось новое «Я», однако тогда я пока не знал, к чему приведёт моя уравновешенность, но всё шло именно к тому, что если каждый врождённо имеет предрасположенность либо к выраженности мужской составляющей, либо женской, то эксперимент с голоданием и лишением себя физической энергии приравнивал обе сущности, тем самым стирая старый образ «Я», заодно не забывая удобрять почву для ещё не взращённого.
Вторым казусом, – который было вполне логично предугадать, но всё же, моя самонадеянность на устойчивость молодого здоровья не давала мне повода задумываться об этом в своё время, – стали всевозможные заболевания организма. Мало того, что пищи я потреблял нещадно малое количество, так ещё и по качеству, это были далеко не фрукты или овощи, а какая-нибудь мучная стрепня, что-то либо очень приторное, либо острое и т. д. Словом, обделив себя в пиршествах, я старался всецело восполнить малые приёмы пищи вкусовыми извращениями, что неблагодатно сказалось на моём обмене веществ. Спустя пару месяцев мне пришлось пересмотреть свой рацион и больше не предаваться ухищрениям вкуса, ибо началось внутреннее воспаление. До органов инфекция не добралась, но вот паховые лимфоузлы изрядно пострадали, до конца дней наделив меня слабой работоспособностью желудочно-кишечного тракта. От долгого пристрастия к «клеванию как птичка» желудок ссохся и принял уже мало подверженный деформации вид. Даже если бы я и захотел насытиться, устроить прямо-таки настоящий пир, я с уверенностью мог сказать, что после трапезы, в ближайшие пятнадцать минут, всё съеденное благополучно поглотят канализационные трубы, а я, вновь голодающим, поплетусь куда глаза глядят. Я больше не мог принимать те же порционы, что и раньше, тяжёлая пища переваривалась с чувством отяжеляющей боли, а в дополнение ко всему, не имея устойчивого графика по приёмам завтрака, обеда и ужина, – давным-давно утративших для меня какую-то значимость, – началось страдание от запоров и откровенного непонимания, как работает моё тело.
Третье изменение стало заключительным, после которого я перестал столь строго подходить к самолишениям. После посещения больницы и рекомендаций врача я стал позволять себе чуточку больше прежнего, рацион хоть и продолжал составлять двухразовый приём пищи, но его количество и содержание изрядно побогатело. Были опасения, что меня заберут в психиатрическую клинику с подозрением на синдром анорексии и скорее всего, этим бы всё и закончилось, но после первого визита к доктору, моя нога больше не ступала по больничным коридорам; я счёл себя достаточно предупреждённым и не видел надобности вновь являться в гастроэнтерологический отдел. Исполняя предписанные мне показания, спустя пару недель тело снова стало подтянутым, кожа эластичнее, а сил выделялось ровно столько, чтобы им хватало полномочий поддерживать походку не плетущегося под натиском несколько тонного груза носильщика, а человека с твёрдой и уверенной поступью. Когда здоровье стабилизировалось, печали моей не было конца. Я терзался ранним завершением столь долго длящегося эксперимента. До похода в больницу даже явилось предвосхищение, что ещё чуть-чуть и судьба экспериментатора даст какой-то знак, укажет новый вектор, в котором следует двигаться. Но никаких символов, никаких ориентиров я так и не заметил, пока однажды не стал жертвой самой известной проблемы любых опытов над людьми – очень сложно следить за экспериментом, когда ты сам являешься и экспериментатором, и испытуемым. Непроизвольное распространение страха действительно началось: особо впечатлительные иногда даже шарахались от меня, родители начинали держать детей как можно ближе, стоило мне только рядом очутиться, мужчины выпячивали грудь и шею, демонстрируя свою готовность начать защищаться, девушки и юноши перешёптывались и строили теории о происхождении пугающей их персоны, а этот, всех ужасающий фигляр смерти, не имел ни малейшего подозрения, что так долго ожидаемые им результаты от голоданий уже распустились бутонами склепной тревоги. Рано или поздно я должен был это заметить, что, собственно, и случилось, но, когда я это понял, не было во мне эмоций вроде: «Ах, слава великим, после больницы всё не пошло коту под хвост!», – вместо этого я умудрился войти в состояние смиренности и медитативности, стал более осторожно обхаживать всплывающие в голове образы, потому что осознал нечто более важное: мой разум начал играть со мной в игру, правила которой решил не объяснять. Непроизвольность стала неотъемлемой частью моей натуры. Одним только видом теперь удавалось внушать страх окружающим, это меня радовало, так как давало подтверждение, что и во мне есть ненормальность. Превратив себя в бессознательно распространяющий ужас источник, мне не удалось запечатлеть момент, когда это «распространение» началось, следовательно, отслеживать следующие изменения предстояло с куда большим вниманием, нежели тем филистёрским кругозором, с которым я вёл мои наблюдения в прошлом.
После утверждения в себе ненормальности, прошедшие месяцы перестали казаться выкинутыми в топку. Оставалась финишная прямая, запасшая на посошок последний вопрос: чем именно я отпугиваю от себя людей? Изменив питание, я больше не походил на кощея-бессмертного, поэтому и перестал рассматривать вариант, что людей отчуждает от меня мой внешний облик. Спору нет, что сорок пять килограммов при почти ста девяноста сантиметрах всё равно бросаются в глаза, но я верил, что в основе всего лежит нечто иное. Ведь слабо же на меня обращали внимание, когда я выглядел ещё хуже, а это значит, что источнику тревог окружающих никак нельзя приписывать такое слабое на поверку суждение, будто всем попросту было отвратительно посматривать на худощавость юношеской особы. В добольничные дни я ежедневно и скрупулёзно следил за реакциями прохожих и не видел в них какой-то отталкиваемости, скорее я ничем не отличался от любого бытового предмета, просто может быть немного не соответствовал каким-то рамкам, а так, вещь как вещь. Это отношение меня убивало и ранило куда сильнее, нежели когда я стал источать нечто угрожающее. Моя данность в роли какого-то страшного для общества зверя оборачивалась для меня благоприятнее, чем все когда-либо складывающиеся доселе отношения. Выходило, что источник мой не внешний, а внутренний. Что-то пребывало во мне и это «что-то», – в этом я не сомневался, – обладало собственным мышлением. Это «нечто» самостоятельно устанавливало границы моего эксперимента: до определённый поры людям удавалось соприкасаться со мной взглядами без какого-то запугивающего их подтекста только потому, что это не перечило желанию моей тайной сущности; когда же я переступил порог бессознательно выходящей ужасности, это также получило знак «добро» по причине следования расписанию моего невидимого регламентёра, ведь объяснить как-то иначе, почему всё тогда происходившее случалось именно в «тот момент», а не в какой-то другой мне казалось пока непосильным, но и этих выводов хватало, чтобы почувствовать себя до невероятного удовлетворённым. В то время фантазия так и ваяла меня в представлении учёного-анахорета, отрезанного от одного мира и вступающего в неземную связь с чем-то иным. Даже сейчас, спустя столько лет не могу точно сказать, что дело было именно во времени. Да, со стороны видится будто бы всему нужно было лишь предоставить достаточно времени, чтобы мой неизвестный покровитель окончательно сформировал себя во что-то действующее автономно, но если и согласиться с таким мнением, то в последующих размышлениях нельзя будет и шагу ступить без учёта индивидуальных особенностей. Одни вундеркинды берутся за самопознание уже в одиннадцать – двенадцать лет, я же, ленивец, взялся за себя только к семнадцати годам. Все описанные до сих пор опыты имели больше ускоряющий манер; главным фактором роста и побудителем всех изменений всегда оставалось время. Если бы я пренебрёг стойкостью продолжать последний из опытов столь длительный срок, навряд ли бы долгожданный эффект устрашения изошёл спустя семь месяцев. Вероятно, и года могло не хватить, чтобы выудить ту непроизвольную и подсознательную активность наружу.
Все три эксперимента проводились, так сказать, в полевых условиях, больше ангажируя к миру внешнему, чем к каким-то внутренним переживаниям, они касались всегда моего тела, других людей и их контакта со мной. Все заметки пронзает дух материальности, а всё связанное с объективным – всегда промежуточное, только подготовительное. Настоящие же эксперименты начались, когда я понял, что в моей черепной коробочке хозяином являюсь далеко не я, а кто-то другой