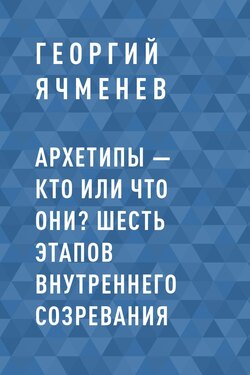Читать книгу Архетипы – кто или что они? Шесть этапов внутреннего созревания - Георгий Константинович Ячменев - Страница 1
ОглавлениеLeitmotiv данного произведения – это продемонстрировать читателю одну интересную модель периодизации. Сущность её состоит исключительно в архетипическом характере. Для прояснения последнего, достаточно вспомнить те ориентиры, которых придерживались другие составители возрастных моделей. Фрейд отталкивался от сексуальности и полового созревания; Выготский от кризисных состояний; Эльконин придерживался соотношения каждого выведенного периода с его предполагаемым местом в образовательной системе. Многих авторов можно было бы ещё перечислить, но от этого было бы мало толку, по крайней мере, из предвкушаемого, нам досталось бы только половина блюда, когда как остальной части предстояло бы быть смытой в глубокое жерло бессмысленности. Дело в том, что число возрастных периодов практически всегда у всех одно и то же: от шести до семи. Эта та «безвкусная» часть нашего лакомства, но вот что касается того кусочка, который всё-таки угодил в наши тенёта – это та самая особенность, из которой исходил каждый вышеописанный автор. Таковую же специфику хочу выделить и я; здесь нет смысла выявлять какие-то новые периоды созревания личности, важность будет составлять только взаимоотношения уже известных отрезков роста с краеугольной для повествования идеей, коей я смело нарекаю архетипы.
Первым, кто постарался обусловить возрастную периодизацию архетипами был учёный Карл Юнг. Сформированная под его крылом школа аналитической психологии определяет четыре основные возрастные группы; хоть список периодов и усечён в сравнении с другими авторами, он всё же не страдает от заурядности. В фундамент каждого возрастного отрезка положено преодоление внутренних психических образований – архетипов. Выделенные Юнгом такие образы как Персона, Тень, Анима или Анимус и Самость являются законодателями нашей внутренней жизни и постепенное перевоплощение одного архетипа в другой как раз сподвигает личность к обновлению возрастного бытия. Другими словами, процесс роста описывается Юнгом как формирование Эго (минимальное использование Маски), потом интеграция Тени и уже затем интеграция Анимы/Анимуса вместе с заменой Эго Самостью (Бог внутри нас)1. На примере юнгианского онтогенеза, я постараюсь объяснить те же возрастные метаморфозы в свете немного других архетипов. Замена одних архетипов другими связана с тем, что выводимая мною классификация способна облечь собою куда как больший спектр моментов, ответственных за становление личности в контексте архетипического созревания. Говоря иначе, если аналитическая психология гласит, что Самость есть совокупность образов, по отношению к которым человек ощущает себя нуминозным (зависимым от чего-то божественного), то я же могу присовокупить к юнговскому Self2 ещё пару тройку данностей, а всё сакральное перенести на какое-то другое начало. И я говорю не о праздном перемешивании архетипических представлений, а об осмысленном и соотносимом с современным мировоззрением обновлении. Как-бы вели́ки не были труды швейцарского психиатра, рано или поздно всему приходится пройти реабилитацию и восстановить свою актуальность; это-то последнее я и решил произвести написанием сих работы.
Во-первых, стоит начать, так сказать, с базиса – самого определения, что же называется архетипом. В классической развёртке, архетип – это структурный элемент коллективного бессознательного3. Более же полно и не без йоты собственных соображений, архетипом называется некое сочетание различных исторических переживаний, воплощённых в том или ином, символе, образе или аллегории. Обобщая эти две трактовки, получается, что на линии исторического развития архетип оказывается некоторой точкой, своего рода отмеряющим моментом, говорящим о завершении или начинании того или иного мирового процесса. Коллективная память на то и существует, чтобы по её остовам припоминать, что же происходило в определённую эпоху. Первыми делегатами этой коллективной памяти были различные традиции, ритуалы и обряды древних племён. Чем цивилизованнее становилось общество, тем сильнее изменялось представлений о коллективности; былые архетипы уже не могли скреплять человечество теми же крепкими узами, что и в прошлом, поэтому появилась неотложная потребность в переоформлении. Новым облачением для архетипов послужила более высокая форма духовности, связанная уже непосредственно с искусством и творчеством. Ею стала канва мифологии. Творение мифа приравнивалось к творению архетипа и необычность этой творческой креации состояла в том, что творец даже не подозревал, что создаёт архетипическую данность; ему скорее всего казалось, будто он занимается простой идеализацией какого-то исторического события, не более, но благодаря фактору неосознанности, мифологическая история превращалась в архетип.
По этой причине, аналитическая школа и провозгласила архетип дериватом бессознательной деятельности. Коллективное бессознательное – это универсум архетипов, как тех же различных мифологических историй. Важно отметить то, что архетип отражает собой не целую историю, а лишь её наиболее характерные черты. От частоты проявления каких-то характерных черт, мифы скорее становились сосудами, сберегающими поддерживающую их сущность – архетип. Без той или иной повторяющейся в каждом мифе характерности, к написанным историям никто бы так и глазом не повёл. Архетип представляется тем актуализирующим средством, без которого не то, что рассказ, но и действие, да даже сама манера существования человека оказывается ничтожной, бессмысленной и совершенно непривлекательной.
В совокупности, все эти особенные черты предстают этаким образом, который обязуется перекочёвывать из одного повествования в другое. Он не принуждает располагать своё бытие в мысли какого-то художника, писателя или, в целом, творца. Дело в том, что поскольку архетип воспринимается нами исключительно бессознательно, то и в творчестве он будет запечатляться неосознанно. Само собой, не каждое произведение довлеет обладать архетипическим содержанием. Большую роль в этом играет поддержание одного условия – это правильной персонификации. То, в каком конкретно образе мы являем потенциальный архетип, от этого и будет зависеть, сколь много особенностей он способен воплотить собою. Даже если и согласиться с рядом мнений, твердящих, что нет такого творения, которое не утаивало бы за собой нечто архетипическое, большая или меньшая замечаемость всё равно будет зависеть от количества зафиксированных в архетипе черт, наиболее часто отмечаемых в каждой эпохе и повторявшихся от одной исторической вехи к другой.
С этим введением, можно наконец перейти к той дерзновенной идее, которую я собираюсь проповедовать. Персонифицировались архетипы всегда по-разному: то обобщённость одних особенностей проявлялась чем-то женственным; в другом случае, уже чем-то демоническим; в третьем вообще нельзя было распознать похожесть на что-то уже известное и приходилось подключать изрядную долю воображения, порождая тем самым химер, вроде Духа, Бога, Даймониса и т. д. Современные приверженцы учения аналитической школы также не отказывают себе в желании создать какой-то новый архетип, считая, что переименовав и дополнив тот парой-тройкой черт, они получают абсолютно новое образование. Как по мне, всё это несусветная блажь! Вместо того, чтобы приходить к единству и малости, число архетипов неустанно градируется и становится всё больше. Современность больше начинает походить на язычество, где важно́ не что-то одно, а количественность, которая является ничем иным, как расщеплением изначального образа на составляющие. Можно ли сказать, что дополнительно выводимые черты новых архетипов лишь жалкая надуманность – я не решусь утверждать, но во мне крепнет невероятная уверенность, что в этой тенденции следует присмотреться к тому, как повела себя некогда сама история. Язычество имело место быть, спору нет, но позже, пьедестал правления заняли монотеистические религии (христианство, ислам и т. д.) По этому же примеру следует поступить и с архетипами; стремиться обусловить не дюжины бессознательных данностей, а наиболее меньшее их число. Ровняться на традицию монотеизма, да и в целом, на саму историю стоит уже по той простой причине, что архетипы – это стежки, связывающие историю и отдельную человеческую жизнь. Творимый архетип репрезентует не просто какое-то давнишнее происшествие, а переживания самого творца в тот период времени. И раз присущая всем архетипам специфика – это извечная повторяемость, то и подобный же повтор истории, как в случае с монотеизмом, обязан произойти снова.
Я решил бросить себе вот такой вот вызов – создать некую классификацию архетипов, дабы собранный набор был хоть и мал, но при этом, настолько содержателен, что смог бы отразить собою все прочие, существующие по сей день архетипы. Я не собираюсь творить миф или писать какую-то историю, оставим это беллетристике и новеллистам; моей же целью становится прояснить сущность, само ядро мифологем, чтобы с более глубоким пониманием которого, читатель наконец догадался, почему одно произведение его так сильно притягивает, а другое – так и гонит взгляд прочь. Дело именно в архетипическом подтексте и тех образах, что искусно в нём завуалированы.
Но спрашивается: «В чём же состоит искусность, когда речь идёт о пересказе истории?» Даже если автор и пытается осознанно скрыть прямоту слога, а определённых личностей он символически представляет какими-то иными образами, то неосознанно, ему не избежать привнесения в свои толки архетипического образчика. Чаще всего, архетипы описывались как сверхлюди (Ахилл, Одиссей, Тесей) или представлялись самими богами. Добавляемый в мифы элемент божественности отражал собою непознанность природы и интерес к натурфилософии. Поэтому боги античных времён переняли на свои амплуа характеристики природных явлений, будь то молния (Зевс), свет (Аполлон), огонь (Прометей) и т. д. Представление об архетипических началах в божественных лицах отождествима со слабой познанностью той природной сферы, которая присваивалась богу; слабость осознания какого-то события, катаклизма или стечения обстоятельств близка к тому же бессознательному. От этого архетип и помещён в область, именуемую коллективным бессознательным.
Культура не останавливалась в своём развитии и вскоре политеизм заменился монотеизмом, а впоследствии, реформация упразднила строгую догматику и человек почувствовал себя наконец более раскованным; теперь было не обязательно следовать прописным заповедям и творить дозволялось неприуроченно к теологии. Секуляризация Нового времени заменила монотеизм на монизм – на оправдание какого-либо бытия посредством всего одной, но основополагающей всё сущее essentia4. Секуляризованное мышление положило начало антирелигиозному творчеству, первыми эманациями которого стала литература далеко не религиозного манера. Конечно, частичкам былой теологии мало-помалу всё же удавалось проглядывать в строках нового творческого течения, но их концентрация катастрофически уступала тому уровню, столь долго поддерживаемому на протяжении большей части средневековья.
Вместо всесодержащего в себе всё и вся архетипа Бога на смену пришли Его множественные вариации, отражавшие собой не всеобъемлющие истины, но какие-то их малые феофании5. Припоминая повторяемость как истории, так вместе с ней и архетипов, наступила пора циклического возобновления языческого умонастроения. Такой склад ума нашёл своё место в секуляризованном творчестве, где роли богов заменили собой профанированные образы заурядных персонажей – самых, что ни на есть простых людей, со своим скромным бытом и общественными деяниями. Архетипическая закалка успешно перебралась на новую матрицу и уже в свете образов, что были отсечены от большинства чего-то религиозного, сконструировались основные типологии архетипов.
Многие авторы любят делать упор в сторону познания мифологического прошлого, тех языческих пантеонов, существовавших ещё до нашей эры6. Но также есть и те, кто не брезгуют прибеганием к творениям, что не столь удалены от нас во временной хронологии. Анализу подлежат не только мифы, но и романы, чем доказывается, что архетип способен неосознанно присутствовать всюду. При объяснении своей классификации я также не буду фрондировать этой направленностью и часто буду указывать на поведение того или иного архетипа, отлично продемонстрированном в творчестве некоторых писателей. Чтобы для кого-то не было сюрпризом, что в каком-то месте я начну ссылаться на определённого автора, предлагаю заранее перечесть тот ряд, который будет использоваться при экзегезе архетипов: «Страдания юного Вертера» Гёте; «Нарцисс и Златоуст» Гессе; «Тошнота» Сартра.
Вот, кажется, и расставлены все точки… Теперь можно со спокойной совестью приступать к основной части, главную идею которой можно обозначить интеграцией прошлого под стан новосозданного. И под «прошлым» стоит понимать не только былые формы архетипов аналитической школы Юнга, но и более стародавние образы. Я говорю о мифологии и её синтезе с новыми архетипическими категориями.
Актуализация мифов
Как было сказано, мифы создавались вокруг архетипов, а те в свою очередь подпитывали саму мифологему. Эта связь напоминала отношения матери с сыном, где одно начало дарует жизнь своему детищу, а то впоследствии начинает поддерживать своего родителя. Но не стоит впадать в заблуждение, будто бы мифическая обёртка первичнее спрятанного в ней архетипа; не будь внутри нас изначальной идеи или того же платоновского эйдоса, никаких мифов, историй и сказаний так и не появилось бы. Благодаря творчеству, архетип высвобождается в письме или красках, в глиняном изваянии или мраморном постаменте. Фрейд говорил, что сновидения – это «царская тропа» к Богу и немного перефразированная трактовка Юнга будет здесь наиболее пригодной, выразить которую можно словами: «Активное воображение – это тот же царский путь к бессознательной божественности или же архетипам». Под «активным воображением» аналитическая психология принимает такой метод самопознания, когда в творческом порыве личность раскрывает в себе какие-то скрытые тенденции, которые без созидательности так и не были бы обнаружены. Точно такая же картина предстаёт и с мифами; так уж исторически сложилось, что именно мифологическому окоёму выпало стать зеркалом архетипических сущностей и с этим ничего не поделаешь, остаётся только определить основные категории мифов, их типы и на результате собранных сведений, распределить их по нужным полочкам. Но что же это за «полочки» такие, куда мы будем складировать знание о мифологемах? Ими-то и станет сформированная мною классификация архетипов.
Всего она начисляет в себе 6 начал: архетип Животного, Женственности, Мужественности, Андрогинности, Космичности и Времени. Эта пол дюжины психических конструктов выступит пакгаузмом для хранения мифологического прошлого. Распределение отдельных мифологических типов по «базам» представленных архетипов поможет лучше осознать то, почему же нас беспокоят именно те мысли, почему мы поступаем именно так, а не как-то иначе. Литература, связанная с темой архетипов, зачастую указывает на исследование мифологического прошлого с целью изучения античных божеств и на их анализе, заделать себе некую «линзу», через которую мы начнём смотреть на действительность. Я же решил пойти чуточку дальше. Кроме мифов и отыгрывающих в них свои божественные роли архетипов, каждое из начал – от Животного до Временного – дополнит ту самую «линзу» парой дополнительных моментов. Эти моменты будут оглашены в следующих главах, а пока что, приступим к упорядочиванию мифических пережитков.
Мифология Животного
Начало животности обобщает собою все мифы, связанные с инициациями, посвящениями в тайные обряды и процессами становления зрелой личности. Также прибавим сюда такие категории как тотемические, культовые и териоморфные. Теперь о каждом в отдельности.
Стоит начать с конца и постепенно пододвигаться к началу, – мифам инициации, – так как категория посвящения всё же оказывается более существенной для архетипа Животного; остальные три типа мифов соотносятся с первым скорее как производные или акциденции. В самом начале я говорил, что внутри человек переживает то же самое, что некогда случилось вовне; личная история идёт по стопам мировой, поэтому, если и сопоставлять процесс созревания Животного архетипа с каким-то историческим пластом, то располагающей для этого платформой оказываются египетские мифы. Египтяне, в противовес полностью очеловеченным богам Греции, представляли божеств в свете антиномии человеческого и животного. Каждый бог был способен оборачиваться своей животной половинкой и благодаря этой оборотности, египетские верования сохраняли тот былой функционал, которым некогда славились культовые и тотемические мифы шаманизма, о которых я расскажу чуть далее.
Культовые мифы – это сборник социальных традиций. Все когда-либо существовавшие обряды, экстравагантные ритуалы и техники экзальтирования – всё это часть самой этиологии культовых мифов. Культовая мифологема позволяла отследить преображение общественной культуры, и, вместе с чем, перебрасывала внимание на попытки объяснить особенности уже существующих форм жизни. Последними были избраны животные и толкования их бытия. Эволюционные гипотезы и экзистенциальные оправдания привели к тому, что та часть фауны, которую нельзя было как-то полно изъяснить, начала сакрализовываться и наделяться атрибутом священности. Например, в индийских верованиях сохранилось представление о божественном обезьяноподобном существе – Ханумане. Поселись это божество на западе, после дарвиновских открытий 1859 г., Ханумана постигла бы расправа секуляризацией. Такой жребий выпал бы индийскому богу ещё и по той причине, что кроме него, в XIX в. уже не приходилось созерцать каких-то других божеств, так как когда-то привитые греческим богам малопознанные свойства природы давным-давно успели обработаться естественно-научными кругами. Иначе говоря, всякая сакрализация утрачивала свою хватку, стоило только научным предположениям обратиться в беспрекословные доказательства, а покуда рационализация всё не подоспевала, те или иные феномены так и оставались пребывать в форме чего-то обожествлённого и культово-значимого.
Культовый миф повторяет ту же ситуацию, назревшую некогда в Древней Греции. Малые знания о природе персонифицировались богами и представлялись чем-то чисто трансцендентным; такой же сценарий раскрутился и в случае с культовыми мифами. Только вместо божественных пантеонов, человек шествовал по пути пока ещё более примитивному, не имеющему одной лишь теоретической основы; на этом тракте требовалась некоторая практичность, чтобы уж наверняка избавиться от той слабинки, по причине которой так и не удавалось продвинуться в познании животной среды. Практицизм вышел вторым мифологическим типом – тотемическим. Тотемы животных, камлания, сопровождавшиеся одеванием на себя масок с тем или иным животным представителем – это был звучный горн в честь культуры шаманизма.
Достойнейшими посланниками инициаторских мифов были волхвы, знахари и мудрецы, отвечавшие в племени за связь с духовным миром. Это была та пора общественного устройства, когда высшей властью наделялся не столь вождь, как шаман, потому как первый не мог общаться с миром духов, а какой-нибудь сумасбродный отшельник из вигвама почитался в два, а то и в три раза больше племенного главы. Связывалось же это как раз из-за возможности вести метафизические беседы с потусторонностью. Область духовности, как и религиозная настроенность народных масс, обладали куда бо́льшим могуществом, нежели владычествование над объективной реальностью, от чего в шамане начинали усматривать провидца истины и божественного закона.
Главным же примечанием культовых мифов становится их инициаторсво юных neophytos7 в потусторонние пространства. Поскольку культы и обрядность родились в излучине шаманизма, то они и продолжили держаться намеченного течения. Поток шаманских практик поставил перед человеком вопрос: чем отличается посвящённый в таинства от мирского профана? Антиномия эзотеричности – экзотеричности отошла вспять, стоило добавить к ритуалам такие элементы, которые в повседневной жизни, никто бы в здравом уме не стал добавлять. Причина столь радикального отказа от совмещения духовной жизни с жизнью мирской связана с самоистязающими процедурами. Таковы были первые аскетические практики: шаман прохаживался босыми ступнями по раскалённым углям; купался в озёрах при тридцатиградусном морозе; наполнял своё тело токсичными веществами и принимался входить в экстатический транс. Это и многое другое было неотъемлемыми испытаниями для проверки: действительно ли тот чудаковатый тип является шаманом.
Складывая мозаику из исторических хроник, можно проследить такую связь, что стадия шаманизма дала толчок тем же аскетическим и метафизическим идеям, выраженным уже более умеренно. Аскеза воплотилась в сдержанности восточной мудрости, а отвлечения в иные реалии превратились в трактаты античных философов. Каждый аспект шаманизма нашёл свою реинкарнацию в будущем, но прежде, чем настали все эти метаморфозы, человечеству требовалось изжить уже имеющуюся перед ним перспективу. Ведь что толку заниматься столь пытливым изнурением, если оно лишено какого-то более глубокого смысла? В те времена, если кто и сказал бы, что все эти шаманские традиции – результат бессознательного влияния архетипа Животного, того сочли бы не то, что смехотворным малым, но могли и вовсе на кол посадить, ибо что за дерзость, посягать на отношения с духами столь дерзновенными домыслами! Однако, всё именно так и обстояло.
Исторически, эпоха архаических практик соответствует развитию в человечестве модели архетипического Животного. В отдельно же взятой личности, та же животность обосновывалась какой-то жизненной переменой, вступлением в какую-то общину, семейство или организацию. А главное предназначение Животного состояло в открытии психического мира. Животное – это и первый архетип, и в то же время, ключик, отпирающий ставни со всех остальных начал. И не стоит думать, что схождение с архетипами Женственности или Мужественности будет походить на миленькую беседу; первоначальное отношение с нашими внутренними образами высекается с весьма острыми углами и грубыми гранями. Поначалу, общение с каждым из архетипов будет походить на нечто вроде обуздания, непростое покорение всё противящейся нашей воле сущности, но чем дольше и напористее мы окажемся в своём желании постичь внутреннего духа, тем податливее будет становиться и сам образ. Сначала, всякий архетип оказывается скорее не другом, а демоном, всё донимающим нас и с превеликой радостью просовывающий нам палки в колёса.
Демоничность архетипов – это и был тот мотив, побуждавший человека инициироваться в шаманы, так как одна из посвящающих практик состояла в том, что всё того же несчастного neophytos натирали крапивой и затем, провозглашали разодранным демонами8. Подобное принесение своего естества в жертву очень близко к представленной мною функции Животного архетипа, так как само «расчленение» является символическим превращением kakos daemon’a9 в agathos10. И самое интересное, что после проведённого жертвоприношения, архетипические демоны поселяются в душе новообращённого и человек таким образом заклинается на общение с ними11. Другими словами, всего только раз пробудив в себе архетип – его уже не удастся повторно усыпить. Адепт не столь просвещается, как скорее проклинается. Наложенной порчей при этом служит извечная вражда, а впоследствии, неустанные разговоры со своими внутренними архэ. На этот счёт, немецкий писатель Ф. Кафка писал в своём дневнике следующее: «Человек чище, чем утром, время перед усталым засыпанием – это время настоящей свободы от призраков, все они изгнаны, лишь с продолжением ночи они возвращаются, к утру они уже все снова здесь, хотя и незримы, и вот здоровый человек снова принимается за их ежедневное изгнание»12. Изо дня в день, из ночи в ночь, с сомкнутыми или поднятыми веками – человек обязуется следовать тем заповедям развития, которые ему теперь будут диктовать его духовные наставники. А архетипическое ментарство заступит на пост правления лишь в том случае, если хорошенечко растормошить самый первый, наиболее древний и архаичный архетип – Животное начало.
Подводя итог по всей скрытой в человеке животности, в общемировом плане, это стадия расцвета шаманизма и его наследия – ритуалов посвящения и обрядов инициации; в контексте же личностной истории, Животное претворяет собою своего рода расщепление души на определённое количество частичек, которые как раз и являются ещё одними архетипическими образами, побеседовать с которыми нам пока так и не довелось. Животное начало – это разрыв со старым комфортом, целостностью и гармоническим внутренним строем, который пестовали в нас родительские узы и семейные традиции.
В таком случае уместно возомнить, на кой чёрт тогда рушить психическую цельность, если целое испокон веков ценилось всегда выше раздробленности? Такие розмыслы легко парируются тем простым фактом, что, коли уж целое – это состояние умиротворённого блаженства, почему тогда столь многие по своей собственной воле, без принуждения соглашались пробуждать в себе внутренний мир; почему Гаутама Сиддхартха объявил войну своим множественным страстям; почему каждый подросток так и рвётся вступить со своими родителями в конфликт? Во всех вариантах проигрывается один и тот же сюжет – это нарушение невесть как сложившегося в раннем детстве психического уклада, дабы уже самолично, со всей полнотой осознанности выстроить новое устройство таким, каким оно сможет удовлетворять нас куда в большей степени. Ответ на вопрос, почему же в один период жизни мы так и стремимся превратить свои действия в разрывающее наше психическое единство долото, состоит не в укрывающемся за флёром пресловутой периодизации половом созревании, а в той истинной причине, что едва ли когда-то будет своевременна кому-то известна – во всех расчленяющих поползновениях мы следуем одному единственному мандату, прописанному в нас ничем иным как архетипом Животного, а этиологические мифы идеально подкрепляют действующий внутри закон тем, что многими сказами, демонстрируется превращение из человека в животного, как результат влияния архетипических божеств13.
Мифология Женственности
Наконец проснувшись от столь затяжного сна и избавившись от того остова детской неосознанности, нам открывается пожалуй самая великая способность, о которой, как мне кажется, животные только и могли бы мечтать – это самостоятельно выстраивать собственную судьбу. И на проектировании своего бытия как раз и зиждется различие между состояниями ещё пока спящих архетипов и уже пробудившихся. Животное (здесь я имею в виду не образ, а реально существующего представителя фауны) склонно к следованию лишь первичным надобностям и тем потребностям, что играют какую-то значимость в жизнеобеспечении; остальных же желаний, вроде развития культуры или проявления интереса к загадкам мироздания, дикий зверь не испытывает и не может испытывать, так как обременён примитивными страстями. Для человека же, примитивность оказалась преодолимой; удовлетворив самые элементарные влечения к пище и безопасности, разум тут же неугомонно начинает искать, чем бы таким себя занять, чтобы столь универсальная мыслительная машина как человек не пылилась рядом со своими эволюционными предшественниками в бездействии. Этим же отличием славится и Женское внутри нас начало. Познавать женственность – это нечто близкое к познанию Terra Mater14, тех же феноменов природы, но уже не в чисто практическом смысле, а в некотором абстрактном.
В истории, женский архетип возник в тот период, когда человек окончательно завязал со скитальческим стилем жизни и полностью перешёл на оседлое существование. Оседлость принесла прогресс земледельческого ремесла и в этом деле всегда возникали какие-то трудности: то по картошке ударят заморозки, то на клубнику посягнут дрозды. Словом, природа любила поиграться с трудами земледельцев и у тех, когда фитиль терпения окончательно выгорел, возникла идея задабривать землю матушку какими-то дарованиями. С этим узаконились первые формы богов, которые легко могли не иметь ни точно образа, ни включённости в какую-то иерархию; они были скорее обособленными существами с привитой им какой-то одной функцией. Первые божества, например, следили за плодородием; многим приписывалась связность с атрибутикой Луны, так как уже в те незапамятные времена заметили, что лунарные циклы в коей-то мере, но влияют на водное пространство Земли, а поскольку вода – это питающая всякий растущий плод сила, то лунотропность15 первых богов воспевалась с превеликим почётом.
Отдавая изощрённые рулады в честь божественных хранителей природы, человек смог связать земную твердь с широтой небесных далей, от чего потребность в познании мира превратилась в познание природы, через её аллегорические представления – богов. И если божественное выходило лишь в результате негодования по чему-либо, то отсюда уже можно понять, каким образом разродились целые пантеоны божеств. Сначала все негодовали от малой плодовитости, потом то же негодование затронуло вопрос смерти. Зарделся вопрос: «А ведь интересно, как нашим родственничкам и друзьям там, за рубиконом жизни; хорошо им или плохо, тепло или холодно?» Не имея под рукой достойного ответа, похороны приобрели известные нам черты ритуальной процессии, а вместе с умершими, в последний путь стали отправлять вещи, якобы, помогавшие почившему по ту сторону реальности. Ритуализировав смерть, создались и новые боги – хранители усопших16.
Чтобы не растягивать повествование по многим примерам, отмечу лишь то, что хотел всем этим выделить. Женский архетип – это реакция на внутреннюю опустошённость. Вот дали вы себя разодрать архетипам-демонам, внутри поселился самый настоящий душевный разлад, всё идёт сплошным ходуном и эта шаткость объяснима тем, что между активизировавшимися образами появилось некоторое пустое и ничем незаполненное пространство. Раньше это пространство заполняли навешанные на нас в детстве и неосознанно впитанные шаблоны, как семейные, так и социально угодные, но сыскав кров под крылом Животного начала, весь тот бессознательно принятый «шлак» вычистился, оставив после себя зияющий лакун. Эти пустотности и старается заполнить архетип Женственности, и как ещё справиться с подобной задачей, если не сотворением новых традиций? Боги подарили нам религию. Кто-то находил в ней уют и тем самым, посвящался в новую общину, что было родственно той же инициации на стадии Животного; на почве приобщения к чему-либо, вокруг выстраивался совершенно иной мир, менялся взгляд на многие вещи, сменялись приоритеты и т. д.
Все эти закономерности внутреннего развития проще всего выразить следующе: раз захотел создать в себе новый порядок, то сперва взрасти внутри себя хаос, а уж после, занимайся своим психическим космосом столько, сколько пожелаешь. И человек пожелал, отдавшись тем самым на поводу космогонических мифов. Такие мифы, как календарные, космогонические и лунарные есть содержание Женского начала, основа которых состоит в их циклической повторяемости. И нужный нам повтор не заставил себя долго ждать, так как разворот был сделан в том же самом месте, где некогда свой выбор сделал архетип Женственности. Только если Женское пошло по пути более приближенного к земному, состраивала метафизику с опорой на физическую реальность, то вот следующий архетип наотрез отказывается от сей близости и погружается в сферу абсолютно отвлечённых понятий и идей. Этот выбор уже будет решением третьего архетипа – всего того, что в нас есть Мужского.
Мифология Мужественности
Если кто скажет, что физиологический голод куда сильнее духовного, на столь смелого оратора можно будет бросить не один вопросительный взгляд, мол: «А ты уверен в своей дерзостности?» В самом деле, хорошо ли подумал высказывающийся? Утоляя естественный голод, тело сыскивает комфорт и на какое-то время, даёт нам право заниматься чем-то отличным от организации физического достатка. Другим и отличным оказывается сфера духа, полнящаяся после Женского начала божественными формами – результатом слабого познания мира и его явлений. Так ли схожи эти две надобности: духовная и физическая? Принял краюху хлеба, запил её молоком и всё, преисполненное тело больше не ведает страсти к чему-либо. А вот относительно духовной парадигмы, вместо желудка, внутри вертится воронка бездонной червоточины и что туда не кинь, ей всё оказывается мало. Ни зооморфная мифологема, ни матриархальные мифы о плодородии и космогонии не могли усмирить раскручивающуюся внутри бездну. С этой постоянной жаждой, правящий матриархат сместился патриархатом, а мифы, заточенные на поклонение плодородности превратились в сказания о величии и героических подвигах.
Индоевропейская культура лучше остальных отразила подобную реформацию, так как кроме переделки внешнего устройства, был реконструирован и мифологический пантеон. Развитие двух сфер – материальной и духовной – шло параллельно друг другу и новая триадическая иерархия – боги-вседержатели, покровители воинства и земледелия17 – почти в точности соответствует обосновываемой здесь архетипной классификации, с тем лишь изменением, что вместо воинского начала уместно употребить териоморфизм.
Патриархальная структура отразима выделением средь богов новых вождей: в скандинавской мифологии культ Ванов (богов плодородия, таких как Ньёрд, Фрейр и Фрейя) свергла высшая иерархия в лицах Одина, Тора и Тюра (культ Асов); на Олимпе вознёсся Зевс, а в поверьях славян – литовский Перкунас или латышский Перконс18. Вместе с этим, ограничиваются ипостаси Животного (уход от териморфизма к построению полностью человеческих образов богов) и Женственности (в конструкте греческого пантеона, Деметра – покровительница плодородия – отодвигается поодаль, помещая в фокус внимания главенствование своего брата – Зевса). От пришедшей патриархальности, формируется новая категория мифов – героические. В шумерских мифах прославлялись истории о Гильгамеше; в Греции – похождения Одиссея; подвиги Геракла; путешествия Тесея. И, надеюсь, не раздосадуются здесь сторонники феминизма, но в чин героя всегда возводилась не женщина, а облик бравого и мужественного воина, конфликтующего с одними богами (ссора Одиссея с Посейдоном) и перенимающего поддержку от других (помощь Афины аргонавтам и дарение вдохновения Кадму, сразившего фиванского дракона). Вражда с божественными наблюдателями – это аналог описанному ранее факту, когда первое вступление в контакт с архетипами напоминает демоническое побоище.
В эпоху патриархальных мифов формируется бо́льшая настроенность на самостоятельность. Боги помогают нам, боги враждуют с нами, но как в первом, так и во втором варианте, до героя доходит, что, как бы не зависело его существование от провидения, ему вовсе не обязательно заручаться подмогой чего-то абсолютного. Достаточно всего лишь его собственных – человеческих – сил. Отстаивая позицию повышенной самостоятельности, героические мифы раскрыли другой аспект мужского начала – его гелиотропность19. Это не значит, что во главу божественных иерархий стали протискиваться боги солнца; Гелиос не пошёл против Зевса, а египетский Ра не решил вдруг всем доказывать, что он самый верховный. Солнцеликим богам не нужно было зачитывать ксении, дабы те снизошли к людям; им не требовалось искать определённое место в уже сложившихся божественных организациях; культ небесного или солнечного Абсолюта – это феномен так называемого Deus Otiosus20. Это какое-то верховное божество, которое стоит выше всех прочих сородичей и не испытывает нужды в фиксировании себя на определённом месте; оно как-бы фланирует между всеми существующими крайностями, не являясь ни мужским, ни женским. Хоть атрибутивность Солнца и позволяет судить о такого рода богах как производных от архетипа Мужественности (как противоположность лунотропности Женского начала), здесь всё же больше отслеживается нечто небесное, нежели конкретно солнечное.
Вообще, если брать явление замены культов Неба на культы Солнца в их исторической хронологии, то первое существовало заведомо раньше второго. У древних австралийцев Otiosus’ами были Байаме и Дарамулун, при чём, последнего дозволялось чтить лишь мужчинам; женщинам же и детям допускалось лишь знать их небесного бога как «Отца» всего и вся, но молиться ему они не имели права21. Поскольку эти боги «отошли от дел», связаться с ними было невозможно и вот тут-то прокралась та предрасположенность к язычеству. Раз с Богом нельзя поговорить напрямую, может удастся связаться с Ним через посредника? Так в религии появилось понятие Господа – делегата, между небесным и земным. В австралийском племени кулин, верховным божеством был Бунджиль и чтобы молитвы всё же достигали слуха его величества, был придуман Гаргомич – бог-господь, который хоть и был в более низшем сане, но зато он переправлял прошения человека на небеса22. Здесь были отобраны столь далёкие от нас формы культуры лишь за тем, дабы на их – уж простите за такое отношение к древним культам Австралии – примитивной религиозности показать, что сперва, всякий бог был скорее именно Богом – больше чем-то абстрактным, осветлённым и содержащим в себе потенцию к космогонии. Обобщая характеры космогоничности и небесности, высшие Otiosus’ы воплощались этакой сизигией мужского и женского, скрытой под сенью монотеистической установки. Как можно проследить по предшествующим высказываниям, архетип Животного привнёс языческую оформленность с множеством разномастных божков. Более известными прародителями пантеонов греческих, китайских и индийских религий были гомеровский Океан, Дао и Брахма; вся троица не имеет какой-то специфической выраженности, но именно из их труднопонимаемости и пришли все остальные божества. Особенно интересно то, что только верховным богам давалась возможность стать авторами каких-то течений, вроде китайского даосизма или индийского брахманизма и это полномочие исходило из их небесности. Много позже, с уже разросшимся язычеством, близкими к своим высшим пращурам ставились те боги, которые как-то повязывались с небесной тематикой: достаточно было управлять каким-то недосягаемым для человека элементом, который можно наблюдать лишь в пределах неба, вроде молнии (отсюда пошло восхваление богов-громовержцев) или солнечного света. Солнцетропные боги – это чуть-ли не прямые потомки тех «праздных» богов, наиболее аккуратно сохранившие в себе частицу своих прародителей, а именно, составление подле себя какого-то таинства. Такая ситуация просматриваема в случае с индоиранским Митрой, являющимся третьей реинкарнацией другого высшего бога Дьяуса и его ещё одной промежуточной формы – Варуны23. Митра вроде бы не занимал какого-то особого положения и, тем не менее, поклоняющиеся ему обособились в таком течении как митраизм; схожим модусом существования обладал и греческий Аполлон, также оставивший за собой некоторую общину, славящих в себе аполлоническое начало; этими прославителями были философы и мудрецы античности, всегда держащиеся критериев рассудка и разума, в противовес торжествующему в прошлом чувственному дионисизму.
Мужская направленность к солнечности и увеличение числа самостоятельно организованных сект – это перенимание наследия Deus Otiosus’ов, считавшихся в большинстве своём именно царями неба. С этим же и перешла мысль о невозможности прямого взаимодействия не то, что с Богом, но и с богами. Солнечные божества наделили своих собратьев теми же качествами, что и были присущи их общим предшественникам. При таком положении, требовался тот, кто согласится выступить проводником между миром материальным и миром духовным; сперва на должность проводящих органов ставились различные общности (даосизм, брахманизм, митраизм) и та уникальная черта архетипа Мужественности, скрытая в его проявлении среди героических мифов. Поэтому я и сказал ранее, что Мужское начало скорее повторяет некоторый момент в прошлом, изрядно обесценив тот, так как новым эмиссаром в высшие слои мироздания теперь назначался не бог-господь и даже не какое-то сообщество, а один единственный человек – герой, который был велик уже тем, что обладал двойственной природой: божественной и земной. Такое «соединительное звено» прозвали мессией, что дало начало новым мифологическим построениям.
Мифология Андрогинности
Пора бы представить один из наиболее популярных мифов, принимаемый полной противоположностью всякому космогоническому устроению. Когда кличут о приближающемся конце света или о событии, что перевернёт мир верх тормашками, значит в силу заступают эсхатологические мифы. Эсхатология – это общность идей, нацеленных на описание какого-то конца, будь то кончина истории, гибель мира или окончание развития в нас какой-то сущности. Эсхатологичность отчерчивает три предыдущие стадии развития (Животное, Женское, Мужское) и вместе с сопутствующими им мифами (культовые, тотемические и териоморфные; космогонические и лунотропные; героические и гелиотропные) проливает сок жизни над новой категорией, одновременно превознося представителя, универсально совместившего в себе все прошлые мифологемы. Им оказывается некоторый помазанник-герой, гендерную принадлежность которого нельзя отнести ни к женскому, ни к мужскому; такая личность не испытывает влечений ни к одному из полов и в своей неопределённости, она завуалированно таит соитие материи и духа; из последнего выдаётся то, что мессия – это реформатор, проповедник новой эпохи и разрушитель старой; он зачинает новую космогонию и позволяет человечеству приобщиться к своему учению, как некоторому слову, вымолвленному у него внутри Богом. Здесь сходится всё: и инициация разума для познания новой доктрины, и создание на её основе нового духовного бытия, и герой-учредитель.
Эсхатологический манер больше характерен для монотеистических религий, вроде христианства (новой историко-религиозной вехой становятся писания Нового Завета, а их посланцем – Иисус Христос) и ислама (схожими образами мессий являются Иса и Махди), но предпосылки к развитию андрогинного архетипа обрисованы и в политеизме. Так у индонезийцев, уже с имеющимся ассортиментом богов в своём собственном пантеоне, был и тот, кто стоял выше всех остальных; бог Макар олицетворял собою того же Otiosus’а, т. е. он не был никак заинтересован в деятельности своих родственников и людей, но самим своим существованием, отражал отверженность от Мужского архетипа. Отход от Мужественности – это провозглашение амбивалентности природы Макара – его нельзя было счесть ни лунной, ни солнечной ипостасью, а из заложенных в него функций он исполнил всего одну – это взял, да сотворил некогда мир – с тем учётом, что уже имелся ряд более перспективных для поклонения богов. Однако не смотря на их наличие, культ небесного Otiosus’a каким-то образом всё продолжал существовать24. Возможно, тогда никто и не мог понять, по кой такой причине, изначальные боги ещё старались казаться актуальными; никто и не осознал бы их значимости, если бы вскоре не принёсся архетип Андрогинности с мифами об эсхатологии. Влияние Otiosus’a и создание разного рода обществ – это прецедент для полагания только на что-то человеческое (мессию) и на посвящение себя в его учение (аналог тем братьям, возделанных на почёте гелиотропных богов), показывая, что вовсе не обязательно слушать одних только богов, а можно внимать и вокабулам их посланника.
Так осуществилась интеграция трёх первых архетипов и возрос новый вопрос: «Для чего же проповедовать эсхатологию, если нет уверенности, что следующий виток истории окажется более привлекательным?» Столь полезное замечание упразднялось тем, что человек уже на стадии развёртки из себя Андрогинности ощущал кристаллизацию следующего архетипа и от нарастающего внутри напряжения, крепла вера, что конец света – это не более чем конец мирского и образование чего-то божественного, а точнее – райского.
Мифология Космичности
Архетип Косма – это тяга человека к освящению каких-то мест, дабы из самого простого, ничем не примечательного пространства возделать что-то святое. Храмы, церкви, места силы и многое-многое другое – это попытки воспроизвести на нашей греховной землице что-то святое и безгрешное, словно бы произвести нечто похожее на утерянный когда-то рай. Восстановление райской целостности есть предназначение познаваемого внутри нас Косма. Космическое архэ вмещает в себя все мифы категории «Золотого века».
Именно с предвосхищением мифов о временах, когда «трава была зеленей», многие как раз-таки и соглашались повиноваться тем мандатам, прописанным в учениях мессий. Устранение старой космической гармонии принималось за уничтожение всего грешного в человеке и в своём новом, очищенном от всех проступков, облике, оставалось лишь ожидать наступления золотых времён, условием возникновения которых выколачивалась некая райская обитель. Мифы о восстановлении когда-то потерянной целостности имеются практически во всех мировых религиях: в иудаизме место о грехопадении отведено павшим Адаму и Еве, Великому Потопу и спасшемуся в ковчеге Ною, подарившего новый, пока ещё незапятнанный греховностью, человеческий род; шумерский Новый Год заменял бытие в грехе на очищенный от согрешений аналог25.
Эсхатологичность вкупе с идеей восстановления чего-то райского презентует психическую установку современного человека в отправлении себя в те далёкие времена, когда всё пребывало в неразрывной целостности, а история была движима не конкретно отобранными событиями и личностями, а универсалиями, лежащими в основе любого видимого феномена – культурно сложившимися архетипами26. Так и хочется сознанию возвратиться во времена, когда миром правил не рационализм, а мифы; всякая ночь представала не тёмным временем суток, а обновляющей мир экпирозой27; принятие пищи осуществлялось не с целью преисполниться энергией, а предаться ритуалу, как на великом платоновском пиру; празднование каких-то событий признавалось повтором некогда случившихся событий в прошлом с целью их актуализации в настоящем. Этим и многим другим мы тешим себя, но в большинстве своём, лишь бессознательно. Далеко не все доходят до покоящейся в нас мифологической настроенности и оставаясь в удалённости от подобного осмысления, уже успевшим завидеть все эти закономерности остаётся только одно – это обосновать всё узнанное ими архетипически, т. е. посредством тех универсальных сущностей, которые конгруэнтно единят в себе общую историчность с индивидуальной. На примере первого рода истории познаётся история каждой личности и сейчас, я хотел бы поведать вам, мои дорогие, то, как я пришёл к формированию предоставляемых вам на обозрение выводимых архетипов. Вот какова история юнца, попустившегося на несвоевременное развитие и расплатившегося за это здоровьем, как физическим, так и духовным.
Кризис – это смерть, но не бойтесь, не ваша…
Самый простой пример: если нам нужно что-то поместить куда-то, это куда-то должно быть свободным и ничем не занятым, тогда что-то спокойно встанет на своё почтенное место, но придёт время и с что-то придётся распрощаться, тем самым давая зелёный свет новому нечто. Неопорожнённый сосуд нельзя наполнить дважды, как и нельзя было допускать, чтобы одни категории мифов ютились рядом с соседними. Отрекаясь от поверхностных объяснений о том, что, несмешение разных мифологем обусловливалось культурной модой и исторической событийностью, высвечиваемая в данной работе идея синтеза мифологического умонастроя с нашим архетипическим содержанием даёт предпосылку мыслить об определённой закономерности развиваемого внутри архетипа с его интерпретацией в мифах. С этой позиции, если одна мифологическая категория рано или поздно сменялась другой, точно такой же процесс происходил и с архетипами; отмирало одно начало, рождалось какое-то новое. В мифологическом контексте такое явление получило название эвгемеризма, подразумевающего, что источник любого мифа – это сюжет события или жизнь какой-то реально существующей когда-то личности. Миф брал, да и абсолютизировал подобные истории, чтобы память о прошедшем не просто сохранилась, но стала некоторым объектом для веры и вдохновения.
Эвгемеризм – это мифологический ars moriendi28, когда одна мифологема теряла свою актуальность и заменялась какой-то другой и такое умерщвление объяснимо тем, что происходил внутренний акт периодизации архетипов. Тот же ars moriendi в соотношении с архетипами – это переживание человеком возрастного кризиса.
Моя история была такова, что мифологически я повторил некогда описанный каббалистический миф о грехопадении. Как написано в Сефер ха-Зоар29, после согрешения, душа Адама расщепилась на 600 тысяч частиц и каждая частичка, как и уничтоженная цельность, преподавалась в качестве отдельной души. На момент этого самодробления, мне было неведомо, что я грешу, нахожусь в тесной взаимосвязи с архетипами или чем-то подобным; мои действия были скорее интуитивными и полагаться мне приходилось на те знания, которые худо-бедно, но были как-то уложены в моей черепушке. Тогда я страстно увлекался практикой осознанных сновидений и вхождениями в некоторого рода трансы с полным отсутствием телодвижений. И вот, в одну из ночей, когда сон был не к чёрту, а интерес к трансцендентным сферам столь высок, мне удалось расколоть своё «Я» на множество, так сказать, «я». Эти крошечные «я» были чертами моего характера, которые мне было очень не просто принять. Можно даже сказать, я не принимал и не собирался их принимать, но в тот же момент понимал, что не выйдет избавиться от чего-то неприятного в себе, покуда последнему не будет объявлена битва в открытом поле. Так я и порешил сойтись в яростной схватке со своими отщеплениями. Число противников было невелико – всего двенадцать и каждый олицетворял какое-то качество: образы я обозначал то одиночеством, то гневом, страстью или же разнузданностью.
После «пробудившихся» образов, – эта дюжина была моим первым опытом и догадками, что внутри нас живёт какое-то определённое число архетипических сущностей, – мои практики «погружения» наотрез перестали получаться. Сколько-бы я не пробовал самоуглубиться, на меня либо нахлыновал сон, либо тело так и изнывало от желания дёрнуться, да нарушить медитативное сосредоточение. Вскоре я окончательно отпрянул от этих затей, перестал понапрасну насиловать своё мышление и позволил всему течь в своём темпе.
Посеянный внутри душевный разрыв соответствовал кризису, что в большинстве периодизаций приравниваем к границе между подростковым и юношеским возрастом. Тогда мне было около 17 – 18 лет и в пережитом кризисе, умерло моё старое «Я» и восстало новое. Реинкарнация ядра личности – это аналогичное перемене одних категорий мифов на другие; смене одного архетипического духа на своего сородича. Поскольку это был первый осознанно пережитый мною кризис, вместо смены архетипов у меня наступила скорее их активизация и вступление в свои законные права Животного начала. Во время кризисной пограничности во мне пала вся та неосознанно впитанная спесь, привитая уму в раннем детстве родственниками, друзьями и учителями. Выражаясь lingua sacra30 феноменологии, я сбросил с себя путы естественной установки31 и открылся для самостоятельного полагания своего бытия в мире. Погибель старых веяний освободила меня от шаблонного мышления и с причала эмансипированной мысли я отплыл на пакетботе в страну любви.