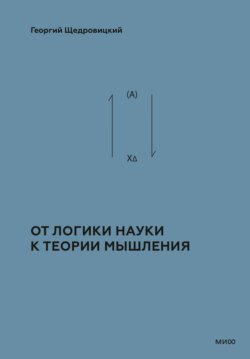Читать книгу Теоретико-мыслительный подход. Книга 1: От логики науки к теории мышления - Георгий Щедровицкий - Страница 5
I. Строение и развитие научных понятий
О некоторых моментах в развитии понятий
Глава первая. О возникновении абстракций и понятий
Оглавление§ 1. Об отношении между процессами труда и мышления
Мышление является особой специфической формой отражения действительности. Оно присуще только человеку и возникает, по-видимому, как продукт и результат особенного взаимодействия человека с природой. Поэтому, приступая к изучению мышления, мы должны начинать, во-первых, с самого общего и простейшего отношения, какое только существует между первобытным человеком и природой, с того отношения, из которого впоследствии развиваются все остальные; во-вторых, мы должны искать в нем особенное, то, что, собственно, и делает это отношение человеческим.
Таким образом, наиболее общим и в то же время особенным отношением является труд, «процесс, в котором человек своей собственной деятельностью обуславливает, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой».
В настоящее время человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет в то же время и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий. Теперь в конце процесса труда получается результат, который уже перед началом этого процесса имелся идеально, то есть в представлении работника. Современный труд теснейшим образом связан с мышлением, и может показаться, что мышление не только предшествует тем или иным отдельным практическим действиям, но и исторически предшествует процессу труда в целом.
Величайшей заслугой К. Маркса и Ф. Энгельса было то, что при анализе этих процессов они применили диалектический метод и материалистическую теорию, которые позволили им вскрыть действительные отношения между процессами труда и мышлением. Как показали Маркс и Энгельс, люди начинают отнюдь не с теоретического отношения к предметам внешнего мира. Как и всякое животное, они начинают с того, что едят, пьют и т. п., то есть не «стоят» в каком-либо умозрительном отношении, а активно действуют, овладевают при помощи действия известными предметами внешнего мира и таким образом удовлетворяют свои потребности. Они, стало быть, начинают с производства, – говорит Маркс. – Веществу природы они сами противостоят как сила природы. «Для того, чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он [человек – Ред.] приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу», свое тело и, в особенности, свою голову [Маркс, 1960, с. 188]. В процессе труда человек неслыханно развивает присущие ему, как и всем животным, чувственные формы отражения действительности; но этого мало, он прибавляет к ним еще особую специфическую форму отражения – мышление.
Только труд рождает мышление, которое, в свою очередь, затем изменяет характер и форму самого труда, превращая его из инстинктивной животносообразной деятельности в сознательный процесс приготовления и применения орудий. Между процессами труда и мышления всегда существует диалектическое отношение причины и следствия. Мышление есть всегда результат, следствие процессов труда, и в то же время развитие мышления является необходимым условием дальнейшего развития труда. Труд развивает мышление, мышление, в свою очередь, развивает и совершенствует труд.
Однако нельзя забывать, что, если на высокой ступени развития мышление все более опережает непосредственные практические действия, «определяет способ и характер» деятельности человека, подчиняя его волю, то первоначально, на заре общественного развития то, что мы сейчас называем мышлением, выступало прежде всего в роли скромной служанки инстинктивных, животнообразных форм труда, закреплявшей и фиксировавшей его нередко случайные результаты и достижения. Поэтому, исследуя развитие мышления, мы должны выводить его из непосредственных процессов труда.
§ 2. О характерных особенностях труда
Чем отличается взаимодействие человека с природой от взаимодействия с той же природой самых развитых животных – обезьян?
Всякое животное, в том числе и обезьяна, действует на предметы, как правило, непосредственно. Если и случается ему иногда действовать опосредствованно, то есть использовать в своих действиях палки или камни, с их помощью действовать на другие предметы, то это бывает так редко, что не может оставить следа в самом животном.
Наоборот, взаимодействие человека и природы носит, как правило, опосредствованный характер. Специфическая, характерная особенность процессов труда состоит именно в употреблении и создании орудия, то есть предметов, с помощью которых, через которые человек действует на другие предметы. Собственно труд появляется уже тогда, когда воздействие человекообразной обезьяны на природу приобретает опосредствованный характер[28]. Но как только процесс труда достигает хотя бы некоторого развития, он нуждается уже в подвергшихся предварительной обработке средствах труда, то есть в орудиях[29]. Чем более опосредствованный характер приобретает деятельность человека, тем больше он развивается, и, наоборот, чем больше развития достигает человек, тем более опосредствованный характер приобретают его действия на различные предметы природы.
Вторая специфическая особенность труда заключается в его коллективном характере. Наши обезьяноподобные предки, как говорит Ф. Энгельс, с самого начала были общественными животными. «Развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности» (см. [Энгельс, 1961а, с. 488–489]). Более тесное сплочение членов общества, в свою очередь, создавало предпосылки для дальнейшего развития труда.
Итак, исторически труд возникает из инстинктивного, непосредственного отношения животных к природе. От этого отношения он отличается своим опосредствованным и коллективным характером. Процесс непосредственного взаимодействия животных и природы вызывает к жизни чувственные формы отражения действительности: ощущения, восприятия, представления, или – как их называет И. П. Павлов – «сигналы первого порядка». Процесс труда вызывает к жизни речь – сигнальную систему второго порядка – и мышление[30].
§ 3. О характере и особенностях чувственного отражения
Рассматривая взаимодействие животного с природой, мы должны рассматривать само животное как продукт природы, как природное тело. В ходе взаимодействия двух или нескольких тел в каждом из них обязательно возникают определенные внутренние изменения. У животных одним из видов внутреннего изменения, наступающего в результате определенных взаимодействий, является чувствительность. Она выполняет функции отражения, или, как говорит Павлов, сигнальные функции, и мы должны ее рассмотреть.
В процессе взаимодействия животного с каким-либо природным телом у нас всегда имеется по крайней мере три члена: тело А (животное), тело В (любое) и их отношение. Действуя определенным способом на животное, тело производит в его сигнальном аппарате определенные внутренние изменения. Это внутреннее изменение должно быть единством субъективного и объективного. Субъективного – потому что это процесс в теле А, в самом животном. Объективного – потому что этот процесс есть результат их взаимодействия, их отношения.
В ощущениях и восприятиях люди познают (и животные) качества действующих на них предметов, или, говоря словами Маркса, их «объективную природу». Качества тела В познаются по тому, какое изменение оно производит в теле А, другими словами, качества тела В познаются в тех ощущениях и восприятиях, которые оно производит в животном А; наоборот, ощущения и восприятия животного А отражают качества тела В, проявляющиеся в непосредственном отношении В и А.
В этом проявляется первая характерная черта сигналов первого порядка: ощущений, восприятий, представлений. В них проявляются качества предметов или, как говорит Маркс, природа объектов.
Вторая характерная черта сигналов первого порядка состоит в том, что они могут отражать предметы и явления лишь по отдельности, в их конкретной форме.
До сих пор мы рассматривали самое простое из отношений, существующих между природой и животным: непосредственное взаимодействие единичного объекта с субъектом. Теперь мы должны рассмотреть взаимодействие тел друг с другом и способы его отражения животными.
Взаимодействие или отношение двух тел В [огонь] и С [дерево] проявляется в тех изменениях, которые [огонь] производит в дереве, превращая его в пепел, а свойство дерева – гореть проявляется в тех изменениях, которые вызывает в нем огонь. В этих отношениях или свойствах проявляются качества предметов, и, наоборот, качества любого предмета не могут проявиться иначе, как в отношении к другому предмету. Свойства дерева – быть плавучим проявляется только при непосредственном взаимодействии с водой и никак иначе проявиться не может.
Возможности отражения взаимодействия тел у животных очень ограничены. Они отражают временные и пространственные отношения: от ощущений и восприятий переходят к предметам, вызвавшим эти ощущения и восприятия, но они не могут перейти от изменения в каком-либо теле к отношениям, вызвавшим эти изменения, и дальше к качествам тел. Отразить отношения сами по себе и качества предметов, которые в этих отношениях проявляются, животные, с их способами или формами отражения, не могут.
Но так как сами животные приводят во взаимодействие друг с другом предметы лишь случайно и очень редко, так как отношения между предметами играют в жизни животных вообще второстепенную роль по сравнению с непосредственными отношениями предметов к ним самим, то животные вполне удовлетворяются существующими формами отражения. Те отдельные взаимодействия между предметами по их результатам, то есть не как взаимодействия предметов и их отношения, а как независимые, хотя и одновременные изменения каждого из членов отношения порознь. Само отношение еще не приобретает для животных самодовлеющего значения. В восприятиях и представлениях они отражают предметы, которые взаимодействуют, и лишь случайно, побочно и косвенно – само взаимодействие. В восприятиях и представлениях нельзя выделить сам процесс взаимодействия, ибо он проявляется в самих телах, в их изменениях. Большинство отношений проявляется, выступает только своими результатами, то есть только в изменениях самих тел. Никак иначе они проявляться не могут. Чтобы оторвать отношения от самих относящихся, нужна какая-то иная форма отражения, но потребность в ней у животных не возникает. Их взаимодействие с природой удовлетворяется чувственными формами отражения.
§ 4. Процессы труда создают потребность в особой форме сигнализации
Дело коренным образом меняется с возникновением и развитием труда, то есть коллективного и опосредствованного взаимодействия человека с природой. Для человека на передний план должны выступать не только и не столько сами предметы, сколько их отношения. Его интересуют не столько непосредственные отношения, сколько отношения этих предметов между собой, то есть отношения для него опосредствованные.
Поскольку на передний план выходят отношения между предметами, они должны быть как-то отражены. Чувственные формы отражения не могли выполнять эти задачи, так как предмет, дающий одни и те же твердо определенные «сигналы первого порядка» человеку, по-разному ведет себя в отношениях с другими предметами. Должно было развиваться какое-то другое средство сигнализации, с помощью которого можно было бы «оторвать» отношение от относящихся предметов, выделить его и благодаря этому отразить по отдельности все многочисленные отношения или свойства, присущие каждому предмету. Этим средством стала речь.
§ 5. О возникновении речи
Речь возникла как средство общения между людьми независимо от тех затруднений, которые испытывал процесс познания, процесс отражения.
«Наши обезьяноподобные предки, – как говорит Энгельс (мы уже один раз цитировали это место), – с самого начала «были общественными животными» «…Развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности…». В какой-то момент «…формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то сказать друг другу» [Энгельс, 1961б, с. 488–489].
Мы оставляем в стороне вопрос, из какого естественного природного материала возникла речь после того, как у формировавшихся людей возникла потребность говорить[31]. Для нас это неважно. Из чего бы она ни возникла, причиной ее развития была потребность в общении. ‹…›
Таким образом, речь возникла в первую очередь как средство общения между людьми. Однако, возникнув как средство общения, или, другими словами, как средство коллективной сигнализации в процессах труда, речь благодаря своим качествам стала средством для формирования нового вида отражения действительности – мышления. ‹…›
Эту роль, как мы уже сказали, речь могла выполнить благодаря своим особым качествам.
§ 6. О характере и способностях речи как сигнальной системы второго порядка
С точки зрения физиологии высшей нервной деятельности звуки речи являются обычными природными раздражителями и ничем не отличаются от других звуковых раздражителей. Точно так же в обычный механизм временных связей звуки речи не вносят ничего нового. К прежнему комплексу чувственных сигналов, вызываемых самим предметом (или предметами), прибавляется слуховое ощущение, вызванное речью (словами) человека. По обычным законам условно-рефлекторной деятельности новое, слуховое ощущение связывается с ощущениями, вызванными самими предметами, в единое восприятие, и теперь достаточно одного из этих ощущений, неважно какого, первосигнального или второсигнального, чтобы вызвать в сознании все восприятие, то есть весь комплекс связанных вместе ощущений. Таким образом, с одной стороны, звуки речи ничем не отличаются от других первосигнальных раздражителей[32]. Однако, ничем не отличаясь от других раздражителей по характеру процессов, вызываемых в нервной системе, речь существенно отличается от них как сигнальная система. Все сигналы первого порядка непосредственно или опосредствованно обусловлены материальным строением самих предметов и служат отражением их качеств и свойств. Слово же само по себе, как звуковая группа не имеет ничего общего с материальным строением предметов, сигналом которых оно служит, или, говоря другими словами, является сигналом нейтральным по отношении к предметам, знакам, символам. «Название какой-либо вещи, – говорит Маркс, – не имеет ничего общего с ее природой» [Маркс, 1960, с. 110].
В этом и состоит основная специфическая особенность сигналов второго порядка. Сами по себе, как физические объективные раздражители, они не имеют ничего общего с природой предметов и явлений, о которых сигнализируют.
Благодаря этому свойству – нейтральности – речь становится средством качественно нового отражения действительности: отвлеченного и обобщенного. Она дает возможность выделять отношения между предметами, отрывать их от самих предметов, сохраняя их реальное существование в слове. Тем самым ликвидируется то затруднение, в которое попало отражение в связи с развитием труда. Кроме того, речь дает возможность в одном сигнале отражать сразу массу предметов и тем самым значительно облегчает процессы отражения[33].
§ 7. Об отношении между чувственным отражением и мышлением на первых этапах развития речи
Первоначально, уже хотя бы потому, что сигналов было очень немного, речь должна была быть ситуативной системой сигнализации. Это значит, что сначала сигналами обозначали не отдельные предметы и группы предметов, а различные производственные ситуации. Они были сигналами определенной деятельности и относились к массе различных предметов и явлений, определенным образом связанных с деятельностью коллектива. Иначе говоря, сигналы обозначали не предметы, а определенную систему отношений между этими предметами[34]. Поэтому если говорить о связи сигналов-слов с представлениями на этом этапе, то надо сказать, что с каждым словом была связана масса совершенно не сходных друг с другом представлений. То положение, которое мы наблюдаем в настоящее время, когда многим сигналам второго порядка соответствуют совершенно однородные группы представлений и, наоборот, когда все сходные группы представлений получили свои отдельные названия, – это положение является результатом длительного развития труда, а вслед за ним и речи. Прошло много времени, прежде чем система речи и связанный с ней способ отражения действительности приобрели такую же сложность и разветвленность, как и система чувственного отражения[35].
§ 8. О процессах анализа и абстрагирования
Каждая вещь есть совокупность многих, можно было бы сказать, бесчисленных свойств, и поэтому может быть полезна различными своими сторонами. «Открыть эти различные стороны, а следовательно, и многообразные способы употребления вещей есть дело исторического развития» [Маркс, 1960, с. 44].
Определяющую роль в этом процессе, как мы знаем, играет труд. Приводя во взаимодействие друг с другом различные предметы, человек тем самым открывает их свойства. Таким образом, уже в процессе труда он анализирует предметы практически, и надо сказать, что первоначально реальный процесс труда является единственным способом и методом анализа действительности.
В условиях неразвитого труда и неразвитых потребностей каждая вещь долгое время используется каким-либо одним способом, и, следовательно, из всего бесконечного многообразия ее свойств реализуется, проявляется, выступает на передний план какое-либо одно. Это свойство, а вернее, тот способ, каким данная вещь употребляется, ее назначение, получает название. Этот процесс идет не так, что каждая отдельная вещь получает свое особое название. Нет. Мы уже говорили, что сигналы сначала носят ситуативный характер, то есть относятся ко многим различным предметам, связанным друг с другом какой-либо производственной операцией. Но наше рассмотрение было бы загромождено массой излишних деталей и в то же время ничего бы не выиграло в смысле конкретности, если бы мы взяли процесс с этого момента. Мы можем взять процесс с того момента, когда число сигналов уже достаточно велико и каждый из них обозначает уже достаточно узкие группы отношений, и только выиграем от этого.
Итак, какое-то открытое в процессе труда свойство или назначение предмета А получает свое название. Для простоты мы предположим, что этот предмет впервые попал в коллективное производство и поэтому еще не имеет названия. Впоследствии мы увидим, что это предположение никак не повлияет на всеобщность нашего исследования. Вместе с предметом А получают то же название предметы В, С, D, которые используются в процессе труда аналогичным образом.
Как мы уже знаем, это название появляется для общения между членами коллектива, но одновременно оно фиксирует, закрепляет результаты практического анализа, результаты практического познания этих вещей. Словесное наименование реально выражает во всеобщей для коллектива форме то, что практическая деятельность превращает в опыт, именно, что эти предметы одинаково служат человеку, что они удовлетворяют одну потребность, или, что то же самое, что все эти предметы обладают одним общим свойством. Их внешние признаки (то есть признаки, отражаемые органами чувств) могут быть весьма различными, но это не мешает им называться одним именем. Мало того, эти предметы имеют общее свойство, то есть они одинаковым способом используются в общественной практике, или, что то же, одинаковым образом относятся к какому-либо предмету, но в этом общем им свойстве могут проявляться весьма разнообразные качества[36].
И это также не мешает им называться одним именем. И, наоборот, один и тот же предмет может получать различные названия в зависимости от того, может он или не может быть использован в общественном производстве[37].
Итак, употребляя в процессе труда ряд предметов одинаковым образом, человек тем самым открывал в них общие свойства. Для общения с другими членами коллектива в процессе труда он называл это свойство и этот способ употребления определенным именем. У него была одна задача – назвать вновь открытый в процессе труда способ употребления какой-нибудь вещи и тем сделать его всеобщим, то есть известным всему коллективу. Называя в практическом трудовом анализе свойства именами, человек тем самым давал им самостоятельное существование, как бы отрывал их от предметов, абстрагировал.
Процесс труда был анализом, процесс называния открытого в труде свойства был процессом абстрагирования. Имя, название было абстракцией.
§ 9. О процессе обобщения и об основном противоречии абстракции
Так как в условиях неразвитого труда каждая вещь употреблялась преимущественно и долгое время каким-нибудь одним способом, то название одного открытого свойства, одного способа его употребления становилось также и названием самой вещи, во всей ее целостности. В этом естественном и безобидном на первый взгляд факте крылось противоречие.
Так как имена давались всегда не одному какому-либо предмету, а группе предметов, выполнявших одинаковую функцию в процессе производства, другими словами, имевших одинаковое свойство, то процесс называния был не только процессом абстрагирования, но и процессом обобщения. В имени все предметы этой группы получали новое существование как класс предметов, как единство, как общность[38].
Они были объединены в один класс потому, что имели общее свойство, то есть использовались в это время одинаковым образом. Но они были объединены как целостные предметы со всем множеством своих других свойств, чаще всего различных, и поэтому абстракция из названия одного общего им всем свойства превращалась в свою противоположность – в название группы предметов, у которых только одно свойство общее.
В этой действительности проявляется основное противоречие процесса познания: противоречие между ограниченностью, конечностью нашего знания и бесконечностью истины, бесконечностью самого процесса познания.
Пусть наше имя объединяет предметы А, В, С и D, потому что у них есть одно общее свойство. Собственно говоря, наше имя относится только к этому свойству и обозначением самих предметов стало потому, что во всех этих предметах, по нашему предположению, еще не открыты другие свойства. Предмет в целом и это одно его свойство для человека пока совпадают.
Когда в процессе труда человек делает следующий шаг и открывает, предположим, в предмете А и В какое-то новое свойство, то есть находит новый способ употребления этих предметов, то, естественно, вначале это свойство не получает нового названия. Имя первого свойства, открытого в предметах А и В, поскольку оно является одновременно именем предмета в целом, становится также обозначением и этого вновь открытого свойства. Тем самым это свойство распространяется на все предметы, обозначаемые этим именем, то есть не только на предметы А и В, но и на предметы С и D. Но ведь предметы А, В, С и D были сходны лишь в одном свойстве, и нет никакой гарантии, что все остальные свойства у них не окажутся различными.
Это противоречие становится вопиющим, как только человек в процессе труда делает еще несколько шагов вперед и открывает в предметах С и D новое свойство, которого нет в предметах А и В. Возникает противоречие между различием в свойствах и способах употребления предметов А, В, С и D и общностью их названия. Это противоречие должно быть разрешено, и оно разрешается созданием новых имен. Пути разрешения этого противоречия могут быть различными. Может так случиться, что первое название предметов А, В, С и D переходит только на предметы А и В. Оно становится обозначением единства двух открытых в предметах А и В свойств. Предметы С и D получают новое наименование, также обозначающее в итоге единство двух свойств: первого, присущего всем предметам А, В, С и D, и нового, присущего только предметам С и D.
Может случиться иначе. Вновь открытые в предметах А, В и предметах С, D общие свойства получают свои названия, а название, объединившее предметы А, В, С и D, остается для обозначения только этого свойства.
Наконец, может случиться, что вновь открытое в предметах А и В новое свойство уже было раньше открыто в предметах Е, Т, которые, однако, не имеют свойства, общего предметам А, В, С и D. Тогда ни название первого свойства предметов А и В, ни название второго свойства уже не могут стать названием единства этих двух свойств, то есть группы предметов А и В. Возникает новое название, обозначающее единство этих двух свойств, а старые названия остаются для обозначения каждого свойства в отдельности.
Ясно, что эти варианты могут всячески переплетаться и давать всевозможные комбинации движения имен.
Как именно пойдет этот процесс, это зависит от конкретных исторических условий и таких деталей, затрагивать которые мы здесь не можем (тем более что это уже относится не к области логики, а к области языкознания).
Для нас важно, что как бы он ни пошел, во всех случаях противоречие, которое мы разбирали, не уничтожается, оно только снимается, то есть сменяется новым противоречием. Названия, которые объединяли вместе те свойства, которые были открыты в предметах А, В и в предметах С, D, так же, как и все другие абстракции, снова выступают, с одной стороны, как названия только этих объединенных свойств, с другой стороны, как названия самих предметов. В своем последнем качестве они являются также названиями все еще не открытых, потенциальных свойств и способов употребления предметов А, В, С, D. Но предметы, входящие в каждую из этих групп, также не тождественны во всех своих свойствах. Дальнейшее развитие процессов труда поэтому неминуемо должно привести к новому противоречию, которое может быть снято только новой дифференциацией, новым расщеплением названий (имен) и т. д. и т. п.[39] Здесь, как и во всяком процессе развития, каждый шаг его снимает уже назревшие противоречия только для того, чтобы возродить их в новой форме.
Приступая к исследованию описанного выше процесса расщепления понятий, мы предположили, что название открытого в предметах свойства является первым и единственным и поэтому должно стать также и названием предметов в целом. Так как всякое тело имеет не одно название, а по крайней мере несколько, могло показаться, что это предположение уже заранее сужает область разбираемых процессов самими начальными, и поэтому полученные результаты будут иметь лишь частное значение.
Но теперь, проследив процесс расщепления до конца, до образования двух имен, относящихся к одному предмету, мы видим, что по крайней мере одно из этих названий опять становится обозначением как отдельного свойства, так и предмета в целом, и поэтому наше предположение оказывается справедливым и для этого случая. Таким образом, то, что мы предположили началом и исходной точкой процесса в целом, для упрощения исследования, оказывается началом и исходной точкой каждого шага в этом процессе.
В результате разобранного процесса расщепления имен на одном полюсе образуются всё более конкретные имена, на другом – всё более абстрактные термины. Конкретные имена обозначают предметы в целом и предполагают все их свойства, как познанные, так и те, которые еще предстоит открыть. Чем более узкие группы предметов обозначают эти имена, тем больше они приближаются к соответствующим представлениям, тем более переплетаются с ними. Но чем больше приближаются конкретные имена к тождеству связанных с ними предметов, тем больше они отличаются от абстрактных терминов и тем большую свободу дают последним от представлений и наглядных образов.
§ 10. О переносах имен
Наряду с разнообразием процессов дифференциации имен всегда существует обратный процесс, процесс подведения новых предметов, впервые входящих в практику коллектива, под уже сложившиеся имена.
Первоначально основанием для переноса уже сложившихся имен на новые предметы является исключительно производственная функция этих новых предметов[40].
Но после того как имена достигают достаточной дифференцированности, после того как появляется достаточное количество конкретных имен, а производственное значение тех или иных предметов не может быть выявлено сразу, основанием для переноса может служить внешнее чувственное сходство предмета с уже известными[41].
Если процесс дифференциации имен приводит к тому, что появляются более конкретные обозначения, относящиеся ко все более узким группам предметов, то процесс переноса, наоборот, приводит к тому, что объем предметов, обозначаемых каждым именем, непрерывно расширяется. Чем интенсивнее идет перенос имен, тем больше он создает возможностей для правильного обобщения и тем больше он интенсифицирует процесс дифференциации, процесс освобождения от неправильных обобщений.
Так что эти два процесса противоположны по своим тенденциям и результатам. Успешное развитие мышления предполагает равновесие между ними.
До сих пор мы рассматривали процесс расщепления и переноса имен по отдельности и в самой абстрактной, то есть освобожденной от других процессов и деталей, форме. В таком «чистом» виде, по отдельности, они, конечно, нигде и никогда не встречаются, но вместе они уже составляют простейший реальный процесс, который можно наблюдать в развитии современных языков.
Так, у адыгейцев в период, когда средством гужевого транспорта служили только арба с дышлом и ярмом для волов, названием ей служило слово «ку». Это слово несло на себе двойную функцию: оно обозначало свойство «быть транспортом» и сам предмет в целом – «воловью арбу», так как воловья арба была единственным средством транспорта и ее особенные свойства еще не были противоположны ее общим свойствам. В дальнейшем, с появлением новых видов транспорта, происходит, во-первых, перенос названия по общему свойству и, во-вторых, расчленение названий. Свойство быть транспортом отделяется от конкретных предметов и носителей этого свойства и получает в слове самостоятельное существование.
Появляется слово «цу-ку» (воловья арба), «шы-ку» (лошадиная арба) и, наконец, «мэшIо-ку» (огневая арба – имеется в виду поезд). Слово «ку», обозначавшее раньше свойство быть транспортом и конкретное представление воловьей арбы, получает теперь исключительно абстрактное содержание.
В период, когда из злаков у одного из адыгейских племен выращивалось лишь просо, слово «фыгу-кьI» обозначало как свойство проса быть зерном, так и конкретное представление зерна проса. Когда появились новые культуры, это название было перенесено на них и в то же время расщепилось, получило ряд приставок, обозначающих каждую из этих культур: «хьэ фыгукьI» – ячменное зерно, «ккоцц фыгукьI» – пшеничное зерно. Название «фыгу-кьI» по-прежнему несет две функции: обозначает свойством быть «зерном вообще» и быть «зерном проса». Общее понятие зерна уже образовалось, так как во всех названиях фигурирует «фыгу-кьI», но просо еще не получило своего отдельного названия, и поэтому свойство быть «зерном вообще» еще не получило своего самостоятельного существования (в отдельном слове), еще не превратилось в абстракцию.
В период, когда еще не было культурного плодоводства, слово «мы» обозначало «дикое яблоко», «кислицу». В дальнейшем, когда развивается плодоводство, это название (с определенной приставкой) переносится на садовое яблоко: «мыIэрыс». Старое название «мы» получает теперь двоякую функцию: обозначает свойство быть «яблоком вообще» и быть «диким яблоком».
В период, когда в употреблении были только деревянные гвозди, слово «Iун» обозначало гвоздь, но этим имелся в виду «деревянный гвоздь». Когда впоследствии появились железные гвозди, появилось слово «гъучIы Iун», обозначающее железные гвозди. Слово «Iун» некоторое время несло двойную функцию: обозначало деревянный гвоздь и свойство быть «гвоздем вообще», но потом появилось название «пхъэ Iун» – деревянный гвоздь, и свойство быть «гвоздем вообще» получило абстрактное самостоятельное существование (см. [Яковлев, Ашхамаф, 1941, с. 228–230, 233]).
§ 11. О возникновении понятия
Результатом разнообразных процессов являются, с одной стороны, названия отдельных свойств – абстракции, с другой – конкретные имена, которые тоже возникают сначала как абстракции, но в процессе дальнейшей дифференциации превращаются в названия предметов со всем множеством их свойств.
Однако, рассматривая эти процессы, мы ни слова не сказали о том, как организованы, как связаны между собой эти многочисленные абстракции и конкретные имена. Пока они представляют собой бесформенное, аморфное множество отдельных названий и отраженных в них отдельных свойств и нерасчлененных предметов. В действительности же дело обстоит иначе. Тот самый процесс познания, который мы до сих пор разбирали, – труд и примитивное название, – процесс, который образует все эти абстракции и конкретные имена, одновременно, ходом своего движения связывает их между собой, организует в определенную систему.
В процессе труда выделяется какое-то [принадлежащее] ряду предметов свойство. Оно получает название. Это название, как единственное, становится одновременно названием каждого их этих предметов в целом. Пока еще в речи и в мышлении нет противопоставления предмета в целом и его свойства, так же как и в самом процессе труда нет противопоставления предмета и этого определенного способа его употребления, ибо данный предмет имеет пока только один способ употребления.
Но вот в процессе труда человек открывает новое свойство этого предмета, новый способ его употребления – и дает ему название. Мы оставляем пока вопрос о том, как возникло это второе название, относится ли только к этой группе предметов или же уже существовало раньше и перенесено на наш предмет с другой обширной группы предметов, по общности функции. Для нас важен сам факт, что вновь открытое свойство, новый способ употребления данной вещи получает название. Тем самым предмет получает второе название. Так как они оба относятся к одной группе предметов, между ними должна возникнуть связь. «А есть В» – такова формула этой связи, формула простейшего суждения. Обратимся к примерам.
В адыгейском языке слово «цэ» обозначает зуб животного и одновременно понятие «лезвие», режущий край орудия. Можно предположить, что у адыгейцев первым материалом, использованным для изготовления небольших режущих и колющих орудий – ножей, были зубы животных. Камень первоначально использовался лишь для изготовления больших орудий, и только с появлением сравнительно сложного способа его обработки, давшего возможность изготовлять небольшие плоские осколки, камень мог быть использован для изготовления ножей.
Пока зуб был единственным режущим и колющим инструментом, слово «цэ» обозначало одновременно как его свойство быть определенным орудием, так и конкретный зуб, со всем множеством его чувственно-воспринимаемых свойств. Пока зубы животных использовались в коллективной практике только для изготовления «ножей» и другой материал для этого не употреблялся, не было никакого различия, никакого противопоставления между предметом в целом и названием его отдельного свойства. Точно так же пока камень употреблялся лишь для изготовления больших орудий, его название обозначало как отдельное свойство «быть большим орудием», так и камень в целом со всеми его свойствами. Развитие общественной практики, тот факт, что в камне было открыто новое свойство – его начали употреблять для изготовления небольших орудий, – был выражен в суждении «камень есть зуб».
Н. Н. Миклухо-Маклай, например, сообщает, что у папуасов Новой Гвинеи чаще всего делают ножи и скребки из твердой кремнистой коры бамбука[42]. Но, по-видимому, кора бамбука была использована как материал для изготовления ножей и скребков уже после появления ножей из кости и раковин. Новое использование бамбука обязательно должно было привести к появлению суждения типа: «бамбук есть кость» или «бамбук есть раковина», в зависимости от того, какое из этих названий – «кость» или «раковина» – служило преимущественным названием для общего свойства «быть ножом, скребком».
В суждениях «камень есть зуб», «бамбук есть кость», «А есть В» каждое из названий относится к одному и тому же предмету. Собственно, это и является основанием для их связи. Но именно поэтому эта связь будет, прежде всего, отрицанием одного из двух свойств, открытых в рассматриваемой группе предметов. Ведь каждое из этих названий служило не только и не столько названием чувственно определенного предмета, сколько названием определенного способа его использования. Слово «камень» обозначало не столько сам предмет или материал камня, сколько способ его использования, то есть «большое орудие». Слово «зуб» обозначало не столько сам зуб, сколько небольшое колющее и режущее орудие. Слово «кость» точно так же обозначало небольшое орудие, а «бамбук» – материал для постройки шалашей, хижин, горючее вещество и т. п. Но в том виде, в каком камень может служить небольшим орудием, он уже не годится для изготовления больших орудий. В том виде, в каком бамбук служит для изготовления ножей, он уже не может быть использован для постройки шалашей. Каждый из рассматриваемых предметов не может одновременно употребляться и как А, и как В. По своему использованию он есть или А, или В. Таким образом суждение «А есть В» – прежде всего отрицание одного свойства другим.
Но мы уже говорили, что каждое из рассматриваемых названий обозначает не только способ использования предмета, но и сам чувственно воспринимаемый предмет в целом. Поэтому суждение «А есть В» является не только отрицанием одного свойства другим; оно в то же время утверждает, что определенный чувственный предмет – «камень», – который служит в качестве небольшого режущего и колющего инструмента, есть «зуб», что определенный чувственный предмет «бамбук», который служит в качестве ножа или скребка, есть «кость».
Каждое из связанных в суждении названий возникло как обозначение определенного отдельного свойства предмета, определенного способа его использования. Одновременно оно стало обозначением предмета в целом, его конкретно чувственной определенности. Но рассматриваемый предмет не может быть использован одновременно и как А, и как В, по своему использованию он может быть или тем, или другим. Точно так же, по своей конкретной чувственной природе рассматриваемый предмет не может быть одновременно одним и другим. Поэтому, хотя оба связанных в суждении имени возникли как названия отдельных свойств, то есть как абстракции, одно из них теряет это свое значение и становится обозначением предмета в целом. Какое из них, это зависит от конкретных условий, но какое-нибудь обязательно должно быть обозначением только предмета в целом. Оно безразлично к отдельным свойствам предмета, в том числе и к тому, названием которого оно раньше служило. Оно обозначает свойства предмета, но все – только потенциально и ни одного не обозначает в действительности. Наоборот, второе название, в своем отношении к первому, обозначает только свойство.
Таким образом, только в форме суждения, в форме противопоставления двух названий одно из них завершает свое превращение в абстракцию, становится «чистой» абстракцией. «Камень есть зуб» – в этом суждении слово «камень» уже не обозначает свойства быть «крупным орудием». Оно обозначает камень как определенный чувственный предмет, как материал. Наоборот, слово «зуб» уже не обозначает сам зуб как чувственно определенный предмет, а только определенный способ использования предметов, их свойство «быть небольшим колющим и режущим орудием».
Примитивное суждение «А есть В» не только завершает развитие одного из имен в абстракцию, оно является в то же время исходным пунктом для движения нового образования – понятия.
Это суждение само уже является простейшей формой понятия. Поскольку одно из имен стало обозначением предмета в целом, а другое – обозначением отдельного свойства, в этой связи, в суждении «А есть В», осуществляется прежде всего противопоставление предмета в целом и его отдельного свойства.
Здесь утверждается, что предмет А как цельный предмет есть не что иное, как его отдельное свойство В. Здесь выражен анализ предмета А, и его нерасчлененное чувственное представление противопоставлено абстракции и расчленяющему знанию.
Но в этом суждении дано не только расчленение предмета и противопоставление его чувственного представления и способа использования. Здесь содержится одновременно утверждение, что определенный чувственный предмет А используется как В, есть по своему назначению В и только В. «Камень есть зуб (режущее орудие)», «бамбук есть кость (режущее орудие)», в данной конкретной ситуации они используются и могут быть использованы только таким образом. Тем самым отрицается особенность предмета, его самостоятельность, его существование, отличное от определенного способа его использования.
Может показаться, что мы вернулись к исходному пункту: единство предмета и свойства, явившееся исходным пунктом нашего движения, снова оказывается налицо. Но это уже нечто другое. Это единство обогащенное, развитое, оно уже предполагает различие. Мы начинаем с имени, которое предполагает нерасчлененное единство предмета и свойства. Следуя за движением практики, выделившей в этом предмете еще одно свойство, выражая результаты практического анализа, мы связываем первое имя со вторым, которое несет в себе ту же действенность, то есть является одновременно названием предметов в целом и их отдельного свойства. В этой связи каждое из имен получает новое содержание, отличное от первоначального. «Камень» становится «зубом», то есть колющим и режущим орудием, «бамбук» – «костью», то есть ножом или скребком. Мы снова возвращаемся к «камню» и «бамбуку», но теперь эти названия выступают уже в обогащенной форме, с новым содержанием, ибо они предполагают эти связи, эти суждения, он содержит их в себе.
Когда процесс начинался, мы не знали, что А есть В. Более того, мы отрицали, что предмет может быть чем-либо иным, кроме А. Как А он был четко определен и непримиримо враждебен ко всему остальному. Но непосредственный процесс труда нарушил эту определенность. Он отверг А как А и превратил А в В. Суждение отразило, фиксировало и тем освятило в сознании это революционное действие труда. Теперь, в конце процесса, нам кажется естественным, что А есть В, теперь мы склонны предположить, что А всегда, с самого начала, было В, что закон тождества и закон противоречия не нарушены.
На деле же этот акт труда был революцией, и, как всякая революция, он отменил на время все законы, кроме закона самой революции, закона движения.
В суждении «А есть В» перед нами впервые выступает понятие. Мы назвали абстракцией простейшую форму мысли – название, которое обозначает одно какое-либо свойство предмета и одновременно весь предмет в целом. Ее содержание еще не расчленено, и общее чувственное представление предмета еще не противопоставлено его отдельным свойствам.
Понятие является более сложной формой мысли. Оно складывается как определенная связь абстракций, и его простейшая форма представляет собой суждение «А есть В». Эта связь выражает определенный анализ предмета в целом и его отдельных свойств. Эта простейшая связь содержит в зародыше синтез выделенных в процессе анализа и абстрагирования отдельных свойств предмета в некоторое единство. Этот анализ принимает развитую форму, когда в процессе труда человек открывает в этом же предмете новые свойства и дает им названия. Эти новые абстракции вступают в определенные связи с уже существующими и образуют более сложное, обогащенное, развитое понятие. Таким образом, понятие выступает как определенная связь абстракций, или, другими словами, как определенное единство и связь отраженных в форме абстракций свойств предметов и явлений. Поэтому можно было бы определить понятие как связь абстракций, выражающую одновременно анализ предметов и явлений действительности на отдельные свойства и синтез этих свойств в некоторое единство.
Разрешая противоречия, заключенные в каждой абстракции, разобранная нами форма суждения – понятие – сама создает ряд противоречий. Суждение «А есть В» расчленяет каждую из абстракций, превращая ее либо в название только отдельного свойства, либо в название только предмета в целом и его чувственного образа. Но это расчленение остается пока в пределах лишь этого суждения. Каждая из входящих в него абстракций сама по себе, вне конкретной ситуации и конкретного суждения, по-прежнему несет двойную функцию, обозначая одновременно как отдельное свойство предметов, так и сами предметы в целом. Поэтому вслед за суждением «А есть В» должно ставиться суждение «А не есть В». Мы говорим «камень есть зуб», выражая этим тот факт, что камень как определенный чувственный предмет может служить небольшим колющим и режущим орудием. Мы используем в этом суждении одно значение слова «камень». Но это слово является не только обозначением определенного чувственного предмета, но и названием определенного способа его использования, названием большого орудия. И в этом втором значении «камень» не является «зубом», точно так же как зуб как определенный чувственный предмет не может быть использован в качестве большого орудия. Суждение «камень не есть зуб» только выражает эти факты практики. Противоречие между суждениями «А есть В» и «А не есть В» выражает противоречие между новым, обогащенным, развитым содержанием и старой, еще не развитой формой. Знание людей о предмете А углубилось, а форма выражения их знания осталась прежней: одно и то же слово, по существу, обозначает два различных свойства предмета. Разрешение этого противоречия осуществляется изменением формы, приспособлением ее к новому содержанию. Старая абстракция расщепляется на две, одна из которых обозначает первый способ использования предметов А, другая – предметы А в целом, как определенные чувственные предметы. Мы можем пока говорить только о результатах этого процесса, не показывая, как именно и в какой форме он идет, ибо этот процесс неизмеримо более сложный, чем разобранные, и предполагает связь по крайней мере трех суждений.
§ 12. Об относительной самостоятельности мышления
Теория познания диалектического материализма исходит из того, что развитие мышления определяется в конечном счете развитием и усложнением процессов труда. Однако, показывая общую зависимость мышления от процессов труда, теория познания диалектического материализма подчеркивает, что мышление обладает также относительной самостоятельностью и активностью. Если на самых ранних этапах развития человеческого общества мышление рабски следует за непосредственными процессами труда, закрепляя его случайные успехи в анализе действительности, то по мере развития человека, его головы – развития, происходящего в этих же процессах труда и ими называемого, – мышление, то есть процессы движения понятий, начинает все больше отрываться от отдельных актов деятельности. Мышление получает относительную самостоятельность, или, иначе, понятия получают некоторое самодвижение.
Надо сразу сказать, что это движение самостоятельно лишь относительно, лишь в очень узких пределах. Начало своего движения, толчок к движению, как мы уже видели, понятия получают в процессе труда. Проделав некоторый ограниченный путь, иногда больший, иногда меньший, всякое понятие возвращается к действительности, соотносится с объективным миром. Это соотношение есть процесс труда, и в нем проверяется действительность понятия, его соответствие объективному миру.
Получив толчок к движению в процессах труда, наши понятия в своем развитии опережают эти процессы, принимают такую форму, которая не вытекает непосредственно из предшествующей деятельности. Действительному взаимодействию с природой, ее действительному реальному анализу и изменению предшествует мысленный анализ и мысленное изменение. Затем начинается процесс труда, который уже подчинен понятию и мысленному плану, сложившемуся в голове человека. Но подобное господство мышления над процессами труда, подчинение процесса труда мышлению, выражает лишь одну сторону в их отношениях. В том самом акте труда, который, казалось бы, всецело подчинен понятию, именно понятию самому приходится отстаивать свое право на существование, именно ему приходится доказывать, что оно «действительное», то есть истинное понятие и имеет право на господство. Иногда ему это удается, иногда нет, но в каждом трудовом акте понятие перестает быть тем, чем оно было до этого. Оно выходит из акта труда измененным, оно получает толчок, побуждение к новому изменению и движению, чтобы затем снова быть соотнесенным с действительностью, снова получить толчок и т. д.
В философии Гегеля развитие мышления рассматривалось в ненаучной идеалистической форме, как самодвижение, саморазвитие понятий. Гегель представлял дело так, будто понятия имеют в себе противоречия и благодаря этим противоречиям понятия развиваются сами по себе и из себя. В действительности же понятия не обладают абсолютным самодвижением и внутренними противоречиями. Противоречия, которые Гегель приписывал самому понятию, суть противоречия между бесконечным по своим свойствам миром и всегда конечным, ограниченным, неполным знанием человечества. Эти противоречия возникают не из самого мышления, а из отношения мышления к объективному миру, отношения, основу которого составляет общественная практика, труд.
Но, твердо помня о постоянной зависимости мышления от объективного мира и от процессов труда, в которых оно с этим миром соотносится, мы не должны забывать также об относительной самостоятельности мышления.
Эта относительная самостоятельность проявляется, прежде всего, в способах образования абстракции. До сих пор мы рассматривали лишь тот способ образования абстракции, который заключается в назывании открытых в процессе труда свойств. Однако этим способом образуются отнюдь не все абстракции, а только часть их, составляющая базис, на котором в дальнейшем идет относительно самостоятельное развитие мышления. Когда этот базис создан и конкретные имена начинают переплетаться с представлениями, появляется новый способ образования абстракции, основывающийся на взаимодействии первой и второй сигнальных систем. Мы уже останавливались на этом способе, когда говорили о переносе названий. Такие абстракции возникают на основе чувственных представлений и сравнения этих представлений друг с другом и с уже названными, практически важными предметами. Так, например, тасманийцы называют все длинное – «как ноги», круглое – «как шар». Постепенно изменяясь, эти названия отделяются от названия предметов, приобретают самостоятельное существование, и таким образом чувственные свойства предметов получают свои названия, то есть абстрагируются.
Абстракции могут образовываться не только на основе взаимодействия первой и второй сигнальных систем, но и исключительно на второсигнальной основе. Примерами таких абстракций могут служить абстракция «формы», возникшая сначала для обозначения воспринимаемого в чувствах контура предметов, а затем примененная для анализа внечувственных явлений, абстракция «стоимости», «бесконечного» и др.
Относительная самостоятельность мышления проявляется также в образовании и движении понятий. Поскольку понятия представляют собой определенные системы связей между абстракциями, движение понятий должно заключаться в изменении этих связей, в устранении уже существующих и в образовании новых. На достаточно высокой ступени развития мышления понятия могут образовываться априорно, путем всевозможных, часто произвольных комбинаций уже существующих абстракций. Совершенно ясно, что таким путем могут создаваться также и неверные, фантастические понятия. И они нередко возникают, но процесс соотношения наших понятий с действительностью постоянно ломает и исправляет их. ‹…›
В двух последующих главах на примере конкретных понятий «бесконечного» и «скорости» мы хотим проследить, как в конкретных условиях проявляются те закономерности и противоречия, о которых мы говорили выше. Исследуя движение понятий, намечая общие моменты этого движения, мы подходим к изучению форм развития нашего знания, форм движения мышления.
28
«Обитатели лесостепной зоны, почти двуногие приматы позднетретичного времени, по своему анатомическому строению не могли пробегать огромного пространства в поисках пищи, подобно копытным, или конкурировать с хищными в преследовании добычи. Они должны были ограничиться небольшой территорией, что для сравнительно крупных животных представляло значительные затруднения. Для лесостепных приматов, крупных, но лишенных специфических приспособлений – рогов, копыт, больших клыков и т. д., оставался один выход: увеличить силу своих рук, ног и зубов систематическим, а не случайным, как у обезьян, применением различных орудий – камня, раковин, палок, рогов животных и т. д. – для раскапывания корней, для метания в выслеженного зверя и пр. Унаследованные от древесных приматов, характерные для них инстинкты поисковой и игровой деятельности, ориентирующей работы пальцев рук, облегчили эту задачу и способствовали постепенному включению в жизненную необходимую обстановку разнообразных внешних предметов, активному их усвоению. Существование этих групп приматов было связано уже не только с органами тела, но и с независимыми от них предметами. Переходные формы антропоидов-гоменид не могли обходиться без палок и камней для добычи и приготовления пищи, для самозащиты. Дальнейшее развитие приводило к намеренному изготовлению орудий, сначала без закрепленной формы, а потом и определенно обработанных, т. е. к появлению древнейших людей» [Бунак, 1951, с. 261].
29
См. [Маркс, 1960, с. 190–191].
30
Здесь автор ссылается на учение физиолога И. П. Павлова (1849–1936) о «сигнальной системе», понятие о которой им было введено для объяснения закономерностей работы больших полушарий головного мозга, высшей нервной деятельности. Павлов выделял: а) «первую сигнальную систему», формирующуюся у животных и человека при воздействии внешних раздражителей (сигналов) – световых, звуковых, тепловых и т. д. – и образующих систему условных связей, ассоциаций в коре головного мозга; б) «вторую сигнальную систему», которая свойственна только человеку и формируется как «прибавка» к сигналам первой сигнальной системы – в виде речи и мышления как «сигналов сигналов» – на основе раздражений рецепторов органов речи – мускулатуры, губ, щек, гортани и т. д. и идущих от них импульсов в кору головного мозга. (См., например, [Павлов, 1951а, с. 345])
31
«Речь возникла на основе звуков, свойственных высшим антропоидам, но не аффективных криков, а аффективно-нейтральных жизненных шумов, сопровождавших обыденные акты поведения» [Бунак, 1951, с. 271]. (Это, видимо, самая последняя точка зрения по данному вопросу.)
32
«…Слово для человека есть такой же реальный условный раздражитель, как и все остальные общие у него с животными…» [Павлов, 1951б, с. 428–429].
33
«…Кинэстезические раздражения, идущие в кору от речевых органов, есть вторые сигналы, сигналы сигналов. Они представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, что и составляет наше лишнее, специально человеческое, высшее мышление» [Павлов, 1951а, с. 232–233].
34
«…Начальные слова… объединяют в неразрывном комплексе обозначение акта поведения, его цель, средство, вероятно также применяемое орудие» [Бунак, 1951, с. 274].
35
Человек как бы наново в абстрактном мышлении переоткрывал мир, уже один раз данный ему, как и всякому животному, в ощущениях. Работы по истории языка дают на этот счет немало интересных примеров.
Так, можно было бы предположить, что первыми в языке и сознании должны были появиться слова-понятия для тех цветов, которые наиболее распространены в природе: для голубого и зеленого. Однако человек начинает называть цвета особыми словами только тогда, когда эти цвета получают определенное значение в коллективной практике. Известно, что скотоводство было одним из важных занятий населения на Кавказе. Скотоводство создает необходимость различать масти животных, и вот оказывается, что у некоторых народов слова-названия для мастей животных появляются раньше, чем названия для других цветов и видов окраски. Так, например, в адыгейском языке первичные односложные слова-корни обозначают именно названия мастей. Слово «фы» обозначает «светлый», «гъо» – «рыжий, красноватый», «тхъо» – «буланый», «шхъо» – «светло-серый, голубовато-серый». «Названия цветов вообще образуются лишь вторичным путем от названия мастей с помощью словообразовательного суффикса “жьы”» [Яковлев, Ашхамаф, 1941, с. 227]. Понятие «голубой цвет» образуется еще более сложным образом: «шхъу-антIэ».
36
У гуичолов пшеница, олень и растение гикули имеют одно и то же название. К. Лумгольц, наблюдавший жизнь гуичолов, указывает, что для них «пшеница, олень и растение гикули являются в действительности в известном смысле одной и той же вещью (по своему значению), все они служат питательным веществом, предметом питания и в этом смысле тождественны» [Резников, с. 205].
37
«…В языке эскимосов разными словами обозначают моржа, находящегося на льдине или на лежбище [то есть доступного охотнику – Г. Щ.]… и моржа, находящегося далеко в море… [то есть недоступного – Г. Щ.]» [Бунак, 1951, с. 255].
38
Таким образом, каждое название было одновременно как изолирующей, так и обобщающей абстракцией.
39
Ясно, что этот процесс идет особенно интенсивно в той области, где лежат основные практические интересы коллектива. Обилие названий для предметов, различия между которыми вызывают к себе практический интерес, сочетается с крайней бедностью языка в тех случаях, когда практические нужды непосредственно не требуют такой дифференциации.
«Характеризуя язык бразильского племени бакаири, К. Штейнен пишет, что “количество понятий зависит прежде всего от особенностей интересов. С одной стороны, по сравнению с нашими языками наблюдалось обилие слов, служащих названиями животных и родства, с другой стороны, бедность, которая вначале просто поражала: yélo означает и гром, и молнию, kχоpö – дождь, бурю и облако”» [Steinen, 1897, S. 80–81] (цит. по [Резников, 1946, с. 212]).
«…Согласно данным Макса Мюллера, у туземцев Гаваи есть только одно слово “aloba” для обозначения таких чувств, которые мы называем любовью, дружбой, уважением, признательностью, доброжелательством и т. д.… Но эти же туземцы располагают, например, многими словами для обозначения различных направлений ветра и его силы.
…Весьма бедный по своей лексике язык лапландцев имеет свыше 30 названий для обозначения северного оленя – животного, играющего большую роль в их жизни» [Резников, 1946, с. 213].
40
В разобранном выше примере с названием пшеницы, оленя и растения гикули у гиучолов Лумгольц указывает, что, по-видимому, название оленя, служившего с древнейших времен средством питания, перешло затем к пшенице (по функции средства питания).
Современное адыгейское слово «хьацэ» (ячменное зерно) первоначально обозначало «ячменный зуб». Здесь более старое слово «цэ» – «лезвие», «режущий край орудия», «зуб» (животного) оказалось использованным в совершенно новой области экономики [Яковлев, Ашхамаф, 1941, с. 231].
«Вот, например, как описывает этнограф Карл Штейнен процесс называния новых вещей бразильским племенем бакаири: “В высшей степени замечательна была та быстрота, с которой они связывали неизвестные им вещи с известными, причем они тотчас же и без всяких ограничивающих дополнений давали этим неизвестным ранее вещам названия известных. Они обрезают волосы острыми раковинами или зубами рыбы пиранья, и мои ножницы, предмет бесконечного восхищения, который так гладко и ровно обрезал волосы, они назвали просто зубом пиранья. Зеркало оказалось водой. Покажи воду, кричали они, когда желали взглянуть на зеркало”» [Steinen, 1897, S. 78] (цит. по [Резников, 1946, с. 204]).
41
В тех же исследованиях отсталых племен было замечено, что, когда существенная функция предмета оказывалась неизвестной и непонятной, предмет назывался в соответствии с бросающимся в глаза признаком. Например, некоторые австралийские племена, увидев впервые книги, стали называть их «ракушками», так как они раскрывались подобно ракушкам (см. [Бунак, 1951, с. 255]).
42
Ссылка отсутствует, но автор, вероятно, имеет в виду «Путешествия на берег Маклая: Этнологические заметки о папуасах берега Маклая на Новой Гвинее».