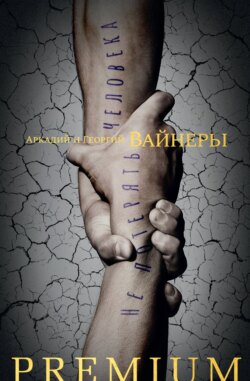Читать книгу Не потерять человека - Георгий Вайнер - Страница 2
Аркадий и Георгий Вайнеры. Карский рейд
Часть I. Бегство
ОглавлениеУказка ползала по карте, как худая голодная пиявка, и главнокомандующему казалось, что там, где ее острый черный кончик задерживался, она глотала опорные пункты, укрепленные деревни, охраняемые разъезды.
– …Противник численностью до двух полков вышел через деревню Дениславская к узловой станции Плесецкая и после короткого кровопролитного боя захватил ее… – гудел где-то сбоку, над самым ухом, простуженный насморочный голос штаб-офицера.
Офицеру не хватало воздуха, его душили аденоиды, и главнокомандующему все время хотелось приказать ему высморкаться, но не было сил заговорить, и от этого Миллер плохо вникал в подробности доклада, их напрочь смывал гундосый сопливый голос штабиста. Да и в подробностях ли сейчас дело? Сейчас важна суть…
– …При содействии местных жителей-проводников красные обошли по брошенным лесным дорогам укрепленный населенный пункт Кочмас и захватили разъезд Четыреста шестнадцать, – бурлил тяжелым носом офицер. – Из-за угрозы быть отрезанными от основных сил наш бронепоезд «Генерал Алексеев» вынужден был отступить без боя, взорвав при отходе мост через реку Емца…
– Где сейчас проходит линия обороны? – перебил штаб-офицера Миллер, слушать дальше было невыносимо. Хотя в этом тоже была страшная примета всеобщего разрушения и гибели: командующему победоносной армией ни при каких обстоятельствах не мог бы докладывать офицер с заложенным носом.
– …Нарушена связь… последние донесения недостоверны… части вышли из повиновения… – загугнил, забулькал штабист.
– Но где дислоцированы части, которые не вышли из повиновения и с которыми не нарушена связь? – зло выкрикнул главнокомандующий.
Начальник штаба генерал Марушевский горестно вздохнул, отодвинул насморочного дежурного, сипло сказал:
– Господин командующий, фронта больше не существует. Сегодня утром красные оседлали железную дорогу на Котлас, захватили Емец и Обозерскую, отрезали нас от броневых сил и стремительно катятся на Архангельск. На их сторону перешел Архангелогородский полк, гаубичный дивизион, пулеметные роты «люисганов»…
– Вы хотите сказать, Виктор Васильевич, что у нас больше нет связи с войсками и вы не представляете, что происходит на фронте? – сердито поджал губы Миллер.
Вынырнувший из-за плеча Марушевского начальник контрразведки Чаплицкий неприятно засмеялся:
– Генерал Марушевский хочет сказать, что нет фронта…
У Чаплицкого были горячечные глаза фанатика. Или человека, не пренебрегающего кокаином. Или не остывшего после свалки драчуна. Неприятный субъект. У него на лице всегда написано желание сказать дерзость. Или подпустить шпильку. И лучше всего было бы сейчас прикрикнуть на него, одернуть, поставить на место.
Но состояние бессилия, наваждения, долгого кошмарного сна, лихорадки не покидало, сковывало волю нерешительностью, а тело немощью.
Рассеянно пощипывая бородку, Миллер прислушивался к стрекочущей в виске головной боли, пронзительно-злому и надоедливому сверчку, перфорацией высекающему дыры пустоты и забвения в мятой поверхности перепуганных и смятенных мыслей.
Наваждение, обман чувств, мираж. Удивительно долгий неимоверный сон. Не могла так быстро, так внезапно, так необъяснимо свернуться, истлеть, растаять вчера еще огромная империя. Свестись к задымленному, прокуренному, оторванному от всего мира уголку гостиной Архангельского коммерческого клуба, где доживает последние часы его ставка – резиденция главнокомандующего и генерал-губернатора Северного края.
Он смотрел в яростные сумасшедшие глаза Чаплицкого, и в его душе поднималась вялая ненависть. Но звонко тарахтящая боль в виске сразу смиряла ее, и он вновь погружался в зыбкую сумерь нерешительности, боязни, мистической надежды на какое-то чудо.
– Что же делать? – неожиданно для себя сказал он вслух. Громко.
И в этом крике души – сигнале полной потери воли, признании в своем бессилии и непонимании происходящего – было такое предречение гибели, распыла, исчезновения, что смолкла на миг обычная штабная суета. Даже телеграфный аппарат Бодо остановил свой беспрерывный щелк и неутомимое кружение бумажных лент.
И электрический ток ослаб в лампах – будто сигнала ждал. Померк, пожелтел свет, яичным болтуном тревожно сгустился в прозрачных колбочках, накалил в них докрасна проводки и – погас совсем.
Забегали, зашаркали адъютанты, упал в темноте стул, кто-то зашибся и коротко, зло ругнулся, шелестели во мгле бумаги, и в темно-фиолетовых намерзших задышанных окнах стал все яснее и пугающе проступать багровый отсвет далекого пожара.
– Свет! Принесите лампы! К командующему свечей! – гукали, перекатывались по дому голоса.
Надсадно кричал в телефонный рожок кто-то из офицеров:
– Почему нет света? Что с электричеством? Дайте срочно свет!..
Золотистые дымящиеся овалы керосиновых ламп и выражение радостного облегчения на лицах у всех – как у перепуганных детей, выведенных из темноты. Брошенный на крюк телефонный наушник – электростанция забастовала, рабочие разбежались.
– Что же делать? – уже тихо, растерянно повторил Миллер, и было ясно, что он не ждет совета или помощи от присутствующих: ему нужна была подсказка сверхъестественных сил, способных разрушить этот длящийся горячечный кошмар ухода в небытие.
Угревшийся у голландской печи лесопромышленник Зубов, единственный штатский в кабинете, терпеливо помалкивал. Но после слов Миллера он вдруг сварливо заметил:
– Это вы, господин губернатор, должны сказать – что нам делать! Вы так яростно настаивали на передаче вам диктаторских полномочий, что я пошел на неслыханную меру – как вице-премьер, я распустил демократическое правительство Северного края! А вы за девять дней неограниченных полномочий ничего не сделали, чтобы переломить обстановку на фронте! Мы, конституционные демократы…
– Замолчите! – свистящим тонким голосом закричал Миллер. Он вскочил с кресла, затопал ногами и закричал еще пронзительнее, и криком этим он душил в себе страх, отчаяние и тонкую свиристящую боль в виске: – Замолчите, презренный либерал! Вы, вы, вы! Сытые, праздные, тщеславные болтуны довели Россию до гибели! Это не большевики, а вы раскачали устои монархии! Вам была нужна конституция! Вы требовали Думы и Учредительного собрания! Вам была невыносима династия Романовых! Вас не устраивали правительство и армия! Вы все получили теперь – все, чего добивались! Вы развратили народ неосуществимыми посулами и хотите, чтобы мы платили за ваши обещания! Так помалкивайте, по крайней мере! Иначе я сейчас же прикажу конвойному взводу расстрелять вас во дворе!..
Миллер обессиленно упал в кресло, и в наступившей тишине вдруг раздались одинокие отчетливые аплодисменты – это хлопал в ладоши, светил горячечными глазами, весело смеялся Чаплицкий:
– Браво! Прекрасно сказано! Если вы мне разрешите, господин командующий, я могу освободить от хлопот конвойный взвод. С удовольствием и очень умело я управлюсь в одиночку с этим ответственным и полезным делом! Разрешите приступить?..
Зубов испуганно нырнул в полумрак, подальше от этого сумасшедшего. А Миллер недовольно покосился на Чаплицкого, сглотнул несколько раз, умеривая дыхание, и негромко, но твердо скомандовал:
– Генерал Марушевский, приступайте к эвакуации на Мурманск. Абсолютно секретно. Нельзя поднимать панику в остающихся частях…
И мгновенно возникший вал безудержной паники общего бегства неостановимо покатил к причалам торгового порта.
Красноармеец Тюряпин до войны жил в теплом южном городе Ростове. А работал грузчиком на хлебных ссыпках компании «Братья Вальяно». Любил он солнце, огромные сахарные арбузы и веселую жизнь портовой вольницы, не признававшей и не терпевшей над собою никакого начальства, кроме артельного старосты. И когда в августе четырнадцатого года околоточный надзиратель вручил ему мобилизационный лист, купил он на прибереженный для зубов золотой империал ведро водки, свиной задок, четыре пшеничных каравая и мешок – бездонный «ламтух» – с арбузами. Товарищи по грузчичьей артели чинно приняли угощение, степенно покалякали на прощанье, обняли крепко – до костного хруста – и дали твердое наставление: на фронт не ходить нипочем.
– Не твое и не наше дело, не, – заверил артельный батько. – Пущай Вильгельм с Николой сами разбираются, раз кашу заварили…
И покатил Тюряпин вверх по Дону до Калача, там перебрался на Волгу, на палубе парохода общества «Самолет» поднялся до Нижнего Новгорода, а уж оттуда – на Урал, в Сибирь – дорога короткая. Два года бродяжничал, пока не сцапали в Чите, и сколько ни прикидывался дурачком без памяти, без имени, без разумения – укатали все-таки в маршевый батальон, направлявшийся на Западный фронт.
И открылся тут в нем талант разведчика: не было экспедиции за колючую проволоку, через линию фронта, чтобы не включили туда пластуна Тюряпина. Здоровое молодое тело, налитое хлебной силой, наловленное бесконечной беготней с шестипудовыми мешками по узким качающимся сходням, послушно и терпеливо подчинялось хитрой белобрысой голове вольного бродяги. За взятого в плен немецкого обер-лейтенанта дали Тюряпину погоны унтер-офицера, за притащенного на себе с той стороны раненого поручика Сестрорецкого полка Иоганна Федоровича Кизиветтера навесили «Георгия». «Я с этими немцами – ихними и нашими – скоро генералом стану!» – веселился Тюряпин. Но стать генералом не успел, потому что грохнула революция, развалилась армия, солдаты стали брататься, а генералов упразднили вовсе.
И к собственному удивлению, Тюряпин поехал не в Ростов, где ждали его солнце, арбузы и портовая вольница, а вступил в Красную армию и третий год подряд голодал, холодал, мерз, мок, отступал, наступал, шагал через болота, тайгу, тундру, вместо тепла южного солнца терпел приполярную стылость, вместо сахаристой мякоти арбузов, которых в здешних краях никто и в глаза не видывал, пил морковный чай с сахарином и приучился даже соблюдать дисциплину.
Шестерым бородатым поморам, молчаливым, дремучим, как старый черный амбар на перекрестке дороги в порт, где они заняли позицию, Тюряпин пояснял:
– Ликвидируем белых, кончим капитализьм – жизнь станет вольная, теплая, сладкая. Как арбуз. Вот ты, дядя, хоть раз в жизни ты ел арбуз?
Заросший волосьем до самых глаз дядя в облезлой собачьей дохе арбуза не ел. Он думал о том, что если сегодня-завтра красные сюда поспеют, то, может, удастся скрыть от белой интендантской реквизиции коровенку Фросю, и тогда – с молочком, с картохой, с оладьями из отрубей – можно будет дотянуть всех пятерых ребятишек до весны. А там – рыба появится, летом вообще легче, клюква пойдет, а скорбут-цинга клюквы как огня боится.
Только бы красные подошли скорей! Вот этот разбитной веселый красноармеец, когда решил остаться с ними в засаде, отправил к своим двух других и сказал им: бежите, мол, без остановки, а сюда возвращайтесь с ротой по сожженному мосту, он всего на полметра притоплен, бежите быстрей, часа за три обернетесь коли, мы белых от порта отрежем…
– Ни разу в жизни арбуза не ел? – огорчался Тюряпин.
– А это што такое – мясо? Али дичь? – спросил неспешно другой бородач, внимательно всматриваясь в ночь сквозь узкие окошки-бойницы.
– «Дичь»! Скажешь тоже! Сам ты, дядя, дичь! Арбуз – это такой плод, либо, ежли по-научному, точнее говоря, – это ягода…
– Ягода! – удивился мальчишка со степенным именем Гервасий. – Вроде клюквы, што ли?
– Клю-ква! Клюква – тьфу, кислота одна и горечь! А арбуз – как сахар, и размера – во-от какого! – развел на всю ширину руки Тюряпин.
– Во врет служивый! – восхитился мужик в собачьей дохе. – Где же это растут ягоды с котел?
И Гервасий по-мальчишечьи заливисто засмеялся, за живот схватился, покатился от веселья и позавидовал: вот что значит городской человек – чего хошь наврет, ресницей не вздрогнет.
Тюряпин тоже усмехнулся, головой покачал несердито, сказал душевно:
– Эх, мужики, мужики, вот для того и нужна позарез победа революции, чтобы вы темноту свою осознали, из берлог своих на белый свет повылазили.
А бородач у окна вдруг сказал тихо и сдавленно:
– Эй, вы, там! Угомонитесь! Едут, кажись…
И в разом наступившей тишине отчетливо зарокотал близкий гул моторов, и тоска подступила к сердцу, и Тюряпин досадливо крякнул:
– Эть, жалость-то какая! Не поспели, слышь, к нам ребята! Теперя самим придется…
Передернул затвор, загнал патрон и встал к темному проему в стене.
– А что, ваше высокопревосходительство, в Риме не бывает таких холодов? – дурашливо спросил Чаплицкий.
Миллеру послышалась насмешка в хриплом голосе офицера. Он растерянно заморгал, кашлянул, ответил без всякого проблеска иронии:
– В Италии, где я имел честь представлять военные интересы империи Российской…
– Империи… Пропили мы нашу империю… Прогуляли… – перебил Чаплицкий. Длинно, с повизгиваньем, зевнул и добавил тихо, устало, без выражения: – Теперь двинемся в Италию… Представлять… самих себя.
Офицеры ехали в бронированном «роллс-ройсе» по окраинной, плохо мощенной улочке Архангельска. Мела сырая февральская поземка, ни одного окошка не светилось в старых покосившихся домах. Город испуганно затаился, замер, ожидал неведомых перемен.
Миллер сердито, по-петушиному, крикнул:
– Ну-ну-ну, не забывайтесь, господин капитан первого ранга! Есть Мурманский фронт, есть флот! Есть, наконец, союзники!
– Что же вы их не использовали здесь, в своей столице Архангельске? – со злым истеричным весельем спросил Чаплицкий. – Еще вчера ведь и здесь был фронт, и флот был, и союзники? А-а?..
– Извольте, милостивый государь, не перебивать меня! Вы знаете, что такое стратегия? Ценою малых потерь обретается победа в главном. Кутузова, когда он оставил Москву, обвиняли в трусости… да что в трусости – чуть ли не в предательстве!
– Вот это точно, – согласился Чаплицкий. – Убедили. Вы – Кутузов. А кто Наполеон?
– Серьезность момента не позволяет примерно воздать вам за невоспитанность, – выдавил из себя Миллер, задыхаясь от возмущения. – Настоящий дворянин отличается от плебея умением и в трудной обстановке сохранять достоинство. Вы никогда над этим не задумывались?..
– Совершенно с вами согласен, господин генерал-лейтенант. – Чаплицкий едко усмехнулся. – Особенно, если учесть одно весьма существенное обстоятельство…
– Какое же? – высокомерно вскинул брови Миллер.
Чаплицкий прищурился:
– Когда мой прадед был министром двора у короля Августа, ваш предок варил пиво в Бадене…
Ответить Миллер не успел.
Когда Тюряпин увидел на полого спускавшейся к ним улице свет фар нескольких автомашин, он вдруг с удивительной ясностью понял, что с того самого момента, как он, пробравшись в город, разыскал партизан и они рассказали, что солдат-телефонист из миллеровского штаба успел шепнуть им об эвакуации, то и не надеялся он на подход подкрепления. За несколько часов им было не обернуться. Но и не задержать штаб – хоть ненадолго – Тюряпин не мог не попробовать. И о том, что отбиться ему не удастся, старался Тюряпин не думать. До того мига, пока не засветили ярко в сизой черноте ночи слепящие плошки автомобильных огней, которые никому, кроме штаба, принадлежать не могли.
И пока наводил черный плавный пенек мушки между фар и чуть-чуть выше, чтобы вернее влепить в водителя, ущемила сердце коротко, но больно быстрая мысль о том, что на Дону уже синие широкие разводья, лед трескается и громко шуршит перед тем, как с гулким ревом сорваться разом и за одну ночь уйти в море, и над городом уже плывет соленый ветер близкой большой воды, и каштаны набухают толстыми почками, и закаты стали длинны, покойны и прозрачно-сиреневы. Эта весна была для кого-то. Тюряпину остался черный амбар на перекрестке пологой дороги в порт, медленно приближающиеся снопы света и черная черточка мушки, упершаяся наконец твердо между двумя огнями, только чуть-чуть повыше.
И осторожно спустил курок.
Еще не услышав хлопка выстрела, передернул затвор, достал следующий патрон из подсумка и снова плавно, ласково нажал спусковой крючок…
Ответить Миллер не успел.
Ночь треснула неровным ружейным залпом, и пули заколотили по толстому кузову «роллс-ройса», как палкой по корыту. В машине горько запахло паленой обивкой, холодом, и сразу стало очень неуютно.
– Анчуков, полный газ! – крикнул Чаплицкий сидевшему за рулем поручику, но тот, как будто неожиданно и неодолимо устав, осел на руль, и машина, потеряв скорость, рыскливо покатилась из стороны в сторону по узкой ухабистой мостовой.
– Быстрее! Быстрее… – беззвучно зашептал онемевшими губами генерал, и Чаплицкий заметил, как в темноте нехорошо, мучительно забелело его лицо.
Чаплицкий всмотрелся в заднее стекло – было видно, как несколько человек в тулупах и шинелях перебежали улицу в проход за боковым домом. Он дотянулся с заднего сиденья до шофера, толкнул его в плечо:
– Анчуков, ты что? С ума сошел?.. Мать вашу, совсем от страха ополоумели!
Анчуков, не выпуская баранки из рук, послушно завалился на левый бок, ударился головой о дверцу, она распахнулась, и поручик выпал из автомобиля. Последнее, что успел заметить Чаплицкий, была черная прямая струйка крови, разрезавшая щеку Анчукова, как удар сабли. Снова грохнул залп – нестройный, редкий, и Чаплицкий на слух определил, что стреляющих мало и стрелки они не ахти какие.
Неуправляемый автомобиль катился по узкой пологой улице, подпрыгивая на ямах и наледях.
– Конвой! Где конвой, я вас спрашиваю… – рыдающим голосом заныл Миллер.
– Да замолчите вы! – крикнул Чаплицкий. – Это наши же солдаты стреляют. Ложитесь на пол скорее, не то укокошат! Ну! Ку-ту-узов…
Перегнувшись через спинку переднего сиденья, Чаплицкий попытался удержать руль, но тяжелый автомобиль неудержимо катился в сторону домов.
– Кто же это мог напасть на нас? – под руку бормотал главнокомандующий.
«Какой же дурень наш генерал, Господи, спаси и помилуй!» – подумал Чаплицкий и бросил:
– Конница Мюрата…
Толкнул дверцу и выпрыгнул из машины.
Упал, тяжело ударился о мостовую. Глухая боль резко отдалась в груди и животе. Над головой взвизгнула пуля, а через секунду машина с надсадным грохотом и звоном врезалась в дом. Побежало, застелилось синими огоньками, белыми сполохами быстрое бензиновое пламя…
Чаплицкий приподнялся, и тотчас рядом звякнула пуля. Он прижался к мостовой и подумал: «Когда лежу – из-за сугроба меня не видать… А ведь дуралей этот сгорит там, в машине…»
Перекатился на другой бок и в конце улицы увидел быстро приближающийся грузовик с конвоем, покачал головой: пожалуй, не поспеют, но все-таки, лежа на снегу, стянул с себя шинель, сложил ее так, чтобы в свете разгорающегося пожара виден был золотой погон, потом приспособил на воротник офицерскую фуражку и выставил это сооружение из сугроба.
И прежде чем услышал выстрел, почувствовал, как дернулась в руках пробитая шинель. «Вот так и в меня когда-нибудь…» – подумал он равнодушно и, не оглядываясь на торчащее поверх сугроба-бруствера чучело, быстро отполз в сторону.
Прислушался, потом резко, рывком, вскочил и длинными петляющими бросками побежал к разбитому автомобилю.
Несколько запоздалых выстрелов ударили вслед, но Чаплицкий был уже под укрытием машины и судорожно рванул на себя заклинившую дверцу.
Миллер, съежившись, лежал на полу машины. Чаплицкий потрогал его за плечо, дернул на себя – генерал зашевелился, поднял голову, судорожно выдохнул:
– Что?!
– Вылезайте, сгорите! – крикнул Чаплицкий, обхватил Миллера поперек корпуса, потянул из машины. Миллер суетливо задвигался, подался вперед, неловко перевалился через подножку.
Несколько метров проползли по-пластунски, а потом сзади загрохотал взрыв, яркое пламя взметнулось выше домов, их опалило горячим смрадным ветром – взорвался бензобак «роллс-ройса»…
Подкатил грузовик, с визгом тормознул, остановился, и из кузова ровно затрещали два «гочкиса». Личная охрана главнокомандующего – отделение из офицерского «батальона смерти» с черепами на рукавах – рассыпалась в цепь, но из проулка никто больше не стрелял.
Начальник конвоя прапорщик Севрюков крикнул Чаплицкому:
– Эт-та, оденьтесь, барин, застудитесь насмерть!
Чаплицкий криво усмехнулся, пошел к снежному брустверу. Остановившись рядом с ним, он с интересом посмотрел на свою шинель: прямо под правым погоном виднелось небольшое отверстие от пули.
Колупнул отверстие ногтем, пожал плечами, неторопливо надел сначала фуражку, потом шинель, аккуратно застегнул все пуговицы.
Тяжело вздохнул и вернулся к грузовику.
Миллер, невредимый, смертельно напуганный, срывающимся голосом командовал:
– Оцепите квартал, они никуда не могли уйти, там, впереди, – обрыв!
«Господи, какой же дурак!» – снова подумал Чаплицкий и сказал негромко:
– Ваше превосходительство, некогда их ловить… Штаб уже в порту… Ледокол ждет – мы еще до рассвета должны выйти из устья.
Миллер рассвирепел:
– Не давайте мне советов, господин Чаплицкий. Вы ведь руководите секретной службой? Поэтому займитесь своим делом – захватите террористов!
Чаплицкий поморщился:
– Разрешите доложить, ваше превосходительство: безграмотные мужики с обрезами называются бандитами… Или партизанами – как вам больше нравится…
– Не превращайте приказ в дискуссию, – закричал Миллер. – Исполняйте!
Чаплицкий взял под козырек:
– Слушаюсь, господин генерал-лейтенант. – И повернулся к начальнику конвоя: – Трех человек сопровождения господину главнокомандующему. Первый причал, ледокол «Минин». И сразу с грузовиком обратно – за нами…
К утру партизан вместе с Тюряпиным загнали в брошенную бревенчатую избу на откосе Двины. Их оставалось шестеро.
Разрозненной, но точной стрельбой они и близко не подпускали офицеров.
Севрюков пробормотал:
– Хорошо бы этих сволочей взять живьем.
– Зачем? – отозвался Чаплицкий. – Лучше погрейте их зажигательными…
Два пулемета располосовали серый сумрак очередями, из-под крыши начал стелиться грязный дымок, кое-где проглянули розоватые язычки пламени. Стреляли из дома одиночными, все реже и реже.
– Сейчас мы их вытурим оттуда, – пообещал Севрюков.
Чаплицкий внимательно смотрел на его освещенное заревом лицо – сумасшедшие белые глаза наркомана, длинные прокуренные зубы, подергивающийся уголок рта, – и его трясло от холода, усталости и тоски.
Глядя на залегших цепью карателей, он процедил со злобой и горечью:
– Российское офицерство, цвет нации!.. В Бога, святителей и всех архистратигов…
Чернели глубокими провалами выбитые окна, время от времени в них призрачно мелькал силуэт, и тогда раздавались выстрелы, одиночные, кашляющие – винтовочные, и частая густая дробь пулемета.
Огонь занялся пуще, языки пламени поднимались выше кровли, но никто не выбегал из избы.
Рухнул потолок, до неба взметнулись искры…
Севрюков заухмылялся:
– Все. Счас жарковьем потянет… Эть, суки! Им лучше в огне сгореть, чем нам в лапы…
Уже направляясь к грузовику, Чаплицкий на мгновение остановился и спросил:
– А вы, Севрюков, что бы на их месте?..
– Застрелился бы небось, – пьяно захохотал прапорщик. – Мне ведь от большевиков – да и от дворян иерусалимских – пощады ждать не приходится… – И добавил с каким-то мертвенным спокойствием: – Конечно, и я им пощады не давал. Никому… Так что на том свете сойдемся – посчитаемся…
Винтовочной стрельбы конвоя Тюряпин не боялся. А вот когда из подъехавшего грузовика избу стали поливать в два огненных хлыста пулеметы, понял Тюряпин, что пришел конец. И отступать было поздно, да и некуда – позади обрыв.
И конечно, хорошо бы еще хоть на полчасика задержать бегущих беляков – а вдруг наши поспеют обернуться!
Оглохший от грохота, со слезящимися глазами – дым все гуще заволакивал избу, – Тюряпин ровно, не спеша стрелял в черные, по-сорочьи скачущие на снегу фигурки конвоя и, когда захлебнулся, замолк ненадолго один из пулеметов, крякнул удовлетворенно.
И сразу же почувствовал острую режущую боль в щеке и сочащуюся за воротник горячую влагу.
«Убили!» – мелькнула всполошная мысль и сразу исчезла, потому что боль не проходила.
Тюряпин нащупал рукой и вытащил из щеки длинную гладкую щепку, отколотую пулей от бревна.
«Ничего, ничего», – бормотнул быстро и сердито, выглянул в окно-бойницу, но за спиной кто-то пронзительно-коротко вскрикнул, и углом глаза Тюряпин увидел, как завалился на середину избы мужик в собачьей дохе и посунулся к нему мальчонка Гервасий.
И, разряжая винтовку в торчащий из-за сугроба золотой офицерский погон, мутно поблескивавший во мгле, Тюряпин устало, равнодушно подумал, что так и не увидел, так и не попробовал мужик взаправду существующую ягоду чудесную, размером в обхват, – арбуз.
– Гервасий! Гервасий! Иди сюда, парень! – позвал он мальчишку и бросил ему свой подсумок. – Набивай-ка мне пока обоймы…
И сколько прошло времени, было ему неведомо, когда вдруг заросший черный мужик откинулся молча назад; во лбу у него виднелась маленькая дырочка аккуратная.
Потом страшно захрипел, забил ногами и смолк пропахший рыбой тихий помор из Лямцы.
И, схватившись за живот, сел на землю, харкнул кровью белобрысый здоровенный промысловик из Няндомы, отбросил в сторону винтовку и сказал отрешенно:
– Все! Мне кишки продырявило…
Завалилась прогоревшая крыша.
Тюряпин на ощупь, в кромешной мгле, в дыму и гари, отловил за плечо Гервасия, крикнул ему:
– Шабашим! Счас мы с тобой начнем наружу выходить, понял ты меня?
– Сдаваться? – спросил Гервасий.
– Нам с тобой сдавать нечего, – зло усмехнулся, блеснул в темноте зубами Тюряпин.
– А чего тогда?
– Слушай меня внимательно.
– Угу.
– Я выхожу в дверь первый. Ты считай до двадцати, опосля вылетай следом. И сразу направо, за угол. Сложись колобком и лети на заднице с обрыва. Даст бог, уцелеешь, не расшибешься…
– Подстрелят, кось, пока до обрыва-то добегу? – деловито поинтересовался Гервасий.
– Авось не поспеют… Делай, как говорю!
Тюряпин сдвинул на ремне за спину две гранаты и так же деловито добавил:
– Доберешься до наших, скажешь: так, мол, и так, погиб красный боец Константин Афанасьевич Тюряпин за будущую сладкую и вольную жизнь…
Отбросил ногой кол, подпиравший дверь, широко распахнул ее и вышел вон.
И задыхающийся от дыма и жары Гервасий видел в проем, как ровным шагом пошел Тюряпин, надев на винтовку шапку, и смолкли выстрелы.
Тюряпин, остановился, воткнул винтовку стволом в снег и стал вольно, сложив руки за спиной. Для полного шика только цигарки не хватало.
Поднялись в рост белые из-за сугробов и пошли к нему быстрым шагом, побежали. И Гервасий вынырнул в этот момент наружу.
Кто-то сипло крикнул:
– Вон еще один краснопузый вылез остудиться!
– Беги, беги, пацан! – громко заорал Тюряпин и бросил под ноги – между собою и подступившими почти вплотную белыми – две гранаты.
Ослепительный красно-синий шар вспух на этом месте, отбросил Гервасия к углу избы, вышиб дух.
Но в следующий миг он уже вскочил на ноги, промчался спасительные несколько метров и бросился, не глядя, в бездонный снежный провал…
«Может, это и есть конец света?» – подумал Миллер, когда машины въехали в порт. Тысячи людей обезумели. Ими владела одна страсть, одна всеобъемлющая цель гнала их по забитым причалам в узких выщербленных проходах между складами, пакгаузами, мастерскими – прорваться любой ценой на уходящие суда.
Испуганные, дико всхрапывающие лошади, рвущиеся из постромков, перевернутые телеги, еще дымящие полевые кухни, разбитые снарядные ящики, брошенные орудия, валяющееся, уже никому не нужное оружие, разграбленные контейнеры, потерявшие хозяев собаки, растоптанные кофры и чемоданы, толпа с узлами, общий гам и крик, перекошенные в сумасшедшем ужасе лица.
И все это освещено багровым пляшущим светом пылающих на другой стороне Двины складов, дровяных бирж, лесопильных заводов.
И как знак окончательной всеобщей потери рассудка – висящий на стропах подъемного крана рояль. Черный концертный рояль.
– Майна! – закричали снизу, и крановщик, то ли по неопытности, а может быть, нарочно, освободил стропы, и рояль рухнул наземь, прямо в толпу, взметнув в низкое страшное небо столб хруста, звона и звериного жуткого вопля сотен несчастных…
У трапа ледокола «Минин» выстроилась в каре офицерская рота с направленными на толпу штыками и расчехленным пулеметом.
– Нельзя!.. Нельзя!.. – хрипел сорвавший голос начальник охраны. – Никому нельзя, здесь только штаб!..
Женщина в белой медицинской косынке с красным крестом кричала:
– Хоть раненых заберите!.. И женщин… Что ж вы делаете, красные их всех перебьют!..
Женщину отпихнули, и сразу же унес ее куда-то в сторону поток других наседающих на цепь штыков людей в котелках, шубах, шинелях.
Миллер медленно, как тяжелобольной, прошел по трапу, тонко пружинившему под ногами, и услышал за спиной голос Марушевского:
– Поднимите трап над пристанью! Они сомнут оцепление и ворвутся сюда…
Палуба подрагивала от сдержанного усердия работавшей на холостых оборотах машины ледокола. В этом было что-то успокаивающее.
Капитан доложил десятиминутную готовность. Миллер устало кивнул и пошел вдоль юта, держась для уверенности за металлический леер. Он не мог оторвать взгляда от беснующейся, обреченно давящейся на пирсе толпы. Как же это случилось? Ведь еще недавно казалось, что до победы осталось совсем мало?..
Вернее сказать, полгода назад так совсем не казалось. Особенно когда союзники стали отзывать свои войска. Это была с их стороны первая ужасная, можно уверенно сказать – роковая, гадость. Это позорное малодушие западных людей, не привыкших к трудностям. Они привыкли взваливать на нас самое тяжелое.
Еще в прошлом сентябре они всячески уговаривали оставить Север и перебросить всю северную армию к Деникину, на юг России.
Но это же – с военной точки зрения – была совершеннейшая глупость!
И вообще, с какой стати ему было идти в подчинение к Деникину? Конечно, в отличие от тупого солдафона Юденича, можно считать Антона Ивановича вполне приличным человеком и даже военным неплохим. Но ни из чего не следует, что ему, генерального штаба генерал-лейтенанту Миллеру, интеллигенту, ученому, опытному стратегу, надо идти в подчинение к заурядному армейскому генералу только из-за слабодушия англичан, их неверности обязательствам и временных тактических просчетов на фронте.
И сколько он ни доказывал на срочно собранном совещании кадрового офицерства, что неразумно сворачивать северный театр военных действий только для пополнения деникинской армии, – большинство все равно настаивало на эвакуации.
И, не имея ни в ком поддержки и опоры, вынужден был Миллер согласиться на отвод войск и переброску их на юг.
Все это было глупость и гадость.
Двух недель не прошло, как убедились в его правоте. Тяжело раскатываясь поначалу, двинулся вскоре стремительными прорывами Деникин на Москву – корпусами Мамонтова и Шкуро. Вновь заполоскался трехцветный флаг уже в Орле.
И этот противный бульдог Юденич круто обложил Петроград, будто клешнями сдавил.
Дни считаные до штурма остались.
Всего ничего, четыре месяца назад! Приказал твердо, без колебаний, ни с кем уже не совещаясь, командующий Северным фронтом Миллер развернуть вспять эвакуационные колонны – удар на железнодорожном направлении, взять узловую станцию Плесецкую, захватить Онегу, очистить от красной заразы весь Шуньгский полуостров.
В канун Покрова вошли первые разъезды в пустынный Петрозаводск.
И откатились красные, попрятались партизаны по глухим скитам, скрылись в заброшенных медвежьих углах, таежных поселениях.
И хоть ясно было – сочтены дни Совдепии, конец ей приходит, со всех четырех сторон сжали, не встать ей, не вздохнуть, не охнуть, – грызла сердце тайная досада, горьким налетом на губы садилась: не ему быть нареченну спасителем святой Руси.
И себе признаваться не хотел, а сдержать в душе зависть, укротить черное злое чувство никак не мог. Антон Иванович Деникин, толстомясый, косноязычный, мужиковатый, освободит колыбель российского самодержавия, белокаменную Москву.
И бульдог Юденич займет столицу великой империи – Петроград.
И верховному правителю Колчаку и так карты в руки.
А ему, Миллеру, будут отведены третьи роли.
Сейчас и вспоминать о тех горестных маленьких мыслях неохота. Деникин отброшен на юг, да и отстранен от дел, по существу, там теперь заправляет Врангель.
Юденич прячется среди чухны.
А Колчак арестован и две недели назад расстрелян.
Расстрелян! Господи, твоя воля! Адмирал, верховный главнокомандующий! Когда-то Миллер не любил Колчака за английское высокомерие, спесь, любовь похвастаться своей славой путешественника, ученого и храброго военного. Но представить себе такое!..
Миллер поднялся на мостик, прислушался к нарастающему грохоту стрельбы у вокзала. Пронзительно завыл над головой снаряд, и сразу же недалеко от борта взметнулся султан воды и битого льда.
Оглушительно заголосила толпа на пристани, и из этого вопля отчетливо доносились слова:
– Красные!.. Кра-асные… В город входя-ят!.. В го-о-род!
Миллер повернулся к капитану, негромко скомандовал:
– Все. Отваливайте от причала.
Капитан смущенно прокашлялся:
– Господин Чаплицкий еще не прибыл, ваше высокопревосходительство…
Миллер аккуратно протер запотевшие стеклышки пенсне и строго сказал:
– Не превращайте временное отступление в бегство, милостивый государь. Господин Чаплицкий на своем посту. Отваливайте. И дайте в Мурманск радио, чтобы за арьергардом вышел миноносец «Юрасовский».
– На «Юрасовском» разбежалась почти вся команда. Остались одни офицеры, – мрачно доложил капитан. – Я ведь только вчера пришел из Мурманска…
– Молчать! – рявкнул командующий. – Прекратите сеять панику! Выполняйте приказ!
– Есть…
Капитан отошел к машинному телеграфу и со злостью рванул ручки: левой – малый назад, правой – малый вперед. Скомандовал:
– На баке! Отдать носовой! Руль – право, три четверти!..
Высокий нос ледокола стал медленно отползать от бревенчатого пирса. Гора коричневато-серой воды закипела под кормой, с шумом взлетела на пристань…
Грузовик замер у самой кромки причала, и офицеры, попрыгав из кузова, растерянно смотрели вслед выходящему на фарватер ледоколу.
Дым из труб ложился на битый лед, на воду в полыньях серыми мятыми кругами, стелился за кормой, и Чаплицкий болезненно-остро вспомнил дым из-под крыши избы и мелькающие тени в черных провалах окон.
«Все это ужасно глупо, – вяло думал он. – Сумасшедший дом. А может быть, ничего этого и вовсе нет? Может быть, я давным-давно заболел, сошел с ума и мне все это видится в болезненных грезах воспаленного сознания?»
Но в памяти все еще стоял острый запах горелого человеческого мяса, и Севрюков рядом говорил с недоумением:
– Эть, суки!.. Бросили ведь, ась?.. Эт-та ж надо?! Чего же делать теперь, ась?..
Чаплицкий вымученно усмехнулся:
– Испробовать милосердие большевичков. И дворян иерусалимских…
– Ну-у, эт-та уж хрена им в сумку! – заорал, выпучив глаза, Севрюков. – Пробиваться надо, вот что, к своим. Вы с нами, господин каперанг?
Чаплицкий покачал головой:
– Да нет уж, господин Севрюков. Ступайте… с Богом. А я как-нибудь сам попробую…
Командарм Самойло вдел ногу в стремя и неожиданно легко бросил в седло крепкое, плотно сбитое тело. И, сильно сжав коленями спину заходившего под ним бойкого каурого жеребца, вдруг почувствовал себя молодым и счастливым.
Париж стоил покаявшемуся королю мессы, а уж Архангельск наверняка стоил для боевого генерала прожитой и так круто измененной, сломанной, наново прочувствованной судьбы.
Самойло вспомнил – без какой-либо видимой связи, – что еще два года назад в Бресте, во время мирных переговоров с немцами, его бывший однокашник и сослуживец генерал Скалон долго и сосредоточенно наблюдал, как Самойло аккуратно спарывает маникюрными ножницами лампасы с форменных брюк, а потом затравленно спросил:
– И ты… вот так… сможешь выйти на люди?
– Конечно! – засмеялся Самойло. – В лампасах без брюк ходить неудобно. А в брюках без лампасов – ничего, вполне допустимо…
– Но ведь это позор! – крикнул Скалон.
– Позор для военного человека – не выполнять приказы, – серьезно сказал Самойло, – а новое правительство в приказном порядке отменило наши с тобой звания, погоны, ордена и лампасы. Теперь, наверное, знаков отличия по-другому надо добиваться…
– Это не правительство, это не власть! Это шайка бунтовщиков и демагогов!
– А кабинет Протопопова и Сухомлинова – это правительство? А наш отказавшийся от престола монарх и немытый конокрад Гришка – это власть?
– Боже мой, Боже мой! – схватился за голову Скалон. – Немцы сейчас оторвут от нас полстраны, остальное уничтожат большевики. Скажи, что нам делать? Что делать?!
– Служить.
– Кому?
– России. Отечеству. Мы с тобой солдаты, у нас одна работа – защищать родину.
– Нет, нет, не-ет! – затряс кулаками Скалон. – Не могу больше, это все, все! Конец, не могу так жить больше!..
Выбежал из комнаты, дробно простучал каблуками по коридору гостиницы, вошел в свой номер, не закрывая двери, достал из кобуры револьвер и выстрелил себе в висок…
Самойло посмотрел на тысячеголовое людское море, волнами катившее от станции под расчерченным красными пятнами знамен низким серым небом, и грустно усмехнулся: довольно странно выглядели бы сейчас лампасы на его толстых штанах нерпичьей кожи!
Эх, господи, сколько же в людях глупости, амбиций, предрассудков, которые для красоты и самооправдания называют традициями, убеждениями, представлениями. Долгом.
А долг-то перед Россией у них был один – вернуть ей Архангельск, северный порог большого дома Родины.
И низкий поклон судьбе, сердечное спасибо жизни, что довелось все это выстрадать, вынести, претерпеть. И победить.
Войти в этот старинный город, пинком вышвырнуть всю нечисть за дверь, которая столько веков соединяла Русь со всем остальным миром.
Войти с победоносной армией, которой ты бессменно командовал – от дня сегодняшнего счастья до тех уже незапамятно далеких дней поражений, отступлений, таких тяжелых потерь, почти полного разгрома, преодоленного в муках, боли и смерти и повернувшегося вчера окончательной победой.
Армия-победительница входила в Архангельск: от станции железной дороги катил поток по улицам города, маршировали, перебравшись через разломанный лед Маймаксы, батальоны от Новодвинска, и мягко ступали охотничьи отряды от Неноксы и Няндомы, шел Холмогорский дивизион, вразвалку топала матросская пулеметная команда, четко печатали шаг бойцы непобедимого Шенкурского полка.
Шли победители – в истертых шинелях, прожженных у костров, в порыжелых бушлатах, зипунах, заношенных азямах, изодранных тулупах, затерханных городских пальтишках. В валенках, чунях, подвязанных веревками сапогах, ботах-«котах» и вечных самонадежных лаптях.
Армия заканчивала свою огромную изнурительную войну. Армия шла по запущенному, занесенному сугробами Троицкому проспекту, мимо некогда богатой и нарядной Немецкой слободы, мимо полусожженного здания Думы, мимо кафедрального собора – одного из самых красивых и светлых соборов России.
Армия шла по берегу Северной Двины, мимо парадного памятника Петру Первому.
Царь-плотник, неутомимый устроитель земли своей, стоял, вглядываясь в недалекое Белое море, торжественный, в орденской ленте, при звезде, перчатка за поясом, в руке подзорная труба.
Самойло остановил лошадь около памятника, долго смотрел на Петра, потом с сомнением покачал головой: вряд ли видела архангельская земля своего неутомимого царя в таком наряде. Он всегда приезжал сюда в трудные времена, и всегда для тяжелой работы и для очень непростых решений.
Ах, какие сложные отношения были у Петра с этим замечательным русским городом – единственными в те времена воротами в мир!
Тугой петлей сдавили турки горло русской торговли на Босфоре – нет дороги на Черноморье.
Шведы намертво заступили все пути на запад с балтийских берегов.
Один морской тракт на широкие просторы Атлантики – из маленького поселения Архангельск, еще поморами освоенный: через Белое море, вокруг Скандинавии.
И ведь должен быть – наверняка существует! – проход к сонному Китаю и полуденной Индии через Студеный океан.
Потому повелевает царь купцу Баженину закладывать на Соломбале верфь для устроения больших кораблей. И самолично дарует сертификат на строительство морских судов торговым людям Бармину, Амосову и Пругавину.
И сам на стапеле орудует: не подзорная труба в руках, а рейсмус и топор. Да уж не в адмиральском мундире с лентой, при орденах, а в пропотевшей заскорузлой робе!
И маленький городок, единственный океанский порт поднимающейся к мировому соучастию Руси, обласканный царской любовью и милостью, окрыленный его имперской надеждой, гордый открывшимися видами безбрежных просторов, восстает к бурной деятельности. К своей завтрашней славе.
Как неукротимо растет морской форпост! В тот первый царский приезд посетили Архангельск сорок иностранных судов. А два десятилетия спустя архангельские лоцманы вывели за створы двести пятьдесят вымпелов! На миллионы золотых рублей поплыли во весь свет русские меха, строевой лес, лен, корабельные доски, хлеб, кудель, смола, сало…
Будто добрая работящая жена при рачительном заботливом муже, расцветала база российской торговли, крепко трудясь и сладко нежась в ласке и внимании своего великого государя.
И не чувствовала, не знала, что на топких, пустынных берегах реки Невы уже появилась новая, вечная, окончательная, на всю жизнь, привязанность Петра. Молодая столица Санкт-Петербург.
Не сильно рвались торговые люди менять уже ставший привычным путь из Архангельска в мир.
Мощь и слава новой столицы пока еще государю только мнятся, а сегодня покамест жить в новом городе и торговать оттуда затруднительно: сыро, тесно, хлопотно, да и профита делового нет – все равно скандинавские проливы перекрыты свейскими кораблями ратными, выхода с Балтики не имеется.
Царь манит, уговаривает, сулит, приказывает, повелевает и на хитрости купеческие обрушивает тяжелую десницу монаршей воли.
Да и обычного человеческого гнева: запретить впредь строить в Архангельске океанские корабли, а ввоз в город дозволяется лишь в пределах товаров, самому городу для потребления потребных!
И предписывает неукоснительно пробиваться из Архангельска на восток и на север.
На запад у нас есть другие ворота – славный град столичный Петербург…
Два века ушли, и снова молодая Россия смотрела на Архангельск, как некогда юный царь, с надеждой, любовью и верой.
Отвоеванный сегодняшней ночью город-порт был единственными воротами в мир.
Широкими веселыми шагами мерил командарм Самойло небольшую комнату аппаратной, звонким голосом, не заглядывая в бумажку, которая была у него в руках, диктовал телеграфисту:
РЕВВОЕНСОВЕТУ РЕСПУБЛИКИ.
ДВАДЦАТОГО ФЕВРАЛЯ ВОССТАНИЕ ОХВАТИЛО ВСЮ БЕЛУЮ АРМИЮ. В АРХАНГЕЛЬСКЕ УЖЕ ПРОИЗОШЕЛ ПЕРЕВОРОТ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ БЕЛЫХ ВОЙСК ГЕНЕРАЛ МИЛЛЕР БЕЖАЛ МОРЕМ НА ЛЕДОКОЛЕ, ВЛАСТЬ В ГОРОДЕ ПЕРЕШЛА В РУКИ РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.
ПЕРВЫЙ КРАСНЫЙ ЭШЕЛОН, ВСЮДУ ТОРЖЕСТВЕННО ВСТРЕЧАЕМЫЙ ВОССТАВШИМИ, ПОДЪЕХАЛ В ОДИН ЧАС ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ФЕВРАЛЯ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТОГО ГОДА К СТАНЦИИ АРХАНГЕЛЬСК.
МОРЕ ЛЮДСКИХ ГОЛОВ, ТУЧИ КРАСНЫХ ЗНАМЕН, ГРОМ ОРКЕСТРОВ И ЗВУКИ ПРИВЕТСТВЕННЫХ РЕЧЕЙ ВСТРЕТИЛИ ПЕРВЫХ КРАСНЫХ СОЛДАТ, ОСВОБОДИТЕЛЕЙ СЕВЕРА ОТ АНТАНТСКОГО И БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ИГА.
НЕИМОВЕРНЫЕ ТЯГОТЫ ВОЙНЫ НА СУРОВОМ СЕВЕРЕ БЫЛИ ПОЗАДИ, СЕВЕР БЫЛ ЗАВОЕВАН ДЛЯ МИРНОЙ ЖИЗНИ, И АРХАНГЕЛЬСК, БАЗА АНГЛИЙСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ, СДЕЛАЛСЯ НАВЕКИ КРАСНЫМ ГОРОДОМ.
ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ ПОЛКИ, ПОСЛЕ РЯДА УПОРНЫХ БОЕВ И ГРОМАДНЫХ ПОТЕРЬ, ПОСЛЕ НЕВЕРОЯТНЫХ ИСПЫТАНИЙ В БОЛОТАХ И ЛЕСАХ СУРОВОГО СЕВЕРА, ПОТЕРЯВ В БОЯХ ЛУЧШИХ ТОВАРИЩЕЙ, ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ФЕВРАЛЯ ДОБИЛИСЬ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ И ТОРЖЕСТВА КРАСНОЙ ПЯТИУГОЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ЗВЕЗДЫ НАД БЕЛОГВАРДЕЙСКИМ ОРЛОМ СЕВЕРА…
Паровоз тонко, пронзительно-обессиленно засвистел, пустил вялые усы пара по сторонам и окончательно стал.
Казалось, нет больше в мире сил, способных стронуть его с места у платформы Николаевского вокзала. Двое суток, исходя от натуги, он тянул разболтанный, изношенный, дребезжащий эшелон из Петрограда в Москву, останавливаясь через каждые полсотни верст, и тогда все пассажиры выходили из вагонов и рубили дрова для прожорливой топки слабосильной, сипящей от усердия и старости «овечки».
Холод, вонь, толчея в вагонах не дали Шестакову сомкнуть глаз. И еще он боялся, что у него украдут посылку. Своих вещей у него не было, но, как большинство нынешних пассажиров, битком набивших чуть живые поезда бесконечных железных дорог, он вез посылку.
Разбросанные по всей России люди из своих жалких возможностей немыслимыми усилиями наскребали что-нибудь съестное и слали с оказией друг другу посылки. Это называлось «живой привет».
Узнав, что Шестакова вызывают в Москву, Васька Преображенский – старый товарищ по Данцигскому набегу, отчаянный моряк, верный друг, – стесняясь, шутливо извиняясь, всучил ему таки посылку для матери: мешочек, а в нем бутылка хлопкового масла, три вяленых трески и десять фунтов овса. Овес, сказал Васька, ежели его смолоть на ручной кофейной мельнице и блины испечь – пальчики оближешь!
Еще не облизанными пальчиками Шестаков всю дорогу держал мешок, тихо чертыхаясь на Ваську: оставить вещи нельзя было ни на минуту, иначе маме Преображенской уже никогда бы не пришлось облизывать пальчики после сыновних блинов. Поезда кишели ворами, как вшами.
Уже вечерело, когда Шестаков вышел на привокзальную площадь. Воспаленный багровый круг солнца, полыхнув на золоченом шпиле Казанского вокзала, провалился в клубящиеся облака. Крепко закручивал мороз.
Блеклое небо было выжжено стужей, лениво расчерчено серыми мазками облаков, постепенно наливавшихся сиреневыми, потом фиолетовыми тонами.
Шестаков торопливо шел в сторону Домниковки, почти бежал, но вечер неспешно и властно настигал его.
Белесый холодный пар полз по крышам, а небо наливалось густотой тьмы, все сильнее собиравшейся к зениту.
Мать Преображенского жила в районе Сухаревки, недалеко от Сретенки. Васька так и объяснял: «Это ж тебе просто по пути, ее дом почти что на полдороге между вокзалом и „Метрополем“, где сейчас Второй Дом Советов, а транспорт в Москве все равно никакой не действует».
В этом Васька оказался прав: транспорта не было никакого. Безлюдье, холодно и пусто. Лишь под вывеской «Товарищество Эмиль Циндель» длинная очередь за хлебом – сегодня обещали выдать по полфунта на работающего.
Шестаков отвлекал себя от голода и усталости размышлениями о причине срочного вызова в Москву.
Вообще-то говоря, он был уверен, что его направят на юг, там сейчас будут решаться военные судьбы Республики. С падением белого Архангельска наступила наконец передышка в не прекращающейся вот уже два года Гражданской войне.
Но в Крыму засел Врангель, и с юго-запада нависают дивизии белополяков. Хотя поляки до весны вряд ли полезут. А наступать на Врангеля, имея обнаженный западный фланг, просто немыслимо.
Наверняка Шестакова бросят сейчас в Таврию: еще в этом году схватимся с врангелевцами на крымском перешейке!
Но почему его вызвали к Красину? Красин военными делами не занимается, он хозяйственник. Правда, сейчас партия дала установку, что бескровный фронт – хозяйственный фронт – и есть главная линия сражения.
Вон через весь фасад магазина Бландова вывешен плакат:
ТРИ ВРАГА БЫЛИ: КОЛЧАК, ДЕНИКИН, ЮДЕНИЧ.
ТРИ ВРАГА ОСТАЛИСЬ: ГОЛОД, ХОЛОД, ТИФ.
ТЕХ ПОБЕДИЛ КРАСНЫЙ ШТЫК.
ЭТИХ ПОБЕДИТ КРАСНЫЙ ТРУД.
«Но ко мне-то какое это имеет отношение? Я ведь солдат, – думал Шестаков. – Ладно, надо быстрее разыскать старушку Преображенскую, передать „живой привет“ и торопиться к Красину. Через пару часов будет все известно».
Мела поземка, сырой промозглый ветерок забирался под полы шинели, за воротник, вызывая тоскливый озноб во всем теле. Нет, не радовала заледенелая февральская Москва тысяча девятьсот двадцатого года, хотя полинявшие рекламы на крышах и торцах домов еще гремели, уговаривая пить коньяк Сараджева, курить папиросы из гильз Катук, предлагали подсластить жизнь конфетами Жоржа Бормана, делать вклады в «Соединенный банкъ».
А над фронтоном Большого театра вьюга трепала красное полотнище: «БОРЬБА ЗА ХЛЕБ – БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИЗМ!»
Шестаков грустно покачал головой, вспомнив нескончаемые безнадежные очереди у булочных, на дверях которых белели сообщения Московской чрезвычайной комиссии о расстрелах хлебных спекулянтов.
Хлеба не было.
И другого продовольствия не было, и топлива не хватало, заводы и фабрики стояли.
Шестаков взглянул на часы, вздохнул: до назначенной ему встречи оставалось еще полтора часа. Он поднялся по Мясницкой, бульваром дошел до Сретенки, направляясь к знаменитой Сухаревке, где жила мать Васьки Преображенского. Посылку надо было передать в первую очередь.
В Печатниковом переулке, узеньком, худо освещенном, навстречу ему шагнула от парадного нарядно одетая женщина.
В слабом отсвете фонаря Шестаков разглядел грубо раскрашенное, хотя и красивое лицо.
Женщина игриво сказала:
– Капитан, не угостите ли даму папироской?
Шестаков кивнул, достал из кармана портсигар, раскрыл его, с холодноватой любезностью протянул женщине. Не без интереса всмотрелся в нее.
Женщина призывно улыбнулась ярко-красными капризными губами и потянула портсигар к себе, легко кивнув в сторону дома:
– Вы не спешите, капитан? Маленькая уютная берлога. И тепло…
Шестаков вежливо улыбнулся в ответ, пожал плечами, отрицательно покачал головой. Он не заметил, как из подворотни появились двое угрюмого вида парней, подошли к нему сзади.
Один дернул его за руку, сказал грубо:
– Ты чего пристаешь?..
Шестаков обернулся и увидел мгновенный отблеск света на лезвии финки в руке другого – низкорослого, с темным и хмурым лицом.
Первый подтолкнул Шестакова плечом в сторону подворотни.
Шестаков уперся и, быстро взглянув на женщину, сказал укоризненно:
– Эх вы-ы… Ай-яй-яй!.. – и, неожиданно вырвав из ее рук тяжелый портсигар, ударил им по голове того, что держал нож. Тот пошатнулся, но второй грабитель в ту же секунду прямо из кармана выстрелил в Шестакова. Шестаков успел нанести ему сокрушительный ответный удар ногой, но не удержался и упал.
Бог весть чем бы кончилось это обычное по тем временам происшествие, если бы из парадного напротив не появился дюжий дворник в белом фартуке. Выпучив глаза, он изо всех сил принялся свистеть в полицейский свисток, и грабители вместе с женщиной побежали в сторону Трубной.
Шестаков с недоумением посмотрел на кровь, показавшуюся на его рукаве, махнул рукой дворнику и вскочил на ноги. От Сретенки послышался гулкий топот бегущего к месту происшествия милиционера, который быстро сообразил, в чем дело, и они втроем бросились за налетчиками, но их и след простыл: деревянные заборы, разделявшие когда-то дома и дворы Печатникова, давным-давно пошли на дрова, и скрыться в лабиринте маленьких домишек старого переулка было пустяковым делом.
Пуля, к счастью, только царапнула руку Шестакова, и, наскоро перевязав ее в ближайшей аптеке на Сретенке, он успел на Театральную площадь – на аудиенцию к наркому Республики Леониду Борисовичу Красину.
«Живой привет» – будущие овсяные блины, от которых все пальчики оближешь, – Шестаков стыдливо припрятал под шинелью на вешалке в приемной наркома.
Леонид Борисович стоял у окна в своей излюбленной позе – руки за спиной, плечи чуть нахохлены – и смотрел на Театральную площадь. Прямо перед ним, через весь торец здания Малого театра, алел огромный лозунг:
«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ НА РАЗГРОМ ВРАГА!»
Нарком ужинал. Он смотрел в окно и ел краюху черного сыроватого хлеба, круто посыпанную солью. На столе дымилась паром большая фарфоровая чашка с чаем.
С утра ничего не ел, а вообще-то есть и не хотелось. Сил нет. Устал. Гудит тяжело в затылке и противно теснит в груди, тонко жжет за грудиной.
И даже вчерашняя огромная победа на Совнаркоме не радовала – сегодня уже занимали и беспокоили новые проблемы…
А вчера Совет народных комиссаров окончательно принял представленные им, Красиным, тезисы по внешней торговле. Четыре раза за последние три недели собирался по этому вопросу Совнарком, и только при поддержке Ленина удалось утвердить резолюцию об основных принципах монопольной внешней торговли молодой Советской Республики.
А в перерывах между заседаниями Совнаркома – государственный визит в буржуазную Эстонию, мучительно-напряженные переговоры и вырванный у них мирный договор, договор гарантированный, надежный, без лазеек для обмана и вероломства.
И непрерывный поток документов и посетителей.
Член Реввоенсовета Республики. Народный комиссар путей сообщения. Народный комиссар внешней торговли. Нарком торговли и промышленности. Председатель Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии. Член Совета обороны.
Бесконечный список дел.
Переговоры с немцами…
Хлеб в Поволжье…
Выяснить вопрос о посылке делегации в Финляндию…
Хлеб с Украины…
Наказать военных, самоуправничающих на оружейном заводе в Ижевске…
Хлеб.
Сколько можно подготовить в текущем месяце автомобилей для нужд армии?..
Хлеб.
Вопрос о броневиках…
Нерабочий паек – сто тридцать три грамма хлеба.
Затребовать сведения о выпуске винтовок…
В Москве непригодна для жилья половина квартир…
Продовольственный фонд на исходе…
Запас муки в столице – на семь дней.
Из подвижного трамвайного состава действующих сорок шесть вагонов…
Хлеб… Хлеб… Хлеб.
Что делать? Как накормить миллионы голодных ртов? Ведь им ждать некогда!
Антанта трещит. Месяц назад верховный совет Антанты с зубовным скрежетом и сердечными стенаниями вынужден был под нажимом своего пролетариата и собственных экономических обстоятельств согласиться на торговлю с Россией.
Конечно, не с Советским правительством, а с кооперативными учреждениями, но это все равно прорыв в непроходимой ранее стене блокады, торгового ошейника, которым хотели задушить Республику.
Ничего, ничего, мы еще посмотрим. Мы еще с вами, господа, повозимся всерьез!
Секретарь приоткрыл дверь:
– Леонид Борисович, к вам Шестаков.
Красин промокнул салфеткой губы, кивнул:
– Просите! Жду с нетерпением…
И пока Шестаков еще не вошел, аккуратно завернул остаток хлеба в чистый лист бумаги, спрятал в стол.
Дверь снова открылась – в кабинет вошел высокий военмор, левую руку он осторожно нес на перевязи.
Красин шагнул ему навстречу:
– Здравствуйте, Николай Павлович! Рад с вами познакомиться! О вас очень хорошо отзывались Дыбенко и Кедров.
Шестаков сдержанно улыбнулся:
– Спасибо…
Красин приветливо дотронулся до его плеча:
– Они, собственно, и были инициаторами нашей встречи. А что с вашей рукой?
Шестаков улыбнулся:
– Да ничего серьезного. Пустяковая царапина, через пару дней заживет.
– Ну, прекрасно. Потому что Кедров рекомендовал вас руководителем одного очень ответственного дела, которое тут у нас затевается… – Красин принялся листать лежавшую у него на столе докладную записку.
Шестаков осмотрелся. Кабинет, он же личная квартира члена Реввоенсовета Республики, народного комиссара внешней торговли и путей сообщения, был невелик: двухкомнатный номер Второго Дома Советов – бывшей гостиницы «Метрополь». Увешанные картами стены, длинные столы с теми же картами и папками бумаг, худосочные венские стулья, протертый диван. Через открытую дверь во вторую комнатку была видна железная койка, застеленная солдатским одеялом.
– Я представлял вас гораздо старше, – сказал Красин, отрываясь от записки.
Шестаков ответил очень серьезно:
– К сожалению, этот мой недостаток обязательно пройдет, Леонид Борисович.
– Вам лет двадцать пять?
– Двадцать шесть.
– Ах, дорогой Николай Павлович, как я вам завидую! – сказал Красин искренне, и мягкие бархатные глаза его увлажнились. – Я вас почти вдвое старше, мы ведь ровесники с Владимиром Ильичом…
Шестаков покачал головой:
– Вам грех жаловаться, Леонид Борисович, вы, как говорится, в возрасте «акме».
Красин рассмеялся:
– Возраст расцвета? Вообще-то, конечно. И я не жалуюсь, просто хочется успеть побольше – и повоевать, и поработать, и поторговать. А если совсем честно – пожить хорошо ух как охота! Но, увы, пока недосуг…
Красин жестом пригласил Шестакова сесть около стола, вернулся на свое место.
– Чаю хотите?
– С удовольствием, – просто согласился Шестаков. – Замерз основательно по дороге к вам.
Секретарь принес Шестакову большую чашку с горячим чаем. Моряк с видимым удовольствием охватил ее рукой, стал греть ладонь.
Красин прихлебнул из своей чашки, отставил ее в сторону:
– А теперь, Николай Павлович, я бы попросил вас рассказать о себе, хотя бы в нескольких словах.
– Попробую, – сказал Шестаков и, не удержавшись от искушения, сделал несколько маленьких торопливых глотков. Чай был крепкий, настоящий. – Я из Сибири, отец мой – рабочий. Грамоту он узнал самоуком, но меня отправил учиться в Томск. Окончил училище с медалью…
– Вы там и познакомились со ссыльными социал-демократами? – осведомился Красин.
– Да. Именно с их явками и связями я прибыл в Петербург. Поступил в Технологический, работал по заданию комитета со студентами и рабочими.
– В партию уже в Петербурге вступили?
– В тринадцатом году. А летом четырнадцатого комитет решил меня направить на фронт – для ведения работы среди моряков.
– Вольноопределяющимся?
– Почти. Мне ведь пришлось уйти со второго курса. Вот я и поступил в юнкера флота.
– И как служилось?
Шестаков улыбнулся:
– Карьера у меня получилась стремительная. В тысяча девятьсот пятнадцатом году произвели в мичманы, служить направили в минную дивизию. В шестнадцатом за набег на Данциг наградили орденом Станислава, а за бой на дредноуте «Слава» – я там был уже лейтенантом – пожалован Владимиром.
Красин заглянул в записку, лежавшую на столе, спросил:
– Вы ведь службу закончили – я имею в виду под Андреевским флагом – старшим лейтенантом?
Шестаков подтвердил:
– Так точно, сведения у вас верные. Но произвели меня уже в январе семнадцатого, вместе с назначением командиром минного дивизиона… А в октябре по приказу Центробалта привел свой дивизион в Петроград. Участвовал со своими орлами в штурме Зимнего.
Красин допил чай, поднялся, сказал весело:
– Ну а в составе Красного флота – ледовый поход из Гельсингфорса в Кронштадт, потом – сухопутная война, орден Красного Знамени и Почетное революционное оружие. Прекрасно, Николай Павлович. Именно вы мне и нужны!
Шестаков тоже встал:
– Слушаю, товарищ Красин.
– Вы – старый партиец, опытный моряк и военный человек. Для успеха вам необходимо именно такое сочетание достоинств. Поскольку я собираюсь поручить вам задачу, до сих пор считавшуюся невыполнимой.
– Я готов.
– Другого ответа и не ждал. Владимир Ильич Ленин поручил мне подготовить решение проблемы сибирского хлеба. Вы знакомы с этим вопросом?
– Очень общо.
Красин подвел Шестакова к географической карте Полярного бассейна, просторно развернувшейся от одного края стены до другого.
– Вот, взгляните, Николай Павлович, – устья Оби и Енисея. Здесь на сегодняшний день скопилось свыше миллиона пудов сибирского хлеба, большое количество соленого мяса, рыбы и других продуктов. А Республика умирает с голоду…
– Мне говорили, что в России сейчас стоят без движения двадцать пять или двадцать шесть железных дорог? – нерешительно перебил Шестаков.
– К сожалению, не двадцать пять, а все тридцать, – хмуро ответил Красин. – А на тех, что кое-как работают, в ходу не больше одной трети паровозов. Топлива нет, пути разрушены, мосты взорваны…
Он кивнул на карту железных дорог, поморщился:
– Тем не менее хлеб и остальные продукты с Оби и Енисея мы должны доставить в Россию.
– Значит, через Ледовитый океан?
Красин ответил не сразу. Он подошел к окну, долго рассматривал на Малом театре лозунг «Всё для фронта! Все на разгром врага!», потом сказал твердо:
– Да, через Северный Ледовитый океан. Это поручение Владимира Ильича Ленина. Когда он выступал на сессии ВЦИКа, он заявил прямо: «На этой задаче нам надо сосредоточить все силы!»
Шестаков походил около карты Полярного бассейна, остановился, всматриваясь в голубые ленточки рек, в белесые пустынные просторы Ледовитого океана, в редкие кружочки населенных пунктов. Задумчиво произнес:
– М-да-те-с… Конечно, это было бы прекрасно… Но, к сожалению, боюсь, что нереально. Места-то – ох какие трудные! Гидрографических описаний почти нет, лоцмана – из поморов – разбежались.
– Надо собрать тех, что уцелели.
– Конечно. Но я слышал, этот хлебушек пытались вывезти англичане. Да обожглись: посадили несколько транспортов на мели, два или три парохода не успели обернуться – во льды матерые вмерзли. Тем дело и кончилось.
– Все знаю, Николай Павлович. Больше того, знаю, что нет подходящего флота – его весь украли интервенты и белые. Нет угля и мазута, нет обученных экипажей…
– Знающих капитанов тоже нет, – подключился к этому безрадостному перечислению Шестаков. – Просто не знаю, как быть, Леонид Борисович.
– Наверное, надо осознать, что это вопрос жизни и смерти. Известно, что эта задача до сих пор считалась невыполнимой. Но… успешно провести караван по-настоящему необходимо! – Красин интригующе воздел палец. – Это ведь не только важнейшая акция Советского правительства в области человеколюбия и экономики…
Шестаков удивленно посмотрел на него:
– А что же еще?
– Политика! Владимир Ильич надеется превратить экспедицию в серьезный политический таран против блокады.
– Политический? А каким образом?
Красин оживленно забегал по кабинету.
– Очень просто. Часть сибирского хлеба, а главным образом лес, смолу, меха, замшу, лен, мы выбросим на европейский рынок, чтобы купить машины, оборудование, мануфактуру и все такое прочее. Вот это, вместе взятое, и будет политической акцией.
Шестаков все не мог уразуметь идею.
– Как же так, Леонид Борисович? Ведь капиталисты отказываются торговать с нами?
Красин терпеливо разъяснил:
– Не капиталисты, а капиталистические правительства! Это разные вещи. Капиталистические правительства отказываются торговать с Советским правительством. Но масса отдельных капиталистов ну просто мечтает торговать с нами. Им все равно с кем, лишь бы профит был! И я придумал для них лазейку против их собственных законов и государственных установлений: они будут торговать не с Советским правительством, не с государством Советским, а с коммерческими учреждениями.
– Посредническая торговля! – догадался наконец Шестаков.
– Совершенно верно! И первым советским торговцем буду я. А вы должны обеспечить меня товарами. Через неделю я уезжаю в Европу, буду в Стокгольме, Копенгагене, Лондоне. Надеюсь, что тамошние промышленники и торгаши охотно забудут, что я народный комиссар и член Центрального комитета партии. Для них я – коммерческий представитель Центросоюза, в этом качестве они и будут меня принимать… надеюсь…
– Я вас понял, Леонид Борисович, – горячо сказал Шестаков. – Постараюсь сделать все от меня зависящее.
– И не зависящее тоже, дорогой мой Николай Павлович, – засмеялся Красин. – Иначе – помрем с голоду. Нам надо прокормить население и при этом любой ценой прорваться на мировой рынок. Вот у меня справка, взгляните…
Красин быстро подошел к столу, показал Шестакову бумагу.
– В прошлом году, в марте, в Мурманск прибыл английский пароход с товарами первой необходимости для населения на сумму миллион восемьсот пятьдесят тысяч рублей. Как вы думаете, за сколько эти товары распродали?
– Н-не знаю, – пожал плечами Шестаков.
– За три с половиной миллиона! – воскликнул Красин. – Сколько же еще мы будем давать себя грабить?
Шестаков согласно кивнул:
– Англичане – известные торгаши, с кого хочешь шкуру спустят и еще будут своими благодеяниями хвастать.
Красин спросил:
– Вы ведь командарма Самойло знаете?
– Ну как же! Я под его командованием служил.
– Так вот, он прислал мне сводку из Архангельска: интервенты захватили силой на пятьдесят миллионов рублей золотом народного добра – леса, льна, пеньки, сала, рыбы, мехов…
– Они же твердили, что только торгуют с Северным правительством!
– Черта с два! Особая статья – в порядке «торговли» с генералом Миллером они вывезли товаров еще на сто миллионов рублей. Вы только вдумайтесь в эту цифру: сто миллионов рублей золотом! – Глаза Красина разгорелись, он неистово жестикулировал, быстро расхаживая от стола к окну и обратно. – Хватит, пограбили! Нам самим надо прорываться на мировой рынок. А это, в первую очередь, зависит от успеха вашей экспедиции, Николай Павлович…
Красин подошел к Шестакову, обнял его.
– Ну и конечно, это хлеб сотням тысяч голодающих. Это нужные позарез нашему хозяйству машины, инструменты, потребительские товары. Если вы проведете в этом году караван, мы сделаем экспедиции в Карское море ежегодными! Северный морской путь, освоенный нами, должен стать рабочей дорогой Республики…
Шестаков вытянулся:
– Леонид Борисович, я готов хоть сегодня приступить к выполнению задания.
– Доброго вам пути, Николай Павлович. Из Стокгольма и Лондона я буду непрерывно держать с вами связь через Москву. Без вашего успеха наша миссия обречена.
– Мы привезем хлеб, чего бы это ни стоило, – твердо сказал Шестаков.
– Я понимаю, чего это может стоить. Жизни. – Красин нахмурился, развел руками: – Но у нас нет выхода. Давайте обнимемся на прощание.
Красин осторожно, чтобы не задеть раненую руку Шестакова, обхватил его за плечи, проводил к выходу, сказал задумчиво:
– А вы знаете, Николай Павлович, вот как бы ни было трудно, порою просто жутко, а все равно – в каждый миг, каждую минуту меня не покидает ощущение строительства истории…
Отрешенная неподвижность Неустроева мгновенно взрывалась вспышками яростной увлеченности, и тогда он начинал говорить – бурно, путано-длинно и все-таки прекрасно:
– Безжизненность Полярного бассейна – вздор! Трусливый вздор бескрылых людей! Жизнеспособности аборигенов мы можем только завидовать! Тысячелетия назад они вышли из недр Азии и расселились через далекий Север на Американском континенте. Для них остались неоткрытыми колесо и порох, и только банды Кортеса связали их снова с цивилизацией. Насилием! Болезнями! Спиртом!..
Шестаков сидел молча, курил махорку, слушал с интересом, иногда посмеиваясь про себя. Потом, чтобы подзадорить Неустроева, спросил:
– Может быть, в те времена иное было невозможно?
– Как невозможно?! – закричал, захлебнувшись возмущением, Неустроев. – Я заявляю вам твердо – а существо вопроса мне хорошо известно: пионеры российского открывательства, мореплаватели и купцы, никогда не осквернили памяти о себе теми злодеяниями, что совершались под эгидой католического креста!
– И купцы? – серьезно осведомился Шестаков.
– И купцы! Российско-американская компания, конечно, имела в первую очередь коммерческие цели, но и Шелихов, и Баранов строили на западном побережье Америки фактории, школы и больницы. А конкистадорские банды, катившие с восточного побережья, уничтожали все живое на своем пути – народы, государства, целые цивилизации…
– У России был совсем иной путь, совсем иные задачи, – заметил Шестаков.
– Вот именно! Они были исторически иные, и я часто с мукою думаю, что сыны российские, взявшие на себя нечеловечески страшный труд освоения самых недоступных участков Земли – Арктики, Камчатки, Сибири, Алеутов, открытие Антарктиды, – все равно не пользовались должным престижем среди мореплавателей мира.
– А почему?
– Потому что, за исключением Петра, в нашей державе были очень серые государи, которые казенным бюрократам верили всегда больше, чем людям, бившимся за идею, а не за свою корысть…
Неустроев горько помотал головой и тихо добавил:
– Неверие и пренебрежение к своим талантам, как ржа, разъели российское общество. Возьмите хотя бы Литке. Ведь выдающийся был адмирал и мореход, по-настоящему образованный человек, а всего лишь полвека назад сказал, и заверил, и предписал: «У нас, у русских, еще нет такого моряка, который решился бы плыть морем в устье Енисея…»
– Может быть, поэтому мировая слава принадлежит конкистадорам и торговцам пряностями, а не Чирикову и Челюскину?
– И поэтому тоже… Да не в славе дело. Славу создавал блеск небывалого количества золота, хлынувшего в Европу, а не великие географические открытия.
Шестаков усмехнулся:
– Между прочим, мало кто знает, что испанское и португальское золото, награбленное во всем мире, не сделало эти страны ни богатыми, ни счастливыми. За следующие сто лет они пришли в полнейший экономический упадок…
– Не-ет, грабежом не проживешь, грабеж державу не богатит, – покачал головой Неустроев. – Богатство стране создают просветительство, труд, поиск новых путей, торговля.
Шестаков показал на большую фотографию Норденшельда с дарственной надписью Неустроеву:
– Вот он, когда впервые прошел Северным морским путем, не думал о грабеже, а думал о благе…
– Безусловно! Ошибка только в том, что по нашей российской беспамятности первопроходцем на Северном пути считают Эрика…
– Разве это не так?
Неустроев сказал сухо:
– Сейчас уже научно можно доказать, что поморы и казаки это делали еще в семнадцатом веке.
И тут же снова вспыхнул, загорелся, чуть ли не бегом промчался вдоль огромной карты Полярного бассейна, сердито ткнул в него сухой рукой:
– Вот, смотрите, весь этот гигантский труд совершили наши с вами земляки. Первыми, дошедшими до Тихого океана, были устюжане – Дежнев, Москвитин, Поярков, холмогорец Попов. У них была историческая необходимость для такого подвига. Ощущение, так сказать, великой миссии России на северном океане.
– Вы имеете в виду разведку и освоение самых труднодоступных мест?
– Конечно! Им были суждены не тропические кущи Америки, а вечная стылость Арктики, Чукотки, Камчатки, Аляски.
– Да-a, другого пути в мир не было, – задумчиво сказал Шестаков.
– Вот именно! Татары веками перекрывали путь к теплым морям, шведы и немцы – к Балтике. И шли они со своей землицы неродящей в огромный и бушующий мир через Ледовитый океан…
– Но ведь это было очень давно, – возразил Шестаков. – Сейчас, благодаря техническому прогрессу, существуют все возможности для реального освоения Заполярья, так что…
– Сам по себе технический прогресс для настоящего освоения Севера – ноль. Нужна возвышенная нравственная идея! – горячо перебил его Неустроев. – Такая идея вела братьев Лаптевых, Челюскина, Беринга…
– А как бы вы сами, Константин Петрович, сформулировали эту идею? – спросил Шестаков.
Неустроев испепеляюще полыхнул голубыми неистовыми глазами:
– Люди сильные должны раздать неслыханные богатства Севера людям слабым!
Шестаков смотрел на тщедушного, впалогрудого профессора, не скрывая любопытства.
– Давайте, Константин Петрович, попробуем вместе! – вдруг предложил он гидрологу.
Неустроев усмехнулся:
– Со мной?.. Пожалуйста! Но остальных людей экспедиции вы погубите.
– He-а, – упрямо покачал головой Шестаков. – Мне нужен отряд сильных, знающих людей. С ними мы привезем голодающим самое главное богатство – хлеб…
– У нас нет судов, нет обученных экипажей, нет топлива! – снова взорвался Неустроев. – Не забывайте, что территория, прилегающая к Северному морскому пути, – это гигантский и довольно пустынный район протяженностью – ни много ни мало – семь тысяч километров! Если экспедиция не обернется за одну навигацию – все погибнут!
– Дорогой Константин Петрович, мы не можем не обернуться за одну навигацию. Иначе здесь погибнут десятки тысяч людей…
Неустроев грустно улыбнулся:
– Но ваше желание спасти их не может быть сильнее Арктики. Вы плавали в Полярном бассейне?
– Нет.
– В том-то и дело. Это самая неукротимая стихия на Земле. И она сломила многих энтузиастов.
Шестаков пожал плечами:
– Я не плавал в Полярном бассейне, но я брал Шенкурск. В сорокаградусный мороз, по снегу голодные люди волокли на себе пушки. И стихия не могла их сломить. И нас Арктика не сломает. С вами или без вас, но осенью хлеб будет в Архангельске…
– На чем же вы строите свою уверенность?
Шестаков расстегнул карман френча, достал сложенный вчетверо лист бумаги:
– Это телеграмма в Наркомпрод из Архангельского губернского исполкома. «Положение губернии отчаянное. Пять уездов абсолютно голодают. Запасы исчерпаны. Отступающие белогвадейцы вывезли остатки продовольствия. Неввоз хлеба Мурманск, Печору, Мезень грозит смертью…»
Неустроев взял в руки телеграмму, перечитал ее, грустно покачал головой.
Шестаков горячо продолжал:
– Мой долг моряка и большевика предписывает мне спасти голодающих или… погибнуть вместе с ними.
Неустроев развел руками, немного растерянно спросил:
– Чем я могу быть полезен?
Шестаков удивился:
– Как чем? Вы один из старейших арктических капитанов, у вас богатейший опыт ледового плавания. Вы ведь служили еще на «Ермаке»?
Неустроев кивнул:
– Да, я имел честь быть старшим офицером на судне, когда им командовал Степан Осипович Макаров.
Шестаков заметил льстиво:
– Вы прекрасный гидролог, Константин Петрович! Я знаю, что еще в Морском корпусе гардемарины учились по вашим учебникам…
– Не надо слов, – махнул рукой Неустроев. – У меня вопросов больше нет.
Послышались легкие шаги, и в кабинет вошла высокая молодая женщина в темном платье с белым воротничком. Она сдержанно поклонилась Шестакову.
Неустроев представил:
– Познакомьтесь, пожалуйста, Николай Павлович, с моей дочерью Еленой. – Он повернулся к дочери и с неуверенной извиняющейся улыбкой добавил: – Леночка, это комиссар Шестаков. Мы…
– Прости, папа, вы так громко… Короче – я в столовой слышала весь ваш разговор. Когда мы едем?
Шестаков внимательно посмотрел на нее: сильная гибкая фигура, твердые серые глаза. И вежливо ответил:
– Елена Константиновна, мы с вашим отцом отправляемся в Архангельск сегодня ночью.
Непринужденно прислонясь спиной к резному мореного дуба книжному шкафу, Елена спросила:
– Мы едем только втроем? – «Мы» прозвучало недвусмысленно.
Еще вежливее Шестаков пояснил:
– Мы едем втроем: ваш отец, мой помощник Иван Соколков и я.
Серые удлиненные глаза Елены влажно заблестели, и Шестакову показалось, что она сейчас заплачет. Но голос ее был сух и непреклонен, когда она сказала:
– Значит, вчетвером.
Шестаков даже растерялся.
– Елена Константиновна, нам предстоит дьявольский рейс. Поверьте, это не женское дело… – насколько мог ласково сказал он.
Елена вспыхнула:
– Не говорите банальностей! «Не женское дело»! – передразнила она Шестакова. – А по трое суток не выходить из тифозных бараков – это женское дело? Делить осьмушки хлеба умирающим детям – это женское дело?..
Елена оторвалась от книжного шкафа, стремительно подошла к столу:
– Неделями трястись в санитарной двуколке?.. Отстреливаться от казаков… Это чье дело?!.
Шестаков смотрел на нее во все глаза, любуясь румянцем, вдруг загоревшимся на бледном лице. Покусывая от возбуждения ровными длинными зубами полную нижнюю губу, Елена говорила с жаром:
– Во-первых, папа, как дитя малое, нуждается в женском уходе. Во-вторых, не беспокойтесь, помехой не буду…
Шестаков сказал неуверенно:
– Я, право, и не знаю…
– Тут и знать нечего! – успокоила его Елена. – Чем труднее дело, тем больше вам понадобится опытная медсестра!
Шестаков пожал плечами – в твердых глазах ее была лукавая усмешка, и он перевел взгляд на Неустроева. Тот смотрел на дочь озабоченно. Решительно заканчивая деловой разговор, Елена сказала:
– А теперь прошу отобедать – у нас есть картошка, конопляное масло и прекрасный морковный чай…
И Шестаков увидел, что у нее хоть и маленький, но очень упрямый подбородок.
Лицо Елены, совсем еще девчоночье, задумчиво улыбающееся, с мечтательными продолговатыми глазами, было освещено желтым мигающим светом коптилки. Потускневший, обтрепанный по краям фотоснимок. Стершиеся на полях золотые вензеля, орленые печати, чуть видное факсимиле «ФОТОГРАФИЯ БРОЙДЭ, ПЕТЕРБУРГ. 1914 ГОД»… Фотография лежала на пустом снарядном ящике, который использовали вместо стола. Рядом были разложены какие-то документы, на грязном вафельном полотенце поблескивали ордена – Владимир, Станислав, Георгий, медаль «За храбрость», французский «Почетный легион».
Чаплицкий бегло просматривал бумажки и большинство тут же сжигал на вялом пламени коптилки. Покончив с этим делом, он взял с ящика револьвер, ловко разобрал его и четкими, привычными движениями принялся чистить.
Из серой мглистой темноты пакгауза, в которой угадывались силуэты еще нескольких человек, как диковинная донная рыба, выплыл в освещенный коптилкой круг прапорщик Севрюков, опухший, черный, подмороженный. Зябко обнимая себя за плечи, он долго смотрел на занятия Чаплицкого, а когда тот, вытерев чистой тряпицей затвор, начал смазывать его, прокаркал:
– Эт-та… На что вам эта игрушка, ваше благородие?
Чаплицкий поднял на него глаза, чуть заметно улыбнулся и сказал доброжелательно:
– Это, почтеннейший Севрюков, не игрушка. Это револьвер «лефоше»: семь патронов, в рукоятке – нож, а на стволе – кастетная накладка.
Севрюков поморщился:
– Французские глупости. По мне – нет стволов лучше, чем у немчуры. От маузера у противника в черепушке дырка образуется с кулак…
Чаплицкий вздохнул:
– Вы никогда ничему не научитесь, Севрюков. У вас мышление карателя. А ведь мы сидим, как крысы, в этом пакгаузе…
Сжав кулаки, Севрюков заорал:
– Я вам говорил, что надо всем вместе пробиваться! Не сидели бы здесь, как крысы…
– Не кричите, прапорщик, вас и так услышат, – сказал Чаплицкий, продолжая смазывать затвор. – Что же вам помешало пробиться?
– Так они валом перли, со всех сторон, – уже виновато пробормотал Севрюков. – Было бы стволов с полсотни – обязательно где-нибудь прорвались бы… Нам терять нечего…
Чаплицкий собрал револьвер, заглянул зачем-то в ствол, сказал лениво:
– Это вам, прапорщик, терять нечего.
– А вам? – вскинулся Севрюков.
Так же лениво, нехотя Чаплицкий процедил:
– А у меня здесь родина. Россия называется. Слышали когда-нибудь о такой земле?
Севрюков истерически захохотал:
– А то! Россия! Ха! Чай Высоцкого, сахар Бродского, а Россия Троцкого! Как не слыхать!
Чаплицкий поморщился:
– Я же просил вас – тихо! Едва на ваши вопли подойдет красный патруль, придется вам опробовать маузер на собственной черепушке.
Из темноты вышли на огонек два офицера в шинелях с оторванными погонами. Следом за ними появился, еле волоча ноги, чихая и кашляя, командир первого «эскадрона смерти» ротмистр Берс.
– Чертовский холод! – сказал он уныло.
Севрюков поглядел на него с антипатией и злорадством, презрительно процедил:
– То-то! Это вам, Берс, не на гнедом жеребце гарцевать! Это вам не в черном эскадроне веселиться! С гриппом вы тут долго не протянете…
Берс накинул на плечи мешок, присел рядом с Чаплицким и, не удостаивая Севрюкова взглядом, сказал, изящно грассируя:
– Этот Севрюков – совершенно дикий, стихийный мизантроп. Я бы не хотел оказаться с ним на необитаемом острове: томимый голодом, он может жрать человечину…
– Конечно, могу! – заржал Севрюков, нисколько не обижаясь. – Не то что вы, хлюпики! Эхма, воинство сопливое!
– Как он умеет эпатировать общество! – усмехнулся Берс и сказал Чаплицкому по-французски: – Лё плебэн энсолэм авек дэз еполет д’оффисье (наглый простолюдин в офицерских погонах).
– Чего это он лопочет? – подозрительно спросил Севрюков у Чаплицкого.
Тот задумчиво посмотрел на него, качая головой, медленно пояснил:
– Ротмистр утверждает, будто душевное здоровье человека зависит от гармонии между дыханием, желчью и кровью…
– Это к чему он придумал? – поинтересовался Севрюков.
– Насколько мне известно, это не он придумал, – терпеливо сказал Чаплицкий. – Есть такое индийское учение – Ригведа…
В амбаре повисло враждебное молчание. Севрюков, исполненный жаждой деятельности, наклонился над фотографией Лены Неустроевой, присмотрелся к ней, коротко хохотнул и обернулся к Чаплицкому:
– Смазливая мамзель!
Берс опасливо покосился на каменные желваки, загулявшие по худым щекам Чаплицкого, и соизволил обратиться к прапорщику Севрюкову:
– Вы бы помолчали немного, любезный!
– А чего? Высокие чувства? – Севрюков снова захохотал. – Так вы о них забудьте! Мы уже почти померли, перед смертью надо говорить только правду. А самая наиглавнейшая правда, какая только есть в этой паскудной жизни, – это что все бабы делятся на мурмулеточек и срамотушечек. Вот эта, на столе, – мурмулеточка…
Чаплицкий неуловимым мгновенным движением вскинул «лефоше», раздался еле слышный выстрел – и с головы Севрюкова слетела сбитая пулей папаха.
Даже не посмотрев на побледневшего прапорщика, Чаплицкий сказал доброжелательно:
– Видите, Севрюков, я мог вас покарать. А потом взял и помиловал…
Опомнившийся Севрюков начал лихорадочно шарить трясущейся рукой по кобуре, но Чаплицкий уже положил свой револьвер на ящик перед собой и спокойно продолжил:
– Не делайте глупостей, не ерзайте, иначе я вас действительно застрелю. Вас, конечно, и надо бы застрелить, на Страшном суде мне бы скинули кое-что за такой благочестивый поступок… Тем не менее я дарю вам жизнь. Больше того, я дам вам свободу…
Севрюков криво ухмыльнулся:
– Это чего же ради?
Он с ненавистью уставился на Чаплицкого, который совершенно невозмутимо сложил документы, потом убрал их во внутренний карман своей солдатской шинели и туда же ссыпал ордена. Спрятал револьвер. И наконец объяснил:
– Мне запало в душу, Севрюков, что вы можете есть человеческое мясо. Вот я и хочу помочь вам – благодаря этому умению – перейти финскую границу.
– Плевать мне на ваши благодеяния, – зло зашипел прапорщик. – Я и сам…
– Нет, – покачал головой Чаплицкий. – Без меня вы не перейдете границу. Пятьсот километров зимней тундры пешком? Без продовольствия? Через красные кордоны?
– Ну и что вы хотите?
– Я вам подскажу, как добраться до Финляндии. Туда ушла дивизия генерала Марушевского, начальника штаба армии Миллера. Вы передадите ему письмо от меня, а он за это переправит вас в Англию. И для вас война закончена, раз и навсегда. Вас это устраивает?
Севрюков кивнул:
– Ну, допустим…
– Сегодня около полуночи из Архангельска пойдет почтовая упряжка в Иоканьгу. Почту повезет матрос Якимов с ненцем-каюром…
– А откуда вы это знаете? – хитро прищурился Севрюков.
– Вот это не ваше дело, уважаемый прапорщик. – Чаплицкий поднялся, сказал поучительно: – И вообще: не проверяйте меня, не соревнуйтесь со мной, не спорьте – вы всегда будете в проигрыше.
Севрюков спросил, набычившись:
– Интересно знать, почему бы?..
Чаплицкий деловито продул пустой мундштук и ответил ровным голосом:
– Потому что ваш ангел там… – он показал рукой вверх, – отдан в услужение моему. Мне думается, там тоже классовое неравенство и вскоре ангелы-социалисты затеют классовую борьбу…
Ротмистр Берс захохотал:
– Не пыжьтесь, Севрюков, – такова ваша карма, записанная в священной книге судеб Бханата-Рутия…
Севрюков переводил взгляд с одного на другого, и ненавистническая скрипучая слеза повисла у него на редких белесых ресницах:
– Шутите? Шутнички-и! Раздери вас в корень! Дошутились! Расею-матушку на ногте унести можно. – Он протянул к ним свой мосластый грязный кукиш. – Нигде нам не будет пристанища… Такую землю потеряли-и…
Берс глупо пошутил:
– Приличный кусок своей земли вы унесете в эмиграцию под ногтями! Ха-ха!
Севрюков повернулся к нему всем корпусом:
– А ты, немец, молчи! – С досады он даже плюнул. – Тьфу! Двести лет вы тут пили-ели, пановали – и все как в корчме. Одно слово – наемники…
– Хватит, господа! – нетерпеливо стукнул ладонью по ящику Чаплицкий. – Вы согласны, Севрюков?..
Военмор Иван Соколков держал в руках верхнюю деку концертного рояля. Запотевшая с холода черная лаковость ее завораживала Ивана, он протирал ладонью окошко в серой мокрой испарине и смотрелся в темное зеркальное отражение. Гордо вздымал бровь, шевелил слабыми усишками, грозно морщил свою курносую бульбочку. Потом улыбнулся: наружностью своею остался доволен. И декой рояльной – тоже.
– Хорошая вещь, однако, – сказал он удовлетворенно, взял из угла топорик и ловко стал распускать деку на щепки, узкие досочки, стружки. – На вечер хватит…
Иван Соколков был человек неспешный, степенный, сильно ценивший покой.
Дорога на военную службу, в Петроград, ему понравилась; много дней стучали по железке колеса телячьего вагона – от его родной деревни Гущи в бескрайних барабинских степях до сумеречной, подернутой дымчатым дождливым туманом столицы, и все это время можно было спокойно спать на свежеоструганных, ладных, пронзительно пахнувших сосной нарах.
Просыпался, когда котловые разносили по вагонам тяжелые обеденные бачки, с удовольствием завтракал, обедал, ужинал и снова безмятежно засыпал.
Соколков уважал плотную еду, потому что весил девять пудов, и эти огромные комья мышц, могучий рослый костяк и несчитаные метры крепких, как парусная нить, нервов требовали всегда еды, когда Иван не спал.
Но Петрограда он тогда не увидел, потому что всех их, новобранцев, прямо с вокзала отвезли в военный порт, погрузили в толстобокий плашкоут, и старенький пузатенький буксир с надсадным сиплым сопением потащил их в Кронштадт.
Несколько часов, которые провел Иван на плашкоуте, немилосердно подбрасываемом короткой хлесткой волной Финского залива, внушили ему стойкое отвращение к морю.
Здесь, пожалуй, не разоспишься. И пузо тешить было бессмысленно: душа никакой жратвы не принимала, до зеленой желчи выворачивало Ивана наружу.
А кроме всего, сильно пугала такая жуткая пропасть воды вокруг. В тех местах, где родился и вырос Соколков, всей воды в самой дальней округе была речушка Ныря, пересыхавшая к концу июля до гладких белых камешков на песчаном дне.
Здесь – во все стороны, куда ни глянь, – была серосизая, со смутной прозеленью вода.
Потому Ивана, как человека осмотрительного, неторопкого, очень беспокоил вопрос: а как же вон там, за краем водяного окоема, корабли находят дорогу домой или в те места, куда они собрались плыть? Ведь одна вода кругом, в какую сторону ни обернись?
Да и как тут воевать, на этих зыбких хлябях, прицеливаться, стрелять из пушек или из пулеметов, когда и мирно на этих пароходах не поплаваешь – так с души мутит и блюешь без конца, точно на третий день богатой свадьбы?
В общем, вся надежда оставалась на то, что государю императору нужны небось не только матросы, но и на берегу солдаты. Может, оставят в крепости? Или по какой другой вспомогательной береговой надобности.
Но с самого начала службы в полуэкипаже стало ясно, что шансов остаться на берегу маловато. К этому времени Иван уже стал помаленьку разбираться в типах кораблей и страстно мечтал, чтобы послали его служить на базовую брандвахту – она на мертвом якоре, от берега совсем близко.
Конечно, похуже, но неплохо все ж таки было бы попасть и на линкор. Дредноуты… они ведь здоровенные, каждый больше его деревни Гущи. В линкор и торпеда попадет – он не потопнет, а на снаряды ему просто чихать!.. И как ни крути, на волне его качает много меньше.
Но, будучи человеком рассудительным, Иван понимал, что надеяться на такую редкую удачу довольно глупо. Надо рассчитывать, что, скорее всего, попрут его трубить на крейсерскую бригаду.
Это, конечно, не ахти какая важная служба. Хотя и в ней имеются кое-какие резоны: такой крейсер, как «Рюрик», к примеру, он размером чуть поменьше дредноута, а ход у него гораздо шибче, так что ежели германских кораблей окажется в перевес, то почти завсегда можно будет от них удрать! И пушек у него будь-будь! На отходе из одних кормовых пушек можно отстреляться.
Ценя покой, Иван был горячим противником атакующей тактики в морской войне.
О службе на миноносной дивизии Иван и думать не хотел, поскольку это уже выходило за рамки его представлений о нормальной жизни, а метилось адской карой за совершенные ранее грехи.
Если же говорить всерьез, то со всем этим трижды проклятущим флотом Ивана примиряла одна мысль, единственное утешение: из-за роста и девяти пудов здоровенного крестьянского веса его уж во всяком случае не могли взять на подводные лодки.
Подводные лодочки были ма-а-аленькие, а он – большой. Да!
Хоть в этом Господь уберег – от мерзкой участи законопачиваться в железный ящик, наподобие солонины в жестянках, что раздавали в обед, и ползать в таком непотребном виде по дну морскому, а сверху на тебя еще мины кидают…
Тьфу, прости господи! И подумать противно!
А в день присвоения Ивану звания матроса второй статьи их всех построили на плацу полуэкипажа, и с начальником канцелярии пришел красивый мичман с веселым загорелым лицом.
Иван стоял на правом фланге. Мичман хлопнул его по плечу, со смешком, не приказом, спросил:
– Что, молодец, пойдешь ко мне служить?
– Так точно, ваше благородие! – браво отрепетовал Соколков, успевший за недолгий срок службы в полуэкипаже скумекать, что такие весельчаки и красавцы-офицеры всегда поближе к начальству, а начальство – поближе к теплу, а тепло – на берегу.
– Ну и прекрасно, – засмеялся мичман, отобрал еще двенадцать матросов и сказал речь:
– Поздравляю вас, братцы! Вы теперь матросы Шестой минной дивизии, члены экипажа эскадренного миноносца «Гневный», которым я имею честь и удовольствие командовать. Меня зовут Николай Павлович Шестаков…
Так и случилось ему, Ивану, самому себе выбрать судьбу, о которой он и думать-то никогда не хотел. Потому что балтийская служба на эсминцах – вообще дело беспокойное, а Шестаков к тому же оказался таким лихим, везучим и расчетливым командиром, что его корабль бросали, как правило, в самые трудные, опасные, порою просто безнадежные дела.
И под его командой Иван дозорил в штормовые безвидные ночи, уходил на минные постановки к скандинавским проливам, атаковал Данциг, напоролся в тумане на броненосный крейсер «Роон» и принял с ним бой, сражался против огромной германской эскадры под Моонзундским архипелагом, снимал с тонущего геройского линкора «Слава» остатки экипажа и добирался до Риги на полузатопленном изрешеченном, избитом эсминце.
А потом был неслыханный ледовый переход из Гельсингфорса в Кронштадт, когда нечеловеческим усилием, в последний момент, удалось спасти революционный Балтфлот.
И потом – глушил бомбами глубинными английские подлодки в Финском заливе.
И погибал на взорванном «Азарде».
И штурмовал Красную Горку.
Привык. Привык к морю, к войне. И очень привык к Шестакову.
И сейчас, помешивая в котелке на «буржуйке» булькающую кашу, Иван думал о том, что, конечно, глупо спорить: все, что он знает о мире, о людях, об устройстве человеческих отношений, – все это он узнал от Шестакова.
Хотя, по правде сказать, как раз из-за этой привязанности к Шестакову он и сидит сейчас здесь, мерзнет и голодует, а не списался с флота в декабре семнадцатого и не уехал в свою далекую, сытую Барабу.
Конечно, и там, нет сомнения, на текущий момент война происходит и борьба с эксплуататорами. Но там все-таки до́ма, там все свое, знакомое, все понятное. Там бы он и без Шестакова теперь разобрался.
Да и жизнь эта, бродячая, цыганская, надоела.
Вот дали им сейчас с Шестаковым эту комнату – дак разве это комната для нормальных людей? Будто для великанов делали: потолки метров под шесть, от дверей к окнам ходить – запыхаешься, холодрыга – люстры от мороза хрусталем бренькают!
Дворник, который и раньше служил в этом доме, пока еще не был дом сдан под общежитие для командировочных и бездомных работников Наркомпрода, рассказывал давеча Ивану о бывшем своем хозяине, дурном барине Гусанове.
Гусанов этот получил по наследству от какой-то тетки прямо перед войной домище – в каком вы и располагаетесь. И так, значит, развеселился Гусанов от наследства, а еще оттого, что войну воевал в Петрограде, что за два года профуфырил дом на скачках, бабах-вертихвостках и заграничной выпивке; продали дом кому-то с торгов.
И все сказали: дурак Гусанов, миллион прогулял!
А через год после революции дом в казну забрали – национализировали – и сделали общежитием. И все сказали – вот умница Гусанов, вот шикарно пожил!
Соколков вспомнил эту нелепую историю, достал из тряпицы кусок старого зажелтелого сала, одну толстую дольку чеснока, растер его рукояткой ножа, тоненько порезал сало и заправил жидкую пшеничную кашу.
И задал себе вопрос: так что же этот Гусанов – дурак он или умный?
Облизнул с ложки обжигающую кашу, покатал на языке, послушал ее вкус в себе, потом решительно тряхнул головой – каша получилась хорошая.
А Гусанов был дурак.
За этими размышлениями и застал его вернувшийся вскоре от Неустроевых Шестаков.
Ужин был готов, и они с аппетитом поедали его прямо из котелка, сидя в шинелях на кроватях, придвинутых вплотную к печке.
Шестаков о чем-то сосредоточенно размышлял, и затянувшееся молчание было невмоготу словоохотливому Соколкову.
– Николай Палыч!.. – завел он.
– Угу…
– Я вот подумал…
Шестаков бормотнул механически:
– Прекрасно…
– Вы ведь человек-то большой, однако… – гнул какую-то свою, ему одному ведомую, линию Иван.
– Спрашиваешь… – так же механически подтвердил Шестаков.
– По нонешним временам особенно…
Шестаков возвратился с небес на землю:
– Вань, кашки не осталось там?..
– Не осталось, Николай Палыч.
– Ну и слава богу! Ничего нет вреднее сна на полный желудок. Так ты о чем?
– Вот говорю, что вы сейчас, коли по старым меркам наметать, никак не меньше чем на адмирала тянете. Ай нет, Николай Палыч?
Шестаков тщательно облизал ложку, кивнул серьезно:
– На бригадира…
– Это чтой-то?
– Был такой чин, друг милый Ваня, в российском флоте.
– Важный?
– Приличный. Поменьше контр-адмирала, побольше каперанга. Соответствовал званию командора во флоте его величества короля английского.
– Вот я о том и веду речь, – оживился Соколков.
– Чего это тебя вдруг разобрало? – засмеялся Шестаков. – Звания все эти у нас в республике давно отменены.
– А пост остался? А должность имеется? Ответственность в наличии? Вот мне и невдомек…
– Что тебе невдомек? – Шестаков точными быстрыми щелчками сбросил в кружку с морковным чаем порошок сахарина. – Ты к чему подъезжаешь, не соображу я что-то?
– А невдомек мне разрыв между нашей жизнедеятельностью и моими революционными планами об ней!
– Ого! Очень красиво излагаешь! – удивился Шестаков. – Прямо как молодой эсер смазливой горничной. Ну-ка, ну-ка, какие такие революционные планы поломала наша с тобой жизнь?
Соколков, наморщив лоб, вдумчиво сообщил:
– Я так полагаю, Николай Палыч, революция была придумана товарищем Лениным, чтобы всякий матрос начал жить как адмирал. А покамест вы, можно сказать, настоящий адмирал, ну, пусть и красный, живете хуже всякого матроса. Неувязочка выходит.
Шестаков сделал вид, что глубоко задумался, скрутил толстую махорочную самокрутку, прикурил от уголька:
– Понимаешь, мил друг Ваня, революция – штука долгая. И окончательно побеждает она не во дворцах, а в умах…
Иван закивал – понятно, мол. А Шестаков продолжал:
– Когда большинство людей начнет понимать мир правильно, тогда и победит революция во всем мире…
Соколков взъерошился:
– Ну а я чего понимаю неправильно?
– А неправильно понимаешь ты – пока что – содержание революции. – Шестаков легко забросил на койку согревшиеся ноги и сунул их под тюфяк.
– В каких же это смыслах? – обиженно переспросил Иван.
– В самых прямых, Ваня. Революция – это работа! Чтобы каждый матрос зажил как адмирал, надо всем очень много работать. Ты сам-то когда последний раз работал?
– О-ох, давно! – пригорюнился Соколков. – Только когда же мне работать-то было? Я под ружьем, считайте, шестой год без отпуска!
– Вот то-то и оно. А хлебушек-то все шесть годов мы с тобой кушаем? Миллионы людей под ружьем, а кто под налычагом? А у станка? А в шахте? Слышал, докладывали: в нынешнем году Россия выплавит стали, как при Петре Первом. Ничего? На двести лет назад отлетели. А ты адмиральской жизни желаешь! Ну и гусь!..
Иван подбросил несколько щепок в печку, раздумчиво спросил:
– А что же будет-то?
– Все в порядке будет, Иван. Беда наша, что мы пахоту ведем не плугом, а штыком. Плугом это делать сподручнее, и хлеб из-под него богаче, да только от бандитов и грабителей, что на меже стоят, плугом не отмахнешься. Тут штык нужен. Погоди немного, отгоним паразитов за окоем – вот тогда мы с тобой заживем по-другому…
– Эт-то верно. Да хлебушек-то людям сейчас нужон! Ждать многие притомились…
– Вот мы с тобой и отправляемся на днях за хлебом, – сказал Шестаков примирительно.
– Далеко? – оживился Соколков.
– Не близко. – Шестаков натянул повыше байковое одеяло, нахлобучил поглубже шапку, удобнее умостился на койке. – На Студеный океан, в Карское море.
Не вдумываясь, откуда в океане возьмется хлеб, Соколков лишь спросил деловито:
– Много хлеба-то?
– Миллион пудов с гаком.
– Ско-о-лько? – обалдело переспросил Иван.
– Мил-ли-он, – сонно пробормотал Шестаков, его уже кружила теплая дремота. И вдруг, приподнявшись, сказал ясным голосом: – Иван, ты соображаешь, сколько это – миллион пудов? Да еще с гаком? Всей России каравай поднесем!
Уронил голову в подушку и заснул уже накрепко, без снов, до утра.
А Иван Соколков еще долго лежал в темноте, шевелил губами, морщил лоб – подсчитывал.
К полуночи вызвездило – крохотные колючие светлячки усыпали черное одеяло небосвода, и от этого стало еще холоднее. Мороз словно застудил, намертво сковал все звуки окрест, и от этой могильной тишины хотелось ругаться и плакать.
Но прапорщик Севрюков и подпрапорщик Енгалычев, казак из старослужащих, сидевшие засадой в еловом ветхом балаганчике, брошенном кем-то из охотников-ненцев, плакать не умели, а ругаться нельзя было.
Шепотом – что за ругань?
А громко – нельзя.
И костра развести нельзя.
Прикрываясь за сугробом от острого, будто иглами пронизывающего ветра, Енгалычев зашептал:
– Слышь, Севрюков! Пропадем ведь без огня-то!
Севрюков покосился на него:
– За ночь не пропадем… – А у самого от стужи губы еле шевелятся.
Енгалычев зло сплюнул, и они услышали легкий металлический звон – будто гривенник упал на замерзший наст.
Плевок на лету застыл.
– Ночь ночи рознь, – сказал Енгалычев угрюмо. – Здесь ночь – полгода.
– Не скули. Нынче вытерпим ежели мы с тобой – всю жизнь в тепле будем.
– Жи-изнь… – протянул Енгалычев. – Ох и жизнь наша собачья. Озверели вовсе – на людей засидку делаем!
Севрюков растер рукавицами немеющие щеки, с коротким смешком бросил:
– Комиссары не люди. Учти, матроса убить – не грех, а добродейство…
– Ладно, посмотрим, – вяло сказал Енгалычев и тоже принялся растирать щеки. – Я так думаю, мы с комиссарами на одной сковороде у чертей жариться будем…
Прошел еще час.
Севрюков приподнял голову, насторожился:
– Тихо! Слушай!..
Из ночной мглы доносился пока еле слышный, но с каждой минутой все более отчетливый собачий лай, тяжелое сопенье. На мили вокруг разносился пронзительный визг полозьев по сухому снегу, гортанные выкрики каюра – шум груженой упряжки на санном тракте.
Енгалычев посмотрел на Севрюкова:
– Что?..
– Давай!
Севрюков подтолкнул Енгалычева в спину.
– Беги, падай на лыжню, – свистящим шепотом скомандовал он. – И лежи как покойник, а то нынче же будешь на сковородке у комиссаров…
Енгалычев выбежал на тракт, упал посреди лыжни, раскинув в стороны руки.
Севрюков снял рукавицы и быстро-быстро принялся растирать замерзшие ладони, согревать их дыханием.
Вот и упряжка показалась. Семь огромных пушистых лаек-маламутов. На нартах – двое укутанных в меховые толстые шубы людей.
Увидав распростертое тело Енгалычева, каюр скомандовал собакам «по-оть!» и с размаху воткнул в твердый снежный наст остол.
Упряжка остановилась. Собаки начали обычную грызню между собой, а матрос Якимов, закутанный башлыком, в перекрестье пулеметных лент, соскочил с нарт и закричал:
– Стоп машина, Кононка! Малый назад, трави пар! Человек за бортом! Жив?
Каюр Кононка подбежал к Енгалычеву, наклонился над ним, приподнял голову.
– Дышит, однако! – крикнул Якимову.
– Тогда доставай спирт, готовь костер, выручать братишку будем! – скомандовал матрос.
Он тоже подошел к Енгалычеву.
Севрюков расстегнул пуговицы шинели, засунул ладони под мышки – руки надо отогреть, иначе вся затея полетит к чертовой матери. И внимательно следил за дорогой. Пошевелил пальцами – двигаются.
Матрос склонился над Енгалычевым. Вот теперь время.
Севрюков выпростал руки, немного высунулся из-за сугроба, достал из-за пазухи тяжелый маузер, покачал его в руке. И тщательно прицелился.
Сначала в каюра, но не выстрелил, а плавно перевел длинный ствол на Якимова, в створ его широкой спины. А тот хлопал по щекам Енгалычева, тормошил его – очнись, браток!
Стократ усиленный безмолвием, треснул выстрел.
Матрос резко посунулся вперед, упал на колени, в муке поднял искривленное лицо, закричал-зашептал помертвевшему каюру:
– Беги, Кононка, беги!.. Это… засада… Беги… Почту… Я… умер…
И упал набок, закаменел.
В следующий миг ненец сорвался с места, длинным стремительным прыжком перескочил через обочину тракта, бросился бежать плотной снежной целиной. Заячьими петлями, рывками, падая и поднимаясь, помчался назад, в сторону Архангельска, туда – к людям!
Севрюков, прикусив губу, медленно вел за ним мушку, потом выстрелил.
Выстрел! Выстрел!
Подкинуло в воздух Кононку, будто ударили по ногам доской, упал на снег.
Севрюков засмеялся:
– Эть, сучонок! Не нравится! Врешь, не уйдешь, вошь раскосая! Гнида…
Кононка перевернулся на снегу, сразу зачерневшем от толстой струи дымной крови, дернулся несколько раз, застонал и затих.
Енгалычев вскочил и побежал к нартам.
Севрюков закричал ему:
– Стой! Ты куда? Прежде этих присыпать надо!
Капитан первого ранга Чаплицкий, его высокоблагородие, опять, выходит, прав оказался. Теперь, с упряжкой-то, и до самого генерала Марушевского добежим.
Но сначала – развести костер, отогреться…