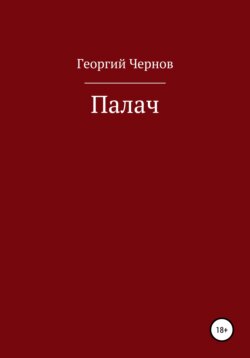Читать книгу Палач - Георгий Владимирович Чернов - Страница 2
I
ОглавлениеКогда Сереже, светловолосому и худощавому мальчишке, было шесть лет, одним из его немногих развлечений были прогулки по лесу. Он мог бродить там часами, разглядывая вилы деревьев, пока они выстраивались для него в гигантскую клетку. Ему нравилось, как вездесущий мох проминается под его ногой, а сухие ветки смачно и громко хрустят. Тайком мимо него пробегали белки, взвиваясь по стволам сосен, и наблюдали за незваным гостем, а где-то стучал отбойником дятел. Естественно, одного его никто туда не пускал, но что же поделаешь, когда тебе нужно всего лишь махнуть через забор, и вот ты уже в совершенно другом мире, а дом где-то там, далеко. Жил он с родителями прямо у леса, на даче, которую отцу дали за заслуги перед Отечеством. Это была красивая двухэтажная усадьба с собственным садом. Посреди сада был выкопан маленький пруд, в который прилетали утки, а вокруг пруда усажены были вишневые деревья и яблони. Собственно, возвращаясь к теме: когда отец заставал-таки Сережу за этими прогулками, перед этим часами бегая по лесу и истошно крича, то долго и сильно порол его ремнем с пряжкой. Он надолго запомнил те фигурные отпечатки, что она оставляла. Пятиконечные. Красивые.
Отец его, Николай Александрович М., был офицером с сединой на висках. Лицо его было облюбовано войной, подарившей ему несколько отметин и контузию. Когда он пытался улыбнуться, уголки губ его дрожали, и улыбка эта была полна боли. Пропадала она с губ настолько быстро, что было не очевидно, улыбка это или нервный тик. Он посвятил свою молодость той войне, а она в ответ сделала так, что в его тридцать лет каждый давал ему минимум пятьдесят. Теперь он, хромой на одну ногу, лишь ходил в своем мундире по плацу, важно держа руки за спиной, и кричал на перепуганных до смерти срочников. Мундир же он не снимал даже дома, а когда снимал, то не подпускал к нему и на пушечный выстрел. Несмотря на все это, сына своего он любил до безумства, и безумство это приобретало очень разные формы. Любить он не умел, а потому любил так, как мог: железной хваткой и холодным, отрешенным взглядом. Николай Александрович совершенно не знал Сережу, и потому каждый раз, когда отец пытался завести со своим сыном непринужденный разговор, тот лишь молчал в ответ и не подавал виду, что слушает, думая, что в какой-то момент этот человек, словно наваждение, просто исчезнет.
– Вот так ты, значит, с отцом, да?! – гаркнул он как-то раз, дыша резким перегаром, как дракон огнем. – Я же тебе все дал! Чего тебе еще надо!?
Но как бы это не выглядело, Николай Александрович боялся за сына. Он переживал за него, а переживания топил в вине. Он видел, что его ребенок другой, странный, не такой, как другие дети. Пустой взгляд, безучастный голос. Абсолютное безразличие повергало его в ярость, но лишь потому, что он не понимал, не понимал, почему его сын такой. Что он сделал не так? Можно ли было вообще что-то сделать? Неизвестность, нависшая над больной головой, пугала его, а он, как офицер, привык душить страх ненавистью. Красной, суровой ненавистью. Из всех своих чувств, сквозь всю свою любовь и тоску, как через сито, он цедил лишь жестокость и страх.
Чем сильнее на Сережу давил дом, тем чаще он уходил в лес, и тем чаще его невинные прогулки, после каждой следующей за ними порки, становились все более непредсказуемыми. Следуя учению отца, гласившему, что есть хорошие, которые должны жить, а есть плохие, которым суждено умереть, он шел в лесную чащу и выносил свои приговоры. Кто хороший, а кто плохой, достойный того, чтобы на него обрушить свой праведный гнев, он выбирал случайно. Для начала он давил жуков, слушая приятный хруст под ногой. А кто из нас в детстве не давил жуков? У жука нет души. Откуда ей взяться в таком крохотном тельце, источающем сущее зловоние? Но только вот Сережка в этом шел дальше, ведь у животных тоже нет сознания и души. Чем тогда они лучше жуков? Взяв на вооружение новую философию, он начал глушить белок камнями, ставить на них ловушки, а потом придумывать для них изощренные казни. После тяжелого рабочего дня нужно было, перед тем, как идти домой, смыть с рук следы крови, и для этой цели обычно он шел к ручью, давно ему знакомому, в котором он периодически ловил мальков, и начинал усердно оттирать кровавые разводы. Именно тогда он узнал, что кровь высыхает, а когда она высыхает, ее труднее отмыть. Как раз в тот день он пришел домой поздно, после тщетных попыток избавиться от кровавых следов на руках. Отец был на службе, потому встретила его мать. Она осветила его своим сочувственно-испуганным взглядом, склонилась перед ним, нежно коснулась своей рукой его щеки, другой рукой взяв его окровавленную руку, и с глаз ее заструились слезы. Он чувствовал их соленый вкус, когда она прижала его к себе со всей своей силой, и через ее плечо смотрел вдаль, в ночную пустоту.
– Пойдем домой, – процедила она сквозь слезы и повела его в дом. Она долго отмывала его руки от крови, медленными движениями, словно поглаживая его измученное тело, проникая в не менее измученную душу.
Она, звали ее, кстати, Ирина М., женщина была чудесная. Но, правда, малообразованная и наивная. Но внешность ее имела божественные очертания: белоснежные волосы, заплетенные в хвост, до слепоты ясные голубые глаза, аккуратный вздернутый носик и тонкие, словно нить, губы с острым подбородком делали ее ангелом небесным, особенно во впечатлительной голове шестилетнего мальчугана. Она не поверила, что ее сын убивает животных. Не хотела верить. Она и не спрашивала его, а объяснила себе это так, что он, вероятно, нашел в лесу уже мертвое и пытался спасти. «– Доброе у него сердце», – вздыхала она про себя. Ну а Сережа с этим и не спорил. Совесть ему была не знакома. В отличие от отца, Ирина не видела в сыне ничего странного. Она, как и любая мать, считала свое дитя особенным, а раз так, то его излишняя замкнутость и молчаливость – это всего лишь его особенность, не более. Она любила его, а Сережа любил ее в ответ. Но любил, скорее, как кот, который любит хозяина. Вечерами она нежно прижимала его к своей груди, читала ему сказки, учила читать и писать, но получалось у него плохо. Ему больше нравились числа. Считать у него выходило лучше, но излишняя леность и абсолютное безразличие ко всему не позволяла ему уйти в этом слишком далеко. Больше всего ему нравилось слушать сказки из старой, потертой книги, что мать хранила в прикроватной тумбочке. Слушал он не столько истории, сколько сам голос ее, бархатный, тихий, теплый. Порой он думал, что она нереальна, что он представил себе, будто она существует. Он не мог поверить, что такое ангелоподобное создание может любить его, быть к нему неравнодушным.
Также, по воскресеньям в доме М. собирались разного рода гости. Все они были друзьями и знакомыми отца. Среди них был серьезного вида жидковатый прапорщик с пышными усами и лысиной на макушке. Он очень любил трепать Сережу по голове, что второго очень раздражало, и говорить:
– Ну что, когда к нам, в армию? А? – он был глуховат, ввиду чего всегда добавлял «а?» слишком рано, когда ему еще не успели ответить, либо только еще начали, тем самым перебивая собеседника. Но Сережа молчал, и когда прапорщик это понимал, то со вздохом сожаления давал ему легкого подзатыльника и шел по своим делам.
Вторым гостем был майор со шрамом вдоль виска. Он, как и отец, тоже ходил в своем кителе, не снимая ни на минуту. Сереже он нравился больше, ибо он был самым молчаливым, а потому всем, что он обычно говорил ему, было «привет, сорванец». Как-то раз он пришел на Сережин день рождения, все так же, в армейском кителе и фуражке, и подарил ему шахматную доску.
– Я слышал, такие дети… ну, одаренные, они хорошо в шахматы играют. Я тут недавно книжку читал… а, впрочем, неважно, – сказал он не без доли смущения. Сережа принял подарок, и потом, когда был совсем уже один, решился его осмотреть. Играл он в них совсем уж по своему, ведь учить его было некому, и впоследствии совсем про них забыл. Внутри них завелся паук, наплетший паутины, и паук этот очень заинтересовал Сережу. Он часами с упоением смотрел на него, прерываясь только на еду, и перестал даже выходить из дома в лес.