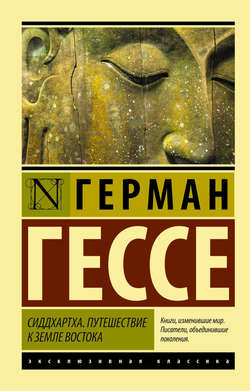Читать книгу Сиддхартха. Путешествие к земле Востока (сборник) - Герман Гессе - Страница 2
Сиддхартха
Часть первая
Сын Брахмана
ОглавлениеПод сенью дома, на солнечном речном берегу возле лодок, под сенью ивовой рощи, под сенью смоковницы рос Сиддхартха, прекрасный сын брахмана, юный сокол, рос вместе с другом своим Говиндой, сыном брахмана. Солнце золотило его белые плечи на речном берегу, во время купанья, во время священных омовений, во время священных жертвоприношений. Тень вливалась в черные глаза его под пологом манговой рощи, во время отроческих игр, под песню матери, во время священных жертвоприношений, во время проповедей отца, постигшего многие науки, во время бесед мудрецов. Давно уже Сиддхартха участвовал в беседах мудрецов, упражнялся с Говиндой в искусстве наблюдения, в служенье медитации. Он умел уже беззвучно произносить ом, слово из слов, на вдохе беззвучно роняя его в себя, на выдохе же беззвучно роняя его вовне, сосредоточившись душою, с челом, осиянным блеском ясно мыслящего духа. Он умел уже ощутить внутри своего существа атман, несокрушимый, неотделимый от вселенной.
Радостью полнилось сердце отца его, когда он смотрел на сына, смышленого, жаждущего знаний, и видел в нем будущего великого мыслителя и жреца – князя среди брахманов.
Блаженством полнилась грудь матери его, когда она смотрела на него, видела, как он ходит, как он садится и встает – Сиддхартха, сильный, прекрасный, несомый стройными ногами, приветствующий ее с безупречным достоинством.
Любовь трепетала в сердцах юных дочерей брахманов, когда Сиддхартха шагал по городским улицам – сияющее чело, царственный взор, узкие бедра.
Но больше всех любил его Говинда, его друг, сын брахмана. Он любил глаза Сиддхартхи и мелодичный голос, любил его походку и безупречное достоинство движений, любил все, что бы ни делал и ни говорил Сиддхартха, а превыше всего любил его дух, его пылкие, возвышенные помыслы, его страстную волю, его высокое призвание. Говинда знал: не будет Сиддхартха ни заурядным брахманом, ни ленивым храмовым служителем, ни алчным торговцем заклинаниями, ни тщеславным празднословом, ни злобным, коварным жрецом, как не будет и кротким глупым стадным бараном. Нет, и сам он, Говинда, тоже не хотел быть таким брахманом, одним из многих тысяч. Он последует за Сиддхартхой, возлюбленным, несравненным. И если Сиддхартха станет когда-нибудь божеством, если войдет когда-нибудь в сонм лучезарных, то Говинда последует за ним – его друг, и спутник, и слуга, и копьеносец, и просто его тень.
Все любили Сиддхартху. Всех он радовал, всем был по сердцу.
Самого же себя Сиддхартха не радовал, себе он не был по сердцу. Прогуливаясь по дорожкам сада средь свежести смоковниц, сидя в мерцающе-синей тени рощи созерцания, совершая ежедневное очистительное омовение, творя жертву в глубоком сумраке мангового леса, полный безупречного достоинства во всяком движенье, всеми любимый, всех радующий, он, однако, не ведал радости в сердце своем. Грезы являлись ему и беспокойные мысли в текучих речных струях, в мерцанье искристых ночных звезд, в блеске сияющих солнечных лучей; грезами и беспокойными мыслями курились жертвы, дышали стихи Ригведы, сочились проповеди стариков брахманов.
Сиддхартха начал взращивать в себе недовольство. Мало-помалу он почувствовал, что любовь отца, и любовь матери, и любовь друга, Говинды, не будут вечно, до скончания времен дарить ему счастье, утолять боль, насыщать его, довлеть ему. Он начал догадываться, что его почтенный отец и другие его наставники, а также мудрецы брахманы уже сообщили ему бульшую и лучшую часть своих познаний, перелили их в его ожидающий сосуд, и сосуд не наполнился, дух не был удовлетворен, душа не успокоилась, сердце не утихло. Омовения приносили благо, но ведь они были всего-навсего водою, они не смывали грех, не утоляли духовной жажды, не унимали сердечного страха. Выше похвал были жертвы и обращенье к богам – но неужели это все? Даруют ли жертвы счастье? И как обстоит с богами? Вправду ли именно Праджапати создал мир? А не атман ли, Он, единственный, единосущный? Не суть ли боги творения, созданные, как ты и я, подвластные времени, преходящие? Так благо ли и правильно ли приносить жертвы этим богам, есть ли высокий смысл в таком деянье? Кому же тогда приносить жертвы, кому оказывать почести, как не Ему, единственному, атману? А где найти атман, где Он обитает, где бьется Его вечное сердце, где, как не в собственном «я», в сокровеннейшей глубине, в несокрушимом, которое всяк носит в себе? Но где, где заключено это «я», это сокровеннейшее, это последнее? Он – не плоть и не кости, не мышление и не сознание, так учили мудрейшие. Где же оно, где? Проникнуть туда, к этому «я», ко «мне», к атману, – есть ли иной путь, какого стоит искать? Ах, и не укажет никто этот путь, никто его не ведает, ни отец, ни учители и мудрецы, ни священные жертвенные песнопения! Всё они знали, брахманы и священные их книги, всё они знали, обо всем пеклись, и даже более чем обо всем; бесконечно многое было им ведомо: сотворение мира, возникновение речи, пищи, вдоха, выдоха, распорядки чувств, деяния богов, – но что проку в этом знании, если не знаешь одного-единственного, самого важного, единственно важного?
Конечно, многие стихи священных книг, особенно в Упанишадах Самаведы, говорили об этом сокровеннейшем и последнем, прекрасные стихи. «Душа твоя – весь мир», – написано там, а еще написано, что во сне, в глубоком сне человек отходит к своему сокровеннейшему и обитает в атмане. Дивная мудрость заключена в этих стихах, все знание мудрейших собрано здесь в магических словах, чистое, как собранный пчелами мед. Да, немалого уважения заслуживает огромное знание, собранное здесь и сохраненное несчетными поколениями мудрых брахманов… Но где же те брахманы, где жрецы, где мудрые или кающиеся, которым удалось не просто познать это глубочайшее знание, но жить им? Где тот искусник, что сотворит чудо и переведет бытие в атмане из сна в явь, в жизнь, в будни, в слово и дело? Многих почтенных брахманов знал Сиддхартха, и прежде всех – своего отца, чистого, сведущего в науках, весьма почтенного. Отец его был достоин восхищения, спокойны и благородны были его манеры, чиста его жизнь, мудра его речь, изысканные и возвышенные помыслы обитали у него в голове – однако и он, столь много знающий, жил ли он в блаженстве, обрел ли мир? Не был ли и он тоже всего лишь ищущим и жаждущим? Не приходилось ли ему, жаждущему, вновь и вновь пить из священных источников, из жертвоприношений, из книг, из бесед брахманов? Отчего ему, безупречному, приходилось каждый день смывать грех, каждый день домогаться очищения, каждый день заново? Разве не было в нем атмана, разве не бил в собственном его сердце первозданный источник? Вот его-то и надо найти, первозданный источник в собственном «я», им-то и надо овладеть! Все остальное – исканье, окольный путь, ошибка.
Таковы были помыслы Сиддхартхи, такова – его жажда, таково – страданье.
Часто повторял он слова из Чхандогьи-упанишады: «Поистине, имя Брахмана есть Сатьям – вправду, кто знает это, каждый день входит в мир небесный». Часто он, мир небесный, казался близок, но никогда Сиддхартха не достигал его вполне, никогда не утолял последней жажды. И из всех мудрых и мудрейших, которых он знал и наставленьям которых внимал, – из них всех ни один не достиг его вполне, мира небесного, ни один не утолил вполне вечной жажды.
– Говинда, – молвил Сиддхартха своему другу, – Говинда, мой дорогой, идем со мной под баньяновое дерево, предадимся медитации.
Они пошли к баньяну, сели там – Сиддхартха, а двадцатью шагами дальше Говинда. Усаживаясь, готовясь произнести ом, Сиддхартха нараспев повторил такие стихи:
Ом – это лук, стрела его – душа,
А цель стрелы – Брахман,
И поразить стрелою эту цель
Должно во что бы то ни стало[1].
Когда истекло привычное время медитации, Говинда поднялся. Свечерело, настала пора для вечернего омовения. Он окликнул Сиддхартху по имени. Сиддхартха не ответил. Сиддхартха пребывал в медитации, глаза его недвижно вперились в какую-то далекую-далекую цель, кончик языка чуть выглядывал между зубов, он словно бы и не дышал. Сидел так, погруженный в медитацию, помышляя ом, послав душу свою, как стрелу, к Брахману.
Немногим ранее через город, где жил Сиддхартха, проходили саманы, странствующие аскеты, трое мужчин, худущие, как бы потухшие, не старые и не молодые, с покрытыми пылью и окровавленными плечами, почти нагие, опаленные солнцем, окруженные одиночеством, чуждые и враждебные миру, пришельцы и шакалы в царстве людей. За ними следом плыл жаркий и густой запах безмолвной страсти, разрушительного служения, беспощадного освобождения от самости.
Вечером, после часа созерцания, Сиддхартха сказал Говинде:
– Завтра поутру, друг мой, Сиддхартха уйдет к аскетам. Он станет одним из них.
Говинда побледнел, услыхав эти слова и прочтя в недвижном лице своего друга решение, неотвратимое, как стрела, выпущенная из лука. Сразу же, с первого взгляда Говинда понял: вот и свершилось, Сиддхартха начинает свой путь, его судьба идет в рост, а с нею вместе и моя. И он побледнел, как сухая банановая кожура.
– О Сиддхартха, – воскликнул он, – позволит ли это твой отец?
Сиддхартха посмотрел на него, как бы пробуждаясь. Мгновенно прочел он в душе Говинды – прочел страх, прочел смирение и преданность.
– О Говинда, – тихо молвил он, – не будем попусту тратить слова. Завтра на рассвете я начну жизнь аскета-саманы. Не говори об этом больше.
Сиддхартха вошел в комнату, где на лубяной циновке сидел его отец, и стал у отца за спиной, и стоял там, пока отец не почувствовал, что за спиной кто-то есть.
– Это ты, Сиддхартха? – произнес брахман. – Говори же, зачем пришел. Что желаешь мне сказать?
И Сиддхартха ответил:
– С твоего позволения, отец, я пришел сказать тебе, что хочу завтра покинуть твой дом и уйти к аскетам. Стать аскетом-саманой – вот чего мне хочется. Пусть же отец мой не противится этому.
Брахман молчал, молчал так долго, что звезды в оконце переместились и изменили свой узор прежде, чем молчание в комнате было нарушено. Безмолвно и неподвижно стоял, скрестив руки, сын, безмолвно и неподвижно сидел на циновке отец, а звезды вершили свой путь по небу. И вот отец промолвил:
– Не пристало брахману говорить резкие и гневные слова. Но негодование снедает мне сердце. Я не хочу слышать эту просьбу из твоих уст второй раз.
Брахман медленно поднялся на ноги, Сиддхартха стоял безмолвно, скрестив руки.
– Чего ты ждешь? – спросил отец.
– Ты знаешь, – ответил Сиддхартха.
В раздраженье отец покинул комнату, в раздраженье пошел к своей постели и лег.
Спустя час – сон так и не смежил ему веки – брахман встал, бесцельно прошелся туда-сюда, вышел из дома. Через маленькое оконце он заглянул в комнату и увидел, что Сиддхартха стоит недвижимый, скрестив руки. Тускло белели его светлые одежды. С беспокойством в сердце отец вернулся на свое ложе.
Спустя час – сон так и не смежил ему веки – брахман опять встал, бесцельно прошелся туда-сюда, вышел из дома, увидел, что на небе сияет луна. Заглянул через оконце в комнату: Сиддхартха стоял недвижимый, скрестив руки, его голые икры поблескивали в лунном свете. С тревогой в сердце отец вернулся на свое ложе.
И он вновь выходил спустя час и спустя два часа, заглядывал через маленькое оконце, видел Сиддхартху – тот стоял, в сиянье луны, в звездном свете, во тьме. Час за часом выходил брахман, молча заглядывал в комнату, видел недвижимую фигуру, и сердце его полнилось гневом, полнилось беспокойством, полнилось неуверенностью, полнилось болью.
И в последний ночной час, прежде чем наступил день, он вернулся в дом, вошел в комнату, увидел юношу, и тот показался ему большим и как бы незнакомым.
– Сиддхартха, – молвил он, – чего ты ждешь?
– Ты знаешь чего.
– Ты так и будешь все время стоять и ждать, пока не настанет утро, и полдень, и вечер?
– Буду стоять и ждать.
– Ты устанешь, Сиддхартха.
– Устану.
– Ты заснешь, Сиддхартха.
– Не засну.
– Ты умрешь, Сиддхартха.
– Умру.
– И ты предпочтешь умереть, нежели подчиниться отцу?
– Сиддхартха всегда подчинялся своему отцу.
– Значит, ты откажешься от своего замысла?
– Сиддхартха поступит так, как скажет ему отец.
Первый свет дня озарил комнату. Брахман увидел, что колени Сиддхартхи легонько дрожат. В лице Сиддхартхи дрожи не было, в дальнюю даль смотрели его глаза. Тут понял отец, что Сиддхартха уже и теперь не с ним, не в родном краю, что сын уже теперь покинул его. Отец коснулся плеча Сиддхартхи.
– Ты пойдешь в лес, – молвил он, – и будешь аскетом. Если отыщешь в лесу высшее счастье, приди и научи меня высшему счастью. Если же найдешь разочарование, возвращайся, и мы станем вновь вместе творить жертвы богам. Теперь иди поцелуй мать, скажи ей, куда ты уходишь. А мне пора на реку, совершить первое омовение.
Он снял руку с сыновнего плеча и вышел. Сиддхартха покачнулся, пытаясь идти. Укротив непослушные члены, он склонился вслед отцу и отправился к матери, чтобы сделать, как велел отец.
Когда он в первых лучах дня медленно, на негнущихся ногах покидал тихий еще город, около последней хижины темной тенью сидела на корточках какая-то фигура, и она поднялась и присоединилась к страннику – Говинда.
– Ты пришел, – сказал Сиддхартха и улыбнулся.
– Да, я пришел, – сказал Говинда.
1
Авторская аллюзия на Мундака-упанишаду (II:2). – Примеч. пер.