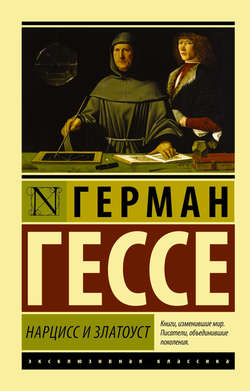Читать книгу Нарцисс и Златоуст - Герман Гессе - Страница 5
Глава 4
ОглавлениеПопытки Нарцисса раскрыть тайну Златоуста долго оставались безуспешными. Долго старался он, на первый взгляд тщетно, растормошить его, научить языку, на котором можно было бы поведать о тайне.
Из того, что друг рассказывал ему о своем происхождении и о своей родине, картина не возникала. Там был призрачный, бесформенный, но почитаемый отец, была легенда об уже давно пропавшей или погибшей матери, от которой осталось одно только имя. Мало-помалу Нарцисс, умевший читать в душах, понял, что его друг относится к тем людям, которые утратили частицу своей жизни, которые под давлением какой-либо необходимости или колдовства забыли часть своего прошлого. Он понял, что простыми расспросами и поучениями здесь ничего не добьешься; ясно ему было и то, что он чересчур уверовал в силу разума и напрасно потратил столько времени на разговоры.
Но не напрасной была любовь, связывавшая его с другом, и привычка много времени проводить вместе. Несмотря на глубокое различие своих натур, они многому научились друг у друга; наряду с языком разума между ними постепенно возник язык души и знаков; так наряду с дорогой между двумя населенными пунктами, по которой ездят повозки и всадники, появляется множество случайных, окольных, тайных дорог: дорожки для детей, тропинки влюбленных, едва заметные стежки, по которым ходят кошки и собаки. Постепенно воображение Златоуста магическими путями прокралось в мысли друга, и Нарцисс научился у Златоуста без слов понимать и чувствовать склад его души. Медленно вызревали в лучах любви новые связи между душами, и только потом приходили слова. И вот однажды в свободный от занятий день, в библиотеке, неожиданно для обоих, между друзьями состоялась беседа, затронувшая суть и смысл их дружбы и многое осветившая по-новому.
Они говорили об астрологии, которая не изучалась в монастыре и была под запретом, и Нарцисс сказал, что астрология – это попытка внести порядок и систему в разнообразие человеческих характеров, судеб и предназначений.
– Ты все время говоришь о различиях, постепенно я понял, что в этом и заключается твоя важнейшая особенность, – возразил Златоуст. – Когда ты, к примеру, говоришь о большой разнице между собой и мной, мне почему-то кажется, что разница состоит как раз в твоей странной страсти находить различия!
Нарцисс: «Так и есть, ты попал в самую точку. В самом деле: для тебя различия не столь и важны, для меня они – нечто единственно важное. По своему характеру я ученый, мое предназначение – наука. А наука, говоря твоими же словами, не что иное, как «страсть находить различия». Лучше о ее сути не скажешь. Для нас, ученых, нет ничего важнее установления различий, наука есть искусство различения. Например, найти в любом человеке признаки, отличающие его от других, означает постичь его».
Златоуст: «Ну да. На одном крестьянские башмаки, он крестьянин. На другом корона, он король. Это, конечно же, тоже различия. Но они видны даже детям, без всякой науки».
Нарцисс: «Если крестьянин и король будут одеты одинаково, ребенок не сумеет их различить».
Златоуст: «И наука тоже».
Нарцисс: «Наука, возможно, и различит. Она не умнее ребенка, согласен, но она терпеливее, она замечает не только те признаки, которые бросаются в глаза».
Златоуст: «На это способен и любой умный ребенок. Он узнает короля по взгляду, по манере держаться. Короче говоря, вы, ученые, заносчивы и всегда считаете других глупее себя. Умным можно быть и без всякой науки».
Нарцисс: «Меня радует, что ты начинаешь это понимать. Но скоро ты поймешь и другое: я имею в виду не ум, когда говорю о различии между тобой и мной. Я ведь не говорю, ты умнее или глупее, лучше или хуже. Я только говорю, что ты другой».
Златоуст: «Тут и понимать нечего. Но ты говоришь не только о различии признаков, ты говоришь о различии судьбы, предназначения. Почему, к примеру, ты должен иметь другое предназначение, чем я? Ты христианин, как и я, ты, как и я, решил посвятить себя монастырской жизни, ты, как и я, чадо нашего Отца Небесного. У нас с тобой одна цель: вечное блаженство. У нас одно предназначение: возвращение к Богу».
Нарцисс: «Очень хорошо. В учебнике догматики один человек ничем не отличается от другого, но в жизни все обстоит по-иному. Тебе не кажется, что любимый ученик Спасителя, на чьей груди он отдыхал, и тот другой ученик, который его предал, – они ведь имели не одно и то же предназначение?»
Златоуст: «Ты софист, Нарцисс! На этом пути мы не станем друг другу ближе».
Нарцисс: «Мы ни на каком пути не станем друг другу ближе».
Златоуст: «Не говори так!»
Нарцисс: «Я говорю серьезно. Наша задача не в том, чтобы стать ближе друг другу, как не сближаются солнце и луна, море и суша. Мы оба, милый друг, солнце и луна, море и суша. Цель не в том, чтобы слиться друг с другом, а чтобы познать друг друга и научиться видеть и уважать в другом то, чем он является: противоположность и дополнение другого».
Златоуст обескураженно опустил голову, лицо его опечалилось.
Наконец он сказал:
– Значит, поэтому ты так часто не принимаешь моих мыслей всерьез?
Нарцисс немного помедлил с ответом, потом произнес ясным, твердым голосом:
– Поэтому. Тебе надо привыкнуть к тому, милый Златоуст, что всерьез я принимаю только тебя самого. Поверь мне, я всерьез принимаю каждую интонацию твоего голоса, каждый жест, каждую улыбку. Но к твоим мыслям я отношусь менее серьезно. Я серьезно принимаю в тебе то, что нахожу существенным и необходимым. Почему, обладая многими другими дарованиями, ты хочешь, чтобы именно к твоим мыслям относились с особым вниманием?
Златоуст горько улыбнулся:
– Я же говорил, ты всегда считал меня ребенком!
Нарцисс остался тверд.
– Часть твоих мыслей я считаю детскими. Вспомни, мы только что говорили, что умный ребенок не обязательно должен быть глупее ученого. Но если ребенок начнет рассуждать о науке, ученый не примет это всерьез.
– Но ты смеешься надо мной и тогда, когда мы говорим не о науке! – с горячностью воскликнул Златоуст. – Например, ты всегда делаешь вид, будто все мое благочестие, мое старание хорошо учиться, мое желание стать монахом – всего лишь детская забава.
Нарцисс посмотрел на него серьезно.
– Я принимаю тебя всерьез, когда ты остаешься Златоустом. Но ты остаешься им не всегда. Всей душой я желаю только одного: чтобы ты во всем был Златоустом. Ты не ученый, ты не монах – ученого и монаха можно сделать из менее ценного материала. Тебе кажется, что в моих глазах ты слишком мало учен, не очень силен в логике и недостаточно благочестив. О нет, для меня в тебе слишком мало от тебя самого.
Хотя после этого разговора Златоуст ушел к себе озадаченный и даже оскорбленный, но через несколько дней он сам проявил желание его продолжить. На этот раз Нарциссу удалось так обрисовать различия их натур, что Златоуст был склонен с ним согласиться.
Нарцисс говорил доверительно, он чувствовал, что на этот раз Златоуст лучше, охотнее воспринимает его слова, что он имеет над ним власть. Соблазненный успехом, он сказал больше, чем собирался сказать, позволил собственным словам увлечь себя.
– Видишь ли, – сказал он, – я превосхожу тебя только в одном: я бодрствую, в то время как ты бодрствуешь только наполовину, а иногда и вовсе спишь. Бодрствующим я называю того, кто рассудком и сознанием познает себя самого, свои самые задушевные и самые безрассудные побуждения, инстинкты и слабости и умеет с ними считаться. Научиться этому – вот смысл твоей встречи со мной. У тебя, Златоуст, дух и природа, сознание и мир грез очень далеки друг от друга. Ты забыл свое детство, оно взывает к тебе из глубины твоей души. Оно будет до тех пор мучить тебя, пока ты его не услышишь… Но хватит об этом. В бдении, как уже сказано, я сильнее тебя, в этом я превосхожу тебя и могу быть тебе полезен. Во всем остальном, милый, ты превосходишь меня, точнее, так будет, когда ты обретешь самого себя.
Златоуст удивленно слушал, но при словах «ты забыл свое детство» вздрогнул, словно пораженный стрелой, хотя Нарцисс этого не заметил, ибо по своему обыкновению подолгу говорил с закрытыми глазами или смотря прямо перед собой – казалось, так ему легче было подбирать слова. Он не увидел, что лицо Златоуста вдруг дернулось и стало покрываться бледностью.
– Я… превосхожу тебя! – заикаясь, пробормотал он, чтобы хоть что-то сказать, на него словно нашло оцепенение.
– Конечно, – продолжал Нарцисс. – Натуры, подобные твоей, наделенные сильными и нежными чувствами, одухотворенные, мечтательные, полные поэзии и любви, почти всегда превосходят нас, людей духа. У вас материнское происхождение, вы живете полной жизнью, вам дана сила любви и способность к сопереживанию. Мы же, люди духа, хотя часто по видимости руководим и управляем вами, живем жизнью урезанной и сухой. Вам принадлежит полнота жизни; сок плодов, сады любви, прекрасное царство искусства – все это ваше. Ваша родина – земля, наша родина – идея. Ваша опасность в том, чтобы не утонуть в мире чувств, наша – чтобы не задохнуться в лишенном воздуха пространстве. Ты художник, я мыслитель. Ты спишь на груди матери, я бодрствую в пустыне. Мне светит солнце, тебе светят луна и звезды, твои мечты – о девушках, мои – о юношах…
С широко раскрытыми глазами слушал Златоуст, как говорил Нарцисс, слегка упиваясь собственным красноречием. Многие его слова вонзались в него, как иглы; при последних словах он побледнел и закрыл глаза, и, когда Нарцисс заметил это и в испуге умолк, бледный как смерть Златоуст сказал потухшим голосом:
– Однажды случилось, что я обессилел и разрыдался у тебя на глазах – ты помнишь? Больше такого никогда не случится, я себе этого никогда не прощу – и тебе тоже! А сейчас немедленно уходи и оставь меня одного, ты сказал мне страшные слова.
Нарцисс был очень смущен. Его увлекли собственные слова, ему показалось, что он говорит лучше, чем обычно. И вот он в замешательстве увидел, что какое-то из этих слов глубоко уязвило его друга, задело за живое. Ему нелегко было оставить его в этот момент одного, он на секунду задержался, но Златоуст нахмурился, и он в смятении убежал, оставив друга в столь необходимом ему одиночестве.
На сей раз душевное перенапряжение Златоуста не разрешилось слезами. С чувством глубочайшего, безнадежнейшего изумления, как будто друг неожиданно вонзил ему нож в грудь, стоял он, тяжело дыша, со сжавшимся в смертельной тоске сердцем, с бледным, как воск, лицом и бесчувственными руками. Вернулась прежняя беда, только на несколько градусов усиленная, снова что-то душило его изнутри, появилось чувство, что он заглянул в глаза чему-то ужасному, совершенно невыносимому. Но избавительные слезы на этот раз не пришли на помощь, не спасли от беды. Пресвятая Богородица, что же это такое? Его хотели убить? Он убил? Какие страшные слова были произнесены?
Он с трудом переводил дыхание и, как отравленный, пытался освободиться от чего-то смертельного, что сидело глубоко внутри и переполняло его, грозя разорвать. Будто плывя по воде, он выскочил из комнаты, безотчетно бросился по коридорам и лестницам к самым тихим, самым пустынным уголкам монастыря, на свободу, на воздух. Он оказался в самом укромном месте обители, в крытой галерее, над несколькими зелеными грядками сияло ясное небо, в прохладном воздухе каменного подвала стоял едва ощутимый сладковатый аромат роз.
Сам того не подозревая, Нарцисс в этот час сделал то, о чем давно уже мечтал: обнаружил и назвал по имени демона, которым был одержим его друг. Каким-то своим словом он затронул тайну в душе Златоуста, и тайна эта заявила о себе неистовой болью. Долго блуждал Нарцисс по монастырю в поисках друга, но нигде не нашел его.
Златоуст стоял под одной из тяжелых каменных арок, ведущих из галереи в крытый огород, сверху на него пялились звериные головы, по три на каждой колонне, каменные головы собак или волков. Страшно ныла в нем рана, не находя выхода к свету, к разуму. В смертельном страхе сжалось горло, сдавило желудок. Машинально подняв голову, он увидел перед собой одну из капителей с головами трех животных, и ему вдруг показалось, что эти дикие головы сидят, пялят глаза и лают в его собственных внутренностях.
«Сейчас я умру», – подумал он в ужасе. И тут же, дрожа от страха, почувствовал, что теряет рассудок, что звери вонзают в него свои зубы.
Весь дрожа, он присел у подножия колонны, боль была слишком сильна и достигла крайней точки. Он лишился чувств и, уронив голову, погрузился в желанное небытие.
У настоятеля Даниила был не самый безоблачный день, сегодня к нему пришли два пожилых монаха, возбужденные, крикливые, агрессивные, уже в который раз затеявшие яростную перебранку по поводу каких-то давних пустячных дел. Он чересчур долго выслушивал их, призывал к благоразумию, но без успеха и наконец отпустил, строго отчитав, наложив на каждого довольно суровое наказание, но в душе чувствовал, что его действия не принесут никакой пользы. Усталый, он уединился в часовне нижней церкви, помолился и поднялся с колен, так и не получив облегчения. Привлеченный легким ароматом роз, он, чтобы глотнуть свежего воздуха, ненадолго зашел в крытую галерею. Здесь он и обнаружил Златоуста, лежавшего без сознания на каменных плитах. Печально оглядел он его, испуганный бледностью и отрешенностью обычно такого милого юного лица. Недобрый день сегодня, вот еще и это! Он попытался поднять юношу, но у него не хватило сил. Тяжело вздохнув, старик пошел и позвал двух монахов помоложе, приказав отнести его наверх, а заодно послал к нему отца Ансельма, лекаря. Одновременно он велел позвать Нарцисса, которого быстро нашли, и он явился.
– Ты уже знаешь? – спросил настоятель.
– О Златоусте? Да, досточтимый отец, я только что услышал, что он заболел или с ним что-то случилось, его несли на руках.
– Да, я нашел его лежащим в крытой галерее, где ему, собственно, нечего было делать. С ним не случилось ничего страшного, он в обмороке. Это мне не нравится. Мне кажется, тут не обошлось без тебя или же ты знаешь об этом, он ведь твой ближайший друг. Поэтому я и позвал тебя. Говори.
Нарцисс, как всегда владея собой и своей речью, коротко сообщил о сегодняшнем разговоре со Златоустом и о том, как неожиданно сильно этот разговор подействовал на друга. Настоятель не без неудовольствия покачал головой.
– Странные это разговоры, – сказал он, принуждая себя говорить спокойнее. – То, о чем ты мне поведал, можно назвать вторжением в чужую душу, это, я бы сказал, душеспасительный разговор. Но ты ведь не духовник Златоуста. Ты вообще не духовное лицо, ты еще не рукоположен. Как случилось, что ты говоришь с воспитанником тоном, какой приличествует только духовнику? Последствия, как видишь, печальные.
– О последствиях, – мягко, но уверенно сказал Нарцисс, – мы еще не знаем, досточтимый отец. Я был несколько испуган бурной реакцией, но я не сомневаюсь, что последствия нашего разговора будут благоприятны для Златоуста.
– Последствия мы еще увидим. Сейчас я говорю не о них, а о твоем поступке. Что тебя побудило вести такие разговоры со Златоустом?
– Как вам известно, он мой друг. Я питаю к нему особую симпатию и полагаю, что хорошо его понимаю. Вы назвали мое отношение к нему душеспасительным. Я ни в коей мере не претендую на авторитет духовника, но думаю, что знаю Златоуста лучше, чем он сам себя знает.
Настоятель пожал плечами.
– Я знаю, это твоя специальность. Будем надеяться, что ты не натворил ничего дурного… Он что, нездоров? Я хочу сказать, не болит ли у него что-нибудь? Он чувствует слабость? Плохо спит? Ничего не ест? Страдает какими-нибудь заболеваниями?
– Нет, до сих пор он был здоров. Здоров телом.
– А в остальном?
– Душой он, несомненно, болен. Вы знаете, он в таком возрасте, когда начинается борьба с половым влечением.
– Знаю. Ему семнадцать?
– Восемнадцать.
– Восемнадцать. Ну да. Довольно поздно. Но ведь эта борьба – нечто естественное, через нее должен пройти каждый. Из-за нее Златоуста нельзя назвать душевнобольным.
– Нет, досточтимый отец, не только из-за нее. Златоуст и раньше был болен душой, уже давно, поэтому эта борьба для него опаснее, чем для других. Мне кажется, он страдает оттого, что забыл часть своего прошлого.
– Что? Какую еще часть?
– Свою мать и все, что с ней связано. Я тоже ничего об этом не знаю, знаю только, что здесь должен быть источник его болезни. Златоуст, похоже, знает о своей матери только то, что он рано ее потерял. Но возникает впечатление, что он стыдится ее. И все же, мне кажется, именно от нее он унаследовал большинство своих способностей; ибо все, что он может сказать о своем отце, не позволяет судить о нем как о родителе этого прекрасного, всесторонне одаренного, своеобычного сына. Я знаю это все не по рассказам, я сужу по приметам.
Настоятель, который поначалу про себя посмеивался над этими, как ему казалось, не по годам умными и высокомерными речами, для которого вся эта история была утомительна и обременительна, начал задумываться. Он припомнил отца Златоуста, немного напыщенного и недоверчивого человека, и заодно вдруг вспомнил, порывшись в памяти, кое-какие слова, которые тот сказал тогда в разговоре с ним о матери Златоуста. Она опозорила его и сбежала, сказал он, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы вытравить в сынке воспоминания о ней и подавить возможные, унаследованные от нее пороки. Это ему неплохо удалось, и сын готов посвятить свою жизнь Богу ради искупления того, что сотворила мать.
Никогда еще Нарцисс не был так малоприятен настоятелю, как сегодня. И все же – как точно этот мечтатель попал в точку, как хорошо он и впрямь знает Златоуста?
В заключение, еще раз опрошенный о событиях сегодняшнего дня, Нарцисс сказал:
– Сильное потрясение, которое пережил сегодня Златоуст, я вызвал неумышленно. Я напомнил ему о том, что он плохо знает себя, что он забыл свое детство и свою мать. Должно быть, какое-то мое слово задело его и проникло в то средоточие мрака, с которым я уже давно борюсь. Он был словно не в себе и смотрел на меня так, будто не знал больше ни меня, ни себя самого. Я часто говорил ему, что он спит, что по-настоящему он еще не проснулся. Теперь он разбужен, в этом я не сомневаюсь.
Нарцисс был отпущен без порицания, но с временным запретом навещать больного.
Тем временем отец Ансельм велел уложить потерявшего сознание в постель и сидел рядом с ним. Ему казалось нецелесообразным приводить его в сознание с помощью сильнодействующих средств. Юноша выглядел очень уж плохо. Благожелательно смотрел старик с морщинистым добрым лицом на юношу. Ну разумеется, думал он, парень съел что-то непотребное, целую груду кислицы или еще какой-нибудь гадости, такое случается не впервой. Язык он не мог осмотреть. Он любил Златоуста, но его друга, этого преждевременно созревшего слишком юного учителя, терпеть не мог. И вот на тебе. Наверняка Нарцисс замешан в этой глупой истории. И зачем этот славный, светлоглазый юноша, это милое дитя природы, связался именно с этим чванливым ученым, с этим тщеславным грамматиком, для которого его греческий был важнее всего живого на свете!
Когда долгое время спустя открылась дверь и вошел настоятель, отец Ансельм все еще сидел у постели и смотрел на больного. Какое у него славное, юное, доверчивое лицо, а ты сидишь рядом, должен помочь ему и, вероятно, не сможешь этого сделать. Наверно, причиной могли быть колики, ему надо бы прописать глинтвейна или, может, настойки ревеня. Но чем дольше всматривался он в позеленевшее, искаженное лицо, тем больше склонялся к другому подозрению, внушающему серьезные опасения. У отца Ансельма был опыт в подобных делах. Много раз в своей долгой жизни видел он одержимых. Он не решился высказать подозрение даже самому себе. Лучше подождать и понаблюдать. Однако ж, в сердцах подумал он, если этот несчастный юноша действительно околдован, то виновного далеко искать не придется и ему не поздоровится.
Подошел настоятель, посмотрел на больного и осторожно приподнял ему одно веко.
– Можно его разбудить? – спросил он.
– Я хотел бы еще подождать. Сердце у него здоровое. К нему никого нельзя пускать.
– Есть опасность?
– Не думаю. Никаких повреждений, никаких следов удара или падения. Он в обмороке, быть может, из-за колик. При очень сильных болях теряют сознание. Будь это отравление, появилась бы лихорадка. Нет, он придет в себя и останется жив.
– Это не может быть следствием душевного состояния?
– Не стану отрицать. Неужели ничего не известно? Быть может, он чего-то сильно испугался? Известие о смерти? Бурное препирательство? Оскорбление? Тогда все было бы ясно.
– Мы этого не знаем. Позаботьтесь, чтобы к нему никого не допускали. Прошу вас оставаться с ним, пока он не придет в себя. Если ему станет хуже, позовите меня, даже ночью.
Прежде чем уйти, старец еще раз склонился над больным; он подумал о его отце и о том дне, когда этот красивый веселый блондин был доставлен сюда, и как все сразу его полюбили. Да и он смотрел на него с удовольствием. Но Нарцисс действительно прав: мальчик ничем не напоминал своего отца! Ах, сколько забот повсюду, как несовершенны все наши деяния! Уж не упустил ли он чего в этом бедном отроке? Нашел ли Златоуст подходящего духовника? Разве это дело, что никто во всем монастыре не знает этого ученика лучше Нарцисса? Мог ли помочь ему тот, кто сам еще оставался послушником и не был пока ни монахом, ни священником? Тот, в чьих мыслях и взгляде было всегда нечто неприятно высокомерное, даже враждебное? Бог знает, не вел ли он, настоятель, себя все это время и с Нарциссом не так, как подобало бы? Бог знает, может, за его маской послушания скрывалось дурное, может, он язычник? И за то, что когда-нибудь выйдет из этих двух молодых людей, он, Даниил, тоже несет свою долю ответственности.
Когда Златоуст пришел в себя, было темно. Голова казалась пустой и кружилась. Он чувствовал, что лежит в постели, но не знал, где он, да и не думал об этом, ему было все равно. Но где он был до этого? Откуда возвратился, из каких далеких переживаний? Он где-то побывал, очень далеко отсюда, что-то увидел, что-то чрезвычайно важное и великолепное, но в то же время ужасное и незабываемое – но он все забыл. Где он был? Что возникло перед ним, такое громадное, такое мучительное, такое блаженное, и снова исчезло?
Он внимательно вслушивался в себя, в те глубины, где сегодня что-то стронулось с места, что-то произошло – что же это было? Из глубины поднимался сонм бессвязных образов, он видел собачьи головы, три собачьи головы, он ощущал запах роз. О как же больно ему было! Он закрыл глаза. О какая ужасная была боль! Он снова уснул.
Проснувшись опять, он в стремительно ускользающем царстве сновидений успел увидеть этот образ, снова обнаружил его и вздрогнул, будто в порыве мучительного наслаждения. Он видел, он стал зрячим. Он увидел Ее – Величественную, Сияющую, с яркими полными губами и блестящими волосами. Он увидел свою Мать. И в то же время ему показалось, что он слышит голос: «Ты забыл свое детство». Чей это голос? Он прислушался, задумался и вспомнил. Это был Нарцисс. Нарцисс? И в одно мгновение внезапно все снова встало перед его глазами: память вернулась, он знал. О мама, мама! Горы хлама, океаны забвения ушли, исчезли; царственными светло-голубыми очами на него снова взирала утраченная, несказанно любимая.
Отец Ансельм, задремавший в кресле рядом с кроватью больного, проснулся. Он услышал, как Златоуст зашевелился, услышал его дыхание и осторожно встал.
– Здесь кто-то есть? – спросил Златоуст.
– Это я, не пугайся. Сейчас зажгу свет.
Он затеплил лампаду, пламя осветило морщинистое доброе лицо.
– Разве я болен? – спросил юноша.
– Ты был без сознания, сынок. Дай-ка руку, посмотрим, что с пульсом. Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо. Спасибо вам, отец Ансельм, вы очень добры. У меня ничего не болит, я только устал.
– Еще бы не устать. Скоро ты опять уснешь. Но сначала выпей глоток подогретого вина, оно уже приготовлено. Давай осушим с тобой по бокалу, мой мальчик, за нашу добрую дружбу.
Он заранее приготовил кувшинчик с глинтвейном и держал его в сосуде с горячей водой.
– Мы, стало быть, вместе вздремнули часок, – засмеялся лекарь. – Ничего себе санитар, подумаешь ты, не смог удержаться от сна. Ну да ничего, мы тоже люди. А сейчас давай выпьем немного этого волшебного напитка, малыш, нет ничего лучше такой вот маленькой тайной ночной пирушки. Твое здоровье!
Златоуст засмеялся, чокнулся и пригубил бокал. Подогретое вино было приправлено корицей и гвоздикой и подслащено сахаром, такого он еще ни разу не пробовал. Он вспомнил, что однажды уже был болен, и тогда за ним ухаживал Нарцисс. На сей раз рядом был отец Ансельм, такой ласковый с ним. Ему очень нравилось здесь, было так приятно и странно лежать при свете лампады и пить с отцом Ансельмом среди ночи подогретое сладкое вино.
– У тебя болит живот? – спросил старик.
– Нет.
– А мне показалось, что у тебя колики, Златоуст. Оказывается, ничего подобного. Покажи-ка язык. Так, хорошо, ваш старый Ансельм снова попал впросак. Завтра ты еще полежишь здесь, а я зайду и осмотрю тебя. Ну как, справился с вином? Отлично, оно пойдет тебе на пользу. Ну-ка посмотрим, не осталось ли там еще. По полбокальчика на брата наберется, если разделить по-честному… Ну и напугал же ты нас, Златоуст! Лежишь в крытой галерее, словно мертвец. У тебя действительно не болит живот?
Они рассмеялись и честно поделили остаток больничного вина, отец Ансельм отпускал свои шуточки, а Златоуст благодарно и весело смотрел на него снова посветлевшими глазами. Затем старик ушел спать.
Златоуст еще какое-то время лежал без сна, из глубины снова стали медленно всплывать образы, снова вспыхнули слова друга, и снова возникла в его душе белокурая сияющая женщина – мать; ее образ овевал его, как теплый фён, как облако, полное любви, тепла, нежности и сердечного зова. О мама! Как могло случиться, что я забыл тебя!