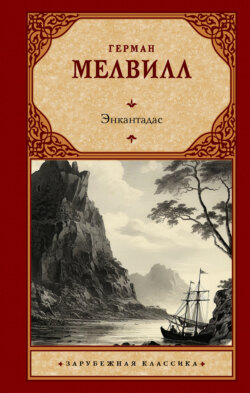Читать книгу Энкантадас - Герман Мелвилл, Герман Мелвилл - Страница 12
Тайпи
XI
ОглавлениеСложными и противоречивыми были мысли, одолевавшие меня в те безмолвные часы, что последовали за событиями, описанными в предыдущей главе. Тоби, измученный путешествием, спал подле меня тяжелым беспробудным сном; но мне неотступно терзавшая боль не давала сомкнуть глаз, и все немыслимые сложности нашего теперешнего положения сохраняли для меня пугающую реальность. Возможно ли, что мы после всех мук и лишений действительно попали в ужасную долину Тайпи и находимся в руках ее жителей, свирепого, беспощадного дикарского племени?
Тайпи или Хаппар? Я содрогался, сознавая, что никаких сомнений больше не было, что мы пропали, что с нами случилось именно то, о чем одна лишь мысль еще недавно внушала нам такой ужас. Что нас ждало теперь? Правда, до сих пор ничего плохого нам не сделали, наоборот, нас приняли радушно и любезно. Но можно ли полагаться на переменчивые страсти, пылающие в груди дикаря? Его непостоянство и коварство общеизвестны. Что, если под этой любезной внешностью островитяне скрывают какой-нибудь кровожадный замысел и дружелюбный прием их – всего лишь прелюдия к жестокой расправе? Всю ночь меня неотступно преследовали ужасные опасения, и я лежал без сна на ложе из циновок, а справа и слева от меня смутно темнели спящие фигуры тех, кого я так боялся.
Под утро среди этих страшных мыслей я забылся тревожной дремотой; мне приснился какой-то жуткий сон, и я, вздрогнув, проснулся: прямо надо мной склонялись возбужденные дикарские лица.
Было уже совсем светло; я увидел, что в дом набилось множество молодых женщин в пышных уборах из цветов, и они-то и разглядывали меня с детским восторгом и интересом, живо отражавшимся на их физиономиях. Разбудив также и Тоби, они уселись в кружок на циновки и дали волю любопытству, каким с незапамятных времен славился прекрасный пол.
Над этими резвыми молодыми созданиями не было никакого надзирающего ока, и они вели себя совсем безыскусно, нимало не заботясь о сдержанности и приличии. Нас почтили таким пристальным и тщательным разглядыванием и так при этом искренне веселились, что я чувствовал себя последним дураком, а Тоби подобная бесцеремонность привела в совершенную ярость. В то же время юные леди держались с отменной любезностью и вниманием: отгоняли от нас мух, одаривали разными угощениями и от души сочувствовали мне в моих недугах. Однако, несмотря на все их льстивые уловки, мое чувство благопристойности было глубоко оскорблено – я был убежден, что они нарушают неоспоримые законы скромности.
Навеселившись вволю, наши прелестные гостьи удалились, и на смену им стали появляться группы мужчин, сменявшие один другого чуть не до полудня, когда, пожалуй, бо`льшая часть обитателей долины с нашего милостивого согласия уже искупалась в лучах нашей славы.
Наконец толпа посетителей поредела, и у входа появилась могучая фигура какого-то воина, он пригнул украшенную высоким убором из перьев голову и вошел. По тому, с каким почтением встретили его туземцы, с какой поспешностью расступились перед ним, я сразу понял, что это – важное лицо. Вид его был величав. Над головой из густой шапки коротких пестрых перьев колышущейся аркой вздымались длинные хвостовые перья какой-то тропической птицы, вставленные в шитый бисером обруч, который стягивал ему лоб. Шею обвивало в несколько нитей тяжелое ожерелье из кабаньих клыков, отполированных, как слоновая кость, и нанизанных в таком порядке, чтобы самые длинные и большие лежали посреди его широкой груди. А сквозь огромные отверстия в мочках ушей торчали два покрытых мелкой замысловатой резьбой кашалотовых зуба корневыми впадинами вперед, и в них вставлены были свежие листья. Эти варварские серьги, украшенные зеленью с широкого конца и заканчивающиеся изогнутыми остриями, очень напоминали два маленьких рога изобилия.
Чресла воина были препоясаны тяжелыми складками тапы с кистями спереди и сзади, а руки и ноги его украшали браслеты из человеческих волос, довершавшие роскошный наряд. В правой руке он держал красивое резное копье-весло без малого пятнадцати футов длиною, вырезанное из полированного дерева коар: на одном конце его было смертоносное острие, а на другом – плоское расширение вроде лопасти весла. На поясе в петле из лианы наискось висела богатая трубка; тонкая тростинка черенка была выкрашена красной краской и увита, так же как и чашечка, изображавшая какого-то идола, лентами прозрачной тапы.
Но всего примечательнее в наружности этого превосходного воина была изощренная татуировка, покрывавшая с головы до ног все тело. Всевозможные линии, завитки и геометрические фигуры испещряли его кожу, замысловатым многообразием напоминая разве что сложные узоры дорогих кружев. Самый простой и удивительный орнамент украшал его лицо. Татуировка шла двумя широкими полосами, которые расходились от бритой макушки наискось, захватывая глаза, покрывая веки и оканчиваясь пониже ушей, где они сливались с нижней прямой полосой, которая тянулась через рот, образуя основание своего рода треугольника. Этот воин, судя по великолепному сложению, безусловно, принадлежал к высшему сословию природы, и возможно, что рисунок на его лице как раз и был знаком такового отличия.
Грозный гость молча уселся неподалеку от нас с Тоби, и остальные дикари стали выжидательно и нетерпеливо поглядывать то на него, то на нас. Между тем внимательно присматриваясь к лицу вождя и восхищаясь его разрисовкой, я нашел, что черты его мне отдаленно знакомы. И только когда он обратил прямо ко мне свои заштрихованные глаза, я узнал неподвижный загадочный взгляд, под которым мне было так не по себе вчера, – передо мной сидел Мехеви, хотя и преображенный. Я назвал его по имени. Он сейчас же подошел ко мне с самым дружеским видом, очень довольный тем впечатлением, какое произвел на меня его варварский убор.
Тогда-то я и решился во что бы то ни стало завоевать расположение почтенного вождя, чувствуя, что он обладает властью над соплеменниками и что дальнейшая наша судьба во многом зависит от него. Он отнесся ко мне благосклонно, выказывая в общении со мною и моим товарищем дружелюбие необычайное. Растянувшись могучим телом на полу подле нас, он всячески старался выразить свои к нам добрые чувства. А из-за того, что изъясняться друг с другом мы почти не могли, горю его не было предела. Он дал нам понять, что всем сердцем жаждет просветиться относительно обычаев и порядков, царящих в той далекой стране, из которой мы, по его мнению, прибыли и которую он многократно поминал в своих речах под именем Маника.
Но всего более его занимали «франи», как он называл французов, стоящих в бухте Нукухива. Эта тема была неисчерпаема, он мог расспрашивать о них без конца. Но мы сумели только ему сообщить, что в то время, когда мы покинули территорию их врагов, в гавани стояло шесть французских военных кораблей. Услышав это известие, Мехеви с помощью пальцев произвел ряд сложных подсчетов, очевидно выясняя, сколько всего французов в эскадре.
В самый разгар этих математических операций Мехеви вдруг заметил мою распухшую ногу. Он тут же осмотрел ее с величайшим вниманием и немедленно отправил с каким-то поручением оказавшегося поблизости мальчика.
По прошествии некоторого времени юнец возвратился в сопровождении дряхлого старца – настоящего туземного Гиппократа. Голова его была гола, как скорлупа кокоса, каковую в точности напоминала также цветом и лоском, длинная седая борода свисала до самого пояса. На лбу лежал венок, свитый из листьев дерева ому, листья спускались прямо на глаза, защищая, вероятно, его слабое зрение от ослепительных лучей солнца. По-старчески семеня, он опирался на длинный тонкий посох, напоминавший мне волшебный жезл, с каким у нас выходят на сцену театральные колдуны. В другой руке он держал зеленый веер из только что сплетенных молодых кокосовых побегов. А с плеч его свободными складками свисала разноцветная мантия из тапы, придавая особое величие его согбенной фигуре.
Мехеви приветствовал старца и, усадив его между собой и мной, открыл ему мою ногу и пригласил начать осмотр. Знахарь перевел с меня на Тоби испытующий взгляд, а затем приступил к делу. Внимательно оглядев мою многострадальную конечность, он перешел к ощупыванию и, полагая, видимо, что опухоль сделала ее совершенно нечувствительной, стал мять ее и щипать с такой силой, что я буквально взвыл от боли. Я решил, что щипками и шлепками я и сам могу лечиться, и попробовал отклонить его услуги. Но вырваться из когтей старого чародея оказалось нелегко – он вцепился в мою ногу, будто всю жизнь только о ней и мечтал, и, бормоча какие-то заклинания, продолжал свое черное дело, барабаня по ней так, что я едва с ума не сошел от боли, а тем временем Мехеви, руководствуясь, очевидно, такими же соображениями, по каким любящая мамаша удерживает свое орущее чадо в зубоврачебном кресле, заключил меня в могучие объятия, предоставляя злодею продолжать свои пытки.
Ошалев от ярости и боли, я вопил как полоумный, а Тоби, словно искусный танцор и мим, пытался жестами и гримасами выразить туземцам свой гневный протест против такого обращения – движимый состраданием и тщась положить конец моим мукам, он являл собою воплощенную азбуку глухонемых. Наконец, то ли мой мучитель внял убеждениям Тоби, то ли просто выбился из сил, не знаю – он вдруг прекратил эту лечебную процедуру, Мехеви при этом разжал объятия, и я повалился на пол, измученный и задыхающийся после перенесенных страданий.
Несчастная моя нога была теперь приблизительно в таком же состоянии, как отбивная котлета, перед тем как попасть на сковороду. А лекарь, передохнув и, видимо, желая загладить свою вину передо мной, извлек теперь какие-то травы из висевшего у него на поясе мешочка и, размочив их в воде, стал прикладывать к моей воспаленной конечности, наклоняясь при этом над нею и не то шепча некие заклинания, не то ведя продолжительную задушевную беседу со злым духом, расположившимся на жительство у меня в лодыжке. Когда нога моя была основательно запеленута листьями, я, посылая хвалу Богу по случаю окончания военных действий, был с миром отпущен на свободу.
Вскоре Мехеви собрался уходить, но, перед тем как нас покинуть, он что-то приказал одному из туземцев, которого назвал Кори-Кори, и, насколько я мог уразуметь, поручил меня ему как человеку, чья обязанность отныне – ухаживать за моей особой. А может быть, я тогда еще ничего не уразумел, и только последующее поведение моего верного телохранителя убедило меня, что речь шла именно об этом.
Мне все-таки смешно было, когда почтенный вождь обратился ко мне с длинной речью и торжественно говорил, наверное, минут двадцать, как будто я понимал хоть одно его слово. Такую странность я замечал впоследствии за многими туземцами.
Наконец Мехеви ушел, удалился и престарелый врачеватель, и на закате мы с Тоби остались только в обществе тех десяти – двенадцати человек, которые, как мы поняли, вместе с нами составляли население этого дома. А поскольку в этом доме я жил все время, пока оставался в долине, и, естественно, был с его жителями в самых близких отношениях, будет, пожалуй, весьма кстати, если я опишу всех домочадцев. Тем самым можно получить некоторое представление вообще о жилищах в долине и ее обитателях.
Примерно на половине склона, поросшего густой зеленью, в несколько слоев уложены большие камни, образуя ровную площадку футов в восемь высотой, отвечающую контурам расположенного на ней дома, но несколько шире, особенно перед входом, где таким образом получается обнесенная оградой из прутьев своего рода узкая веранда. Туземцы называют это каменное сооружение пай-пай. Каркас самого дома составляют укрепленные отвесно толстые бамбуковые стойки с распорками из легких прутьев хибискуса, прихваченных лыковыми тяжами. Задняя стена строения, сплетенная из кокосовых ветвей так, что их листья хитрым образом перемежаются с прутьями, слегка наклонена наружу и подымается над уровнем пай-пай футов, наверное, на двадцать, откуда начинается односкатная крыша из длинных заостренных пальмовых листьев, которая круто спускается на переднюю стену и обрывается в пяти футах от пола. Концы кровельных листьев свисают со стрехи кистями по всему фасаду – изящно плетенной решетке из легкого блестящего тростника, перевитого разноцветной травой. Торцовые стены тоже решетчатые. Таким образом весь дом с трех сторон открыт и при этом совершенно непроницаем для дождя. В длину наше живописное жилище имело, наверное, двадцать ярдов, а в ширину – едва ли двадцать футов.
Таков был наружный вид этого строения, напоминавшего мне своими плетеными стенами обнесенный железной сеткой птичий двор.
Внутрь через низкое и узкое отверстие входили пригнувшись, и прямо перед вами оказывались два ровных и длинных – во всю длину дома – кокосовых ствола: один лежал вплотную у задней стены, другой – на два шага отступя, и все пространство между ними завалено пестрыми циновками самых разных цветов и узоров. Это было общее ложе, нечто вроде восточного дивана. Здесь туземцы спали ночью и возлежали в блаженном безделье бо`льшую часть дня. В остальной части дома пол блестел холодными каменными плитами, из которых слагалась пай-пай.
Со стропил свисали разнообразной величины свертки из грубой тапы – в них хранились праздничные одеяния и другая одежда, высоко местными жителями ценимая. Доставали все это благодаря простейшему приспособлению с веревкой: одним ее концом был обвязан сверток, а другой, пропущенный через стропило, тянулся к боковой стене, где и закреплялся так, чтобы без труда можно было поднять или опустить все, что висело под потолком.
На задней стене были живописно развешаны всевозможные копья, дротики и другие предметы военного обихода. Снаружи на площадке перед домом стоял небольшой сарайчик – своего рода кладовка, где хранилась хозяйственная утварь, и еще чуть подальше под большим навесом из кокосовых листьев готовили пои-пои и производились все прочие кулинарные действа.
Таков был этот дом со всеми служебными пристройками – нельзя не согласиться, что для жителей острова более подходящего и удобного жилища по тому климату не придумаешь. В нем было прохладно, безупречно чисто и вдоволь свежего воздуха, а каменная площадка поднимала его над сыростью и грязью земли.
Каковы же были его обитатели? Здесь я позволю себе первое место уделить моему умелому и верному слуге и опекуну Кори-Кори. Поскольку характер его будет постепенно раскрываться в ходе моего повествования, я ограничусь лишь наброском его наружности. Кори-Кори, этот, безусловно, самый преданный и самый добродушный человек на свете, был, увы, с виду настоящее страшилище. Лет двадцати пяти от роду, крупный и здоровый, он тем не менее выглядел просто черт знает как. Его круглый череп был весь выбрит наголо, кроме двух небольших участков по обе стороны макушки, – из них росли волосы необычайной длины, закрученные в тугие торчащие узлы, из-за чего казалось, будто голова его украшена парой черных рогов. Борода на всем лице была выщипана с корнем и только свисала двумя косицами с верхней губы и двумя – с углов подбородка.
Но Кори-Кори, желая, видимо, внести дальнейшие усовершенствования в дела природы и прибавить себе обаяния, счел необходимым украсить свою физиономию тремя широкими меридиональными полосами татуировки, и они, подобно проселочным дорогам, которым никакие неровности и преграды нипочем, проходили прямо по его носу, ныряли в глазницы и чуть ли не залезали в рот. Каждая пересекала лицо от уха до уха – одна на уровне глаз, другая – через нос, третья – перекрывая губы. Физиономия его, перетянутая татуировкой, как бочка тремя обручами, всегда напоминала мне тех несчастных, что с тоской глядят на мир сквозь тюремную решетку, тогда как тело моего дикого камердинера, сверху донизу испещренное изображениями птиц, рыб и всевозможных небывалых существ, наводило на мысль о музее естественной истории или же об иллюстрированном издании голдсмитовской «Одушевленной природы».
Впрочем, разве не бессердечие это с моей стороны так писать о бедном островитянине, неустанным заботам которого я, быть может, обязан жизнью? Кори-Кори, я ничего обидного не хочу сказать о твоей наружности, просто вид твой для моего непривычного глаза был странен, потому я о нем и распространился. Но забыть или недооценить твою верную службу – в этом я никогда не буду повинен, какие бы головокружительные перемены со мной в жизни ни происходили.
Отцом приставленного ко мне оруженосца был человек великанского телосложения, славившийся некогда сказочной силой. Но теперь его могучий торс поддался разрушительным набегам времени, хотя рука болезни ни разу, я думаю, не коснулась престарелого воина. Мархейо – так его звали – удалился от участия в делах обитателей долины, почти никогда не сопровождал их в бесчисленных походах и едва ли не все время был занят сооружением какой-то лачуги за домом – у меня на глазах он прокопался там четыре месяца без каких-либо заметных результатов. Боюсь, что он впал в детство, во всяком случае я замечал за ним немало признаков, характерных для этой стадии нашей жизни.
Помню в особенности, как он возился с парой драгоценных ушных украшений из зубов какого-то морского зверя. Он втыкал их и вынимал по меньшей мере пятьдесят раз на день, для чего неизменно удалялся в свою лачугу и с безмятежным видом возвращался назад. Иной раз, вставив их в отверстия в мочках ушей, он хватал свое копье – легонькое и тонкое, как удилище, и расхаживал по соседним рощам, словно каннибальский странствующий рыцарь, ищущий встречи с достойным противником. Но скоро ему это наскучивало, он возвращался и, засунув копье в углубление под стрехой и закатав чудовищные серьги в кусок тапы, снова принимался за свое мирное занятие, будто и не прерывая его.
Впрочем, несмотря на подобные чудачества, Мархейо был человек в высшей степени славный и добросердечный, в этом отношении очень похожий на своего сына Кори-Кори. Главой дома была мать Кори-Кори, дама весьма почтенная и замечательно искусная, трудолюбивая хозяйка. Если джемы, повидла, пироги, кексы, запеканки и тому подобную ерунду она, быть может, делать не умела, зато превосходно разбиралась в кулинарных тайнах изготовления эймара, пои-пои, коку и других вкусных и питательных блюд. Целые дни она хлопотала и суетилась, словно добрая деревенская тетушка, к которой нежданно нагрянули гости: давала поручения девушкам, нередко так и остававшиеся невыполненными, залезала во все углы, копалась в узлах старой тапы или же подымала невообразимый шум, грохоча тыквенными мисками. Ее можно было видеть то сидящей на корточках над деревянным корытом и занятой приготовлением пои-пои – она с такой энергией колотила каменным пестом, что казалось, корыто сию минуту разлетится вдребезги; то она носилась по долине в поисках какого-то особого листа, необходимого ей для таинственных манипуляций, и возвращалась, задыхаясь и обливаясь потом под тяжестью набитого мешка, который всякую другую женщину давно свалил бы с ног. Честно сказать, мамаша Кори-Кори была единственным работящим человеком на всю долину Тайпи; она не могла бы трудиться больше и усерднее, даже будь она жилистой вдовой без средств к существованию и с целым выводком голодных детей где-нибудь в цивилизованной стране. Труды этой старой женщины, как правило, не вызывались ни малейшей необходимостью; ее побуждала работать, по всей видимости, некая внутренняя потребность, и ее руки постоянно ходили туда-сюда, туда-сюда, словно в теле у нее был запрятан неутомимый моторчик, приводивший его в безостановочное движение. И при этом она вовсе не была какой-нибудь там сварливой мегерой – отнюдь нет. У нее было добрейшее сердце, и со мной она обращалась совсем по-матерински: то и дело, глядишь, пихнет в руку кусок полакомее, какую-нибудь туземную сласть или печенье, будто любящая мамаша, пичкающая тартинками и цукатом свое избалованное чадо. Поистине сладостны мои воспоминания о доброй, милой, любящей Тайнор!
Помимо перечисленных мною лиц к этой семье принадлежали еще три молодых человека, три весьма беспутных юных дикаря – гуляки и лоботрясы, которые заняты были только амурами, попойками да курением табака в обществе таких же, как они сами, шалопаев.
Было также среди постоянных обитателей дома несколько очаровательных девушек, которые, вместо того чтобы бренчать на фортепьяно и читать романы, как другие, более просвещенные юные леди, занимались рукоделием, вырабатывая особо тонкий сорт тапы; а впрочем, бо`льшую часть времени они тратили на то, что порхали от дома к дому и отчаянно, беззастенчиво сплетничали.
Однако из их числа я должен выделить прелестную нимфу Файавэй, мою любимицу. Ее гибкое подвижное тело было воплощенным идеалом женской грации и красоты. Нежное лицо то и дело заливала краска, и я, любуясь ее разгоряченными щеками, не раз готов был поклясться, что различаю сквозь полупрозрачный покров смуглоты игру настоящего ярко-красного румянца. Овал ее лица был безукоризнен, и каждая черта была совершенство, какого только может пожелать мужское воображение. Полные губы, раздвигаясь в усмешке, обнажали зубы ослепительной белизны, а когда розовый рот широко открывался в хохоте, они казались молочно-белыми зернышками арты – туземного плода, в котором, когда его разрежешь, видны ряды зерен, покоящихся в сочной, сладкой мякоти. Волосы, темно-каштановые, рассыпающиеся непринужденно на обе стороны природными локонами, ниспадали на плечи и, стоило ей нагнуться, закрывали живой завесой ее прелестную грудь. Синие, странные глаза, как ни засматривай в их бездонную глубину, казались загадочно-безмятежными, когда она была в задумчивости; но, вспыхнув живым чувством, они сияли и лучились, как звезды. Ручки Файавэй были мягки и нежны, как у графини, ибо девы и юные жены в долине Тайпи совершенно не занимаются черной работой. Ее крохотные ножки, хоть и не знающие обуви, изяществом и красотой не уступали тем, что выглядывают из-под шуршащих подолов светских дам Эквадора. А кожа этого юного создания, от беспрестанных омовений и умащиваний, была дивно гладкой и шелковистой.
Быть может, в изображении отдельных черт Файавэй я и добьюсь некоторого успеха, но мне никогда не передать – нечего даже и пытаться – той общей прелести ее облика, в которую они слагались. Никакими словами не выразить свободную, естественную грацию и красоту, которой блистало это дитя природы, с младенчества выросшее здесь, в краю вечного лета, вскормленное простыми плодами земли, не ведавшее забот и печалей и никогда не подвергавшееся разного рода вредным воздействиям. Образ этот – не фантазия, я писал по самым живым и ярким воспоминаниям, которые сохранил о той, чей портрет пытался здесь набросать.
Если бы меня спросили, была ли восхитительная Файавэй совершенно не тронута обезображивающей печатью татуировки, я вынужден был бы отвечать отрицательно. Но исполнители этого варварского ритуала, с такой беспощадностью испещрявшие своими узорами мускулистые тела воинов, очевидно, понимали, что прелести юных дев долины мало нуждаются в их искусстве. Женщины там вообще не сильно татуированы, а Файавэй и ее подружки – гораздо меньше, чем те, кто превосходили их годами. Причину этого я объясню ниже. Татуировку моей нимфы нетрудно описать. На верхней и нижней губке у нее чернели по три точки, не более булавочной головки величиной и с недалекого расстояния неразличимые. А на плечах, от самой шеи, были проведены по две параллельные линии, в полудюйме одна от другой и дюйма, наверное, в три длиною, и между ними – какие-то тонко выполненные фигуры. Эти две вытатуированные на плечах полоски всегда напоминали мне погоны золотого шитья, которые носят на плечах вместо эполет офицеры, когда они не при параде, для обозначения своего высокого ранга.
И больше никакой татуировки на коже Файавэй не было – святотатственная рука, как видно, дрогнула и не имела дерзости продолжить начатое надругательство.
Но я еще не описал туалетов, которые носила эта нимфа долины Тайпи.
Файавэй – я вынужден это признать – отдавала постоянное предпочтение простому летнему наряду по райской моде. Но как к лицу был ей такой костюм! Он самым наивыгоднейшим образом подчеркивал линии ее фигуры и как нельзя лучше соответствовал особенностям ее наружности. В будни она бывала одета в точности так же, как та пара юных дикарей, которые первыми повстречались нам в долине. Иногда, гуляя в рощах или отправляясь с визитами к знакомым, она надевала тунику из белой тапы, ниспадавшую от пояса чуть пониже колен. А когда ей долгое время приходилось бывать на солнце, она неизменно защищалась от его лучей широким покрывалом из той же материи, свободно охватывающим плечи. Ее парадный туалет я опишу ниже.
Подобно тому как красавицы в нашей стране любят унизывать себя всевозможными драгоценностями, втыкая их в уши, навешивая на шею, надевая на запястья, Файавэй и ее подружки также имели обыкновение украшать себя.
Флора была их ювелиром. Они носили ожерелья из красных гвоздик, нанизанных – точно рубины на нить – на волоконце тапы, или втыкали в уши белые бутоны, и сложенные в шарик нежные лепестки светились и переливались, как зерна чистейшего жемчуга. На голову они надевали венки, сплетенные из листьев и цветов, напоминавшие маленькие короны – трилистники британских герцогинь; и руки и ноги им нередко украшали также свитые из цветов и зелени браслеты и кольца. Девушки на этом острове вообще питали страсть к цветам, и им никогда не наскучивало украшать себя – прелестная черта, о которой ниже вскоре пойдет речь опять.
Хотя Файавэй, по крайней мере в моих глазах, была прекраснейшей из женщин в долине Тайпи, тем не менее ее портрет, который я здесь набросал, может в какой-то мере дать понятие чуть ли не обо всех живущих там юных представительницах прекрасного пола. Суди же сам, о читатель, что это были за божественные создания!