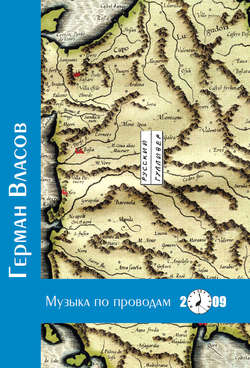Читать книгу Музыка по проводам - Герман Власов - Страница 2
Сон простого человека
ОглавлениеНет ничего важнее смелости. Поэт – беспечный дуэлянт, поплевывающий вишневыми косточками под пистолетом судьбы. Стих – яблоко Вильгельма Телля, слушающее веселый посвист времени.
«Вкус березовый голос любимый / леденцовое сердце в груди…»
Конечно, так может сказать только поэт. Не подражатель в краденном пиджачке на плечах, не растерявшийся, сбитый с толку модернист, мечущийся очумелым зайцем по кочкам современности, – а человек, услышавший однажды свою ноту и пошедший за ней, увидевший сон и поверивший ему.
Я не знаю, как назвать то лирическое направление, к которому можно отнести стихи Германа Власова, но это, безусловно, катакомбная поэзия, своего рода «христианство» (то есть самоограничение) в мире языческой экспансии вещей и страстей.
… живи, спасайся понемногу,
расти детей, люби цветы
и, убоявшись наготы,
покрой главу, ревнуя к Богу, —
не обещай, что будешь весь
в отеческих ладонях взвешен, —
но отметай юдоли лесть,
и приноси, как смирну, весть
сирени, яблони, черешен.
Чувствительность, растроганность, умиление свойственны этим стихам. Инстинктивное желание спрятаться от мира в мире простых вещей – чашек, ледышек, словарей, цветка в стакане, воробьиного пуха. Притяжение по родству – к «ветхой простоте» Светланы Кековой, к жалостливым ангелам Венечки Ерофеева. Важная роль форточки, как средства сообщения с наружным миром (как тут не вспомнить Пастернака – «в кашне, ладонью заслоняясь»).
Детскость этого «леденцового сердца» – детский испуг, «детская веселость», поля «в детской зеленке». «Все большое далёко развеять, из глубокой печали восстать…» (Мандельштам).
Готовность склониться в чужую тень, приступы одиночества.
Утешит человека
Не божия, но женская рука.
Поиски необходимой сердцу идиллии, вечная надежда обрести ее в природе.
Зимою зябнуть, летом ворковать.
Под яблоней себе стелить кровать,
и облака считать на небе синем.
Чем мы не птицы, чем не сизари?
Натренированный взгляд поэта, отмечающий в деревне – шарик, отвинченный с эмалированной кровати, по-жабьи раскрытый кошелек, гладкость ландышевого листа, на поминках – «шатающиеся чужие стулья». Гармония, достигаемая в соединении будничных вещей, – и не только в защищенном микрокосмосе комнаты, но и, например, в хаосе лужковской Москвы.
На родине носят пальто и платки,
в растроганном небе волос завитки,
глаза, полудетские губы,
на родине дальней и грубой.
Ещё назиданья, сугробы и псы,
унылые зданья и звуки попсы
Германии или Ямайки,
а рядом – рука попрошайки.
Весна и в ресницах кошачьих ветла,
затёртая книжка, округлость стола,
страница, отмечено красным.
А в форточке – влажно и ясно.
Гуляют ручьи, растворяется страх,
прозрачные руки берут за рукав,
за хлястик и в спину толкают.
Наверно, погода такая,
что я, как блаженный, сощурясь хитро,
иду на пустырь, где копают метро,
и пахнет родною и дикой,
прозрачной ещё Эвридикой.
Таковы некоторые черты этой поэтики – в чем-то весьма старомодной (несмотря на отсутствующую во многих стихах пунктуацию), в чем-то метасовременной – то есть перешедшей моду, ушедшей дальше. Может быть, именно туда и пролег путь современной души – не к бешеным центрифугам успеха и гордыни, испытывающим ее на разрыв, а к соседнему скверу, где нас снова ждет на скамейке бедная Лиза?
Г. Кружков