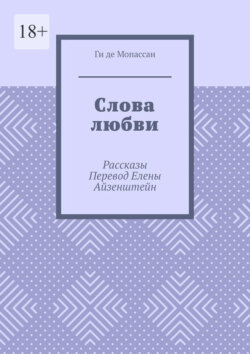Читать книгу Слова любви. Рассказы. Перевод Елены Айзенштейн - Ги де Мопассан - Страница 2
Мадмуазель Фифи
ОглавлениеМайор, прусский командир, граф Фарльсберг, прекратил читать свою почту, спиной уйдя в глубину обитого гобеленом кресла; его ноги в сапогах со шпорами, на элегантном мраморе камина, где в течение трех месяцев он занимал замок Дувиль, оставили два глубоких следа, делавшиеся с каждым днем все больше. Сигара и чашка кофе дымились на испачканном ликером столе, с зазубринами, сделанными ножом офицера-захватчика1, который иногда останавливался здесь, чтобы подточить карандаш, по воле беспечной фантазии вычерчивая на изящной мебели цифры или рисунки. Когда он закончил письма, он пролистал немецкие газеты, которые только что принес офицер, поднялся, бросил в огонь три-четыре огромных куска зеленого дерева (ибо эти мосье понемногу вырубали парк, чтобы согреться) и приблизился к окну.
Дождь лил потоками, нормандский дождь, о котором говорят, что он брошен рукой в ярости, косой дождь, широкий, как занавес, создающий вид косой стены, едкий дождь, брызгами, топящий все вокруг, настоящий дождь руанских окрестностей, этот ночной горшок Франции.
Майор долго смотрел на затопленные газоны; а дальше, вздуваясь, Л’Анделль2 поднималась до краев; он настукивал на окне Рейнский вальс, когда, услышав шум, обернулся; это был его помощник, барон Кельвайнгштайн, имевший звание, равное званию капитана.
Майор был великаном, широким в плечах, украшенным веерообразной широкой бородой, формировавшей скатерть на его груди; и вся эта огромная торжественная личность пробуждала мысль о военном павлине, павлине, несущем свой хвост и распускающего его на подбородке. Голубые глаза, холодные и нежные, разрезанная ударом сабли на австрийской войне щека, – всё говорило о нем как о смелом человеке и бравом офицере.
Капитан, немного рыжий, с большим животом, стянутым тугими подтяжками, со своим почти огненным румянцем, заставлял верить в сыновей огня, когда они находились под некоторыми отражениями; его фигура была словно натерта фосфором. Два зуба были потеряны в первую брачную ночь, он не вспоминал, как это случилось, но из-за этого он выплевывал плотные слова, которые не всегда были слышны; на верху черепа он был просто лыс, подстрижен, как монах, с маленькой копной стриженных курчавых волос, золотившихся и блестевших вокруг обруча обнаженной плоти.
Командир пожал ему руку, одним махом проглотив чашку кофе (шестую за утро), слушая рапорт своего подчиненного об инциденте, случившемся в дежурство; потом оба приблизились к окну, решив, что это невесело. Майор был человек спокойный, женатый, приспособившийся ко всему; а барон, капитан, неуступчивая живость, бегун в движении, бешеный ловец женщин, возмущался заточённостью в течение трех месяцев, обязанностью хранить целомудрие на этой забытой богом должности.
Поскольку стучали в дверь, командир велел открыть ее, и человек, с своими солдатами-автоматами появился в открытой двери, сказав, что завтрак уже готов.
В зале для обедов они нашли трех офицеров меньшего звания: лейтенанта Отто де Кросслинга, двух младших лейтенантов: Фрица Шеунаубурга и маркиза Вильгельма Д’Eйрика, маленького блондина, гордого и грубого с людьми, твердого с побежденными, яростного, как огнестрельное оружие.
С момента вторжения во Францию они называли его мадмуазель Фифи. Это имя он получил из-за кокетливого зада, тонкой талии, о которой говорили, как в корсете, из-за бледного лица, где зарождавшиеся усы только намечались, а также от привычки, которую тот приобрел, выражая благородное презрение к существам и к вещам, постоянно используя французское междометие «фи-фи», произносившееся им с легким свистом.
Столовая замка Дувиль была длинной королевской комнатой, в которой лед старого стекла, звезды шаров и высокие ковры Фландрии, изрезанные ударами сабель, висящими на местах, говорили о занятиях мадмуазель Фифи в часы праздности.
На стенах – три семейных портрета: воина в доспехах, кардинала и президента, куривших фарфоровые трубки, тогда как в раме, очищенной от вороха лет, благородная плотногрудая дама с высокомерием показывала огромную пару усов, сделанных углем.
В этой искалеченной комнате, потемневшей от ливня, опечаленной своим побежденным видом, в которой старый дубовый паркет стал похож на крепкий паркет какого-нибудь кабаре, завтрак офицеров прошел почти в полном молчании.
В час курения, когда стали выпивать и перестали есть, они начали, как и каждый день, говорить о своей скуке. Бутылки коньяка и ликера передавались из рук в руки. И все они, опрокинув свои стулья, впитывали постоянно повторявшиеся толчки сидящих в уголках рта длинных изогнутых трубок, каждая из которых заканчивалась фаянсовым яйцом, всегда живописным, соблазнявшим готтентотов3.
Когда их стаканы опустошались, усталым жестом они наполняли их снова. Но мадмуазель Фифи свой в этот момент разбивал, и солдат подавал ему другой стакан.
Они тонули в едком тумане курева и, казалось, погружались в печальное, сонное пьянство, в мрачное пьянство людей, которые ничего не делают.
Но вдруг барон выпрямился. Возмущение охватило его, он произнес: «Именем Бога, это не может так продолжаться, нужно придумать что-то, наконец».
Одновременно лейтенант Отто и младший лейтенант Фриц, два нежных пруса, в высшей степени с серьезными и тяжелыми физиономиями, спросили: «Что, мой капитан?»
Он размышлял несколько секунд, потом добавил: «Что? Нужно организовать праздник, если командир позволит».
Майор бросил свою трубку: «Что за праздник, капитан?»
Барон приблизился: «Я обо всем позабочусь, мой командир. Я отправлю в Руан Задание, чтобы нам привезли дам. Я знаю, где их взять. Приготовим здесь ужин; ни в чем не будет недостатка, по крайней мере, мы проведем хороший вечер».
Граф Фальсберг пожал плечами, улыбнувшись: «Вы безумец, мой друг».
Но все офицеры поднялись, окружив своего шефа, и стали умолять: «Пусть капитан все устроит, командир, здесь так печально».
Наконец, командир уступил. «Ладно, – сказал он, – раз барон называет это Заданием». Пожилой младший лейтенант, которого никогда не видели смеющимся, фанатически исполнял все распоряжения шефа, какие бы они ни были. Стоя с бесстрастным лицом, он получил инструкции барона, затем вышел, а через пять минут большая повозка из числа военных, куполообразно покрытая мельничным брезентом, запряженная четверкой лошадей, выехала.
Трепет пробуждения сразу же пробежал в душах. Вялые позы преобразились, лица задвигались, и начались разговоры.
Несмотря на то что что ливень продолжался с прежней яростью, майор утверждал, что он сделался не такой сильный, и лейтенант Отто убежденно объявил, что небо проясняется. Мадмуазель Фифи, казалось, не стоял на месте. Он поднялся, а потом сел. Его ясный и решительный взгляд искал чего-нибудь твердого, чтобы сломать. Вдруг, остановив взгляд на усатой даме, молодой блондин выстрелил из своего револьвера. «Ты не увидишь самой себя», – сказал он и, не покидая своего места, выстрелил. Две пули успешно прошли в два глаза портрета.
Потом он воскликнул: «Сделаем мину!» И вдруг разговор прервался, как будто всех охватил новый властный интерес.
Мина, собственное его изобретение, в его разрушительной манере, была предпочтительным развлечением Фифи.
Покинув замок его законный владелец, граф Фернанд Д’Амуа Дувиль, не имел времени ничего вывезти или спрятать, за исключением зарытого в дыру стены серебра. Поскольку замок был очень богатый, превосходный, его большая гостиная, выходившая дверью в столовую, до поспешного бегства хозяина имела вид музейной галереи.
Со стен смотрели полотна, рисунки и ценные акварели, тогда как мебель, этажерки, элегантные витрины, тысячи безделушек: ваз, статуэток, человечков из саксонского фарфора, китайских обезьянок, старинная слоновая кость и венецианское стекло – ценной и странной толпой населяли огромные апартаменты.
Теперь почти ничего не осталось. Не то чтобы их разграбили, майор, граф де Фальсберг не позволил бы; но мадмуазель Фифи время от времени делал мины, и все офицеры в такой день пять минут по-настоящему веселились.
Маленький маркиз пошел в гостиную поискать, из чего он может сотворить мину. Он принес малюсенький китайский заварочный чайник семьи Роз, который наполнил порохом, и в носик он аккуратно ввел широкий кусочек трута, поджег и бросил эту адскую машину в соседнюю комнату.
Потом он очень быстро вернулся и закрыл дверь. Все прусы, стоя с детскими улыбками любопытства, ждали; и взрыв потряс замок, все вместе они бросились наземь.
Мадмуазель Фифи, войдя первым, безумно стучал руками перед терракотовой Венерой, чья голова, наконец, свалилась, и каждый поднял кусочек фарфора, удивляясь странным кружевным обломкам, оставленным взрывом, проверяя новые убытки, оспаривая некоторые разрушения, как продукт предшествовавшего взрыва. Майор с отеческим видом осмотрел огромную, взволнованную и взорванную картечью Нерона гостиную с осколками объектов искусства. Он вышел первым, дружелюбно заявив: «На этот раз хорошо удалось».
Но дымовой смерч вошел в столовую, смешавшись с табаком, так что невозможно было дышать. Командир открыл окно, и все офицеры вернулись к выпивке, сгрудившись возле последней бутылки коньяка.
Влажный воздух ворвался в комнату, принеся разновидность водяной пыли, напудрившей бороды и наводнившей помещение ароматом. Они смотрели на огромные деревья, удрученные ливнем, на широкую равнину, затуманенную тяжелыми и низкими облаками, а вся колокольня видневшейся вдали церкви со стучавшим по ней дождем казалась серой точкой.
С момента их приезда колокольня больше не звонила. Более того, она одна противостояла захватчикам, эта колокольня. Кюре совершенно отказался принимать и кормить прусских солдат. Он несколько раз согласился выпить бутылку пива или бордо с вражеским командиром, который часто использовал его как доброжелательного посредника; но командир ни разу не просил того позвонить в колокол; кюре предпочел бы, чтобы его расстреляли. Это был его способ противостояния захвату, мирный протест, протест молчания, единственно возможный, как говорил он, который подходил священнику, человеку мягкому и некровожадному; и все люди, на десять лье вокруг, восхваляли стойкость и героизм аббата Шантавуа, который осмелился утверждать общественный траур, провозглашенный настойчивой немотой своей церкви.
Целая деревня, в энтузиазме противостояния, была готова до конца со всей смелостью поддерживать своего пастора, считая этот молчаливый протест сохранением национальной чести. Крестьянам казалось, что они послужили родине лучше, чем Бельфор или Страсбург, что они показали равносильный пример и имя деревушки войдет в Вечность; исключая это, они ни в чем не отказывали победившим прусакам.
Командир и офицеры – все вместе посмеялись над безвредной храбростью. И поскольку целая страна оказывала им услужливое и мягкое внимание, они охотно терпели ее молчаливый патриотизм.
Один маленький маркиз Вильгельм очень хотел силой принудить звонить в колокол. Он неистовствовал из-за политической снисходительности своего начальника к священнику и каждый день просил командира один раз сделать «Дин-дон-дон», один единственный короткий раз, чтобы хоть немного просто посмеяться. Он просил об этом с грацией кошки, с задабриванием женщины, нежным голосом обезумевшей от желания возлюбленной; но командир не уступал, и мадмуазель Фифи утешался, делая мины в замке Дувиль.
Несколько минут пять человек, собравшись в кучу, влажно дышали. Лейтенант Фриц, наконец, произнес с вязким смехом: «У этих молчаливых демозелей не будет много времени для их промената».
На этом расстались; каждый занялся своим делом, а капитан сделал основательные приготовления к обеду.
Когда с наступлением вечера они снова встретились, они принялись смеяться, видя все хорошеньким и сияющим, как в дни больших выходов, помад, парфюмов, всего свежего. Лошади командира казались менее пасмурными, чем утром, и капитан побрился, сохранив усы, которые под носом горели огнем.
Несмотря на дождь, оставили открытым окно, и один из них иногда ходил и слушал дождь. В шесть часов десять минут барон долгим оружейным раскатом дал сигнал. Все сразу бросились: большая карета примчалась, запряженная четверкой лошадей, с пометом до спины, дымящихся и свистящих.
Пять женщин спустились на перрон, пять прекрасных женщин, заботливо выбранных капитаном, который поехал, чтобы отвести карту офицеру, исполнившим Задание для товарищей.
За женщин не нужно было молиться; готовые быть хорошо оплаченными, в течение трех месяцев они знали прусских офицеров, щупавших их, приняли их сторону: людей, как вещей. «Профессия этого требует», – сказали они себе по дороге, чтобы ответить, несомненно, на тайные уколы остатков совести.
И сразу вошли в столовую. Освещенная, она казалась более печальной из-за своего жалкого упадка. Стол, покрытый мясом, богатая посуда, столовое серебро, найденное в стене, которое прятал собственник дома, придали этому месту оттенок бандитской таверны, в которой ужинают после грабежа. Капитан, лучась, схватил женщин, как собственные вещи, оценил, сжал в объятиях, обнюхал, взвесив их ценность как женщин, несущих наслаждение. И, поскольку три молодых человека хотели взять каждый по одной, он авторитарно противостоял этому, закрепив попытку поделить их за собой, со всей справедливостью, согласно чину, чтобы не пострадало ничье положение.
Теперь, наконец, чтобы избежать всякого оспаривания и намеков на предвзятость, он выровнял их по размеру талии и командным тоном спросил самую крупную: «Как тебя зовут?» Грубоватым своим голосом она ответила: «Памела».
Тогда он провозгласил: «Номер один, по имени Памела, присуждается командиру».
Обняв в качестве знака собственности вторую, Блондину, он предложил лейтенанту Отто толстую Аманду. Еву-Помидор – младшему лейтенанту Фрицу, а самую маленькую из всех, Рашель, крошечную брюнетку? с черными, как чернильные крапины, глазами, еврейку, чей курносый носик утверждал правило кривого носа всей этой породы, самому юному из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму Д’Ейрику.
Впрочем, все были красивы и толсты, без очень заметных физиономий, мало отличных друг от друга турнюров и кожи из-за повседневной любовной практики и общей жизни публичного дома.
Три молодых человека, под предлогом умывания, сразу увлекли за собой своих женщин. Но капитан мудро возразил, что они достаточно чисты, чтобы сесть за стол, и те, кто захотят переодеться и спуститься, будут мешать другим парам. Его мнение взяло верх. Было много поцелуев, долгожданных поцелуев.
Вдруг Рашель ахнула, закашлялась до слез и выдохнула из ноздрей дым. Под предлогом поцелуя, маркиз свистнул ей своей трубкой в рот струей табака. Та не разозлилась, не сказала ни слова, но из глубины своих черных глаз остановила на своем обладателе взгляд пробудившегося гнева.
Все сели. Сам командир казался очарованным, он усадил справа Памелу, а слева Блондину и заявил, разворачивая салфетку: «У вас возникла очаровательная идея, капитан».
Лейтенанты Отто и Фриц, вежливые, как близ светских женщин, немного испугали своих соседок, но барон Кельвайнгштайн, трусливый в своем пороке, сиял, бросал непристойности, и, казалось, вспыхивал короной своих рыжих волос. Он ухаживал на французском с рейнским выговором, с комплиментами из кабака, отхаркивая в дыру двух сломанных зубов слюнную картечь.
В остальном они ничего не понимали, их ум казался непробудившимся, и, когда барон плюнул нецензурными словами, наводнением выражений, искалеченных его рейнским выговором, тогда все вместе они начали смеяться, как безумные, падая животами на своих соседей, повторяя концовки фраз, которые барон искажал, чтобы доставить себе удовольствие и заставить их сказать глупость. Они опьянели от первых бутылок вина и снова стали собой, впуская в комнату свои привычки, целуя усы того, что справа, и того, что слева, щипали за руки, издавая яростные крики, пили из всех стаканов, пели французские куплеты, кусочки немецких песен, узнанные из ежедневного общения с врагами.
Вскоре молодые люди, опьяненные плотью этих женщин, расположившихся перед их носом и под их руками, обезумев, горланили, ломали посуду, а невозмутимые солдаты за их спинами им служили.
Один командир сохранял сдержанность.
Мадмуазель Фифи взял Рашель на колени, двигаясь в холодном оживлении, безумно целовал дрожащее черные завитки на ее шее, нюхая узкие места между платьем и тонкой, нежной кожей ее тела и весь ее природный запах; иногда через ткань он неистово щипал ее, заставлял кричать, охваченный неистовой свирепостью, трудясь с потребностью опустошения. Часто он обнимал ее полным объятием, как будто чтобы смешать ее с ним, надолго прижимался своими губами к свежему рту еврейки, целовал ее, теряя дыхание, но вдруг он укусил ее так глубоко, что след крови спустился на подбородок молодой женщины и побежал на ее корсаж.
Еще раз она посмотрела ему прямо в лицо, промыла рану, бормоча: «Это должно быть оплачено». Он принялся жестко смеяться: «Я заплачу», – сказал он.
Перешли к десерту. Разлили шампанское. Командир поднялся и тем же тоном, каким бы он произносил тост «за здоровье императрицы Августы», он выпил: «За наших дам!» Началась серия тостов галантных солдат и пьяниц, смешанная с непристойными шутками, еще более жесткими от незнания языка.
Один за другим они поднимались, набравшись смелости, стремились быть смешными, и женщины, пьяные до упаду, с туманными глазами, с текущими губами, каждый раз потерянно аплодировали.
Капитан, желавший, без сомнения, вернуть оргии галантный дух, поднял еще раз свой бокал и произнес: «За нашу победу над их сердцами!»
Тогда лейтенант Отто, тип медведя из Черного леса, встал, воспламенившись и насытившись выпитым. Вдруг, охваченный алкоголическим патриотизмом, он крикнул: «За нашу победу над Францией!»
Тогда падшие женщины замолчали, и Рашель, дрожа, повернулась: «Знаешь, я видела французов, перед которыми ты этого не скажешь».
Но маленький маркиз, все время державший ее на коленях, принялся смеяться, очень развеселившись от вина: «Ах! Ах! Ах! Я никогда не видел их, я! Как только мы появляемся, они покидают лагерь».
Раздраженная девушка крикнула ему: «Ты лжешь, сволочь!»
В продолжение секунды он остановил на ней свои ясные глаза, как будто смотрел на картину, холст которой он прострелил ударом револьвера, потом принялся смеяться: «Ах, да, поговорим, красавица, были бы мы здесь, если бы они были смельчаками!» И он оживился: «Мы их хозяева, и Франция для нас!»
Ответным толчком она покинула колени придурка и упала в кресло. Он поднялся, держа свой бокал посредине стола, и стал повторять: «Для нас Франция, и французы, леса, поля и дома Франции!»
Другие, вдруг сделавшиеся совсем пьяными, потрясенные внезапным военным энтузиазмом, энтузиазмом скотов, схватили свои бокалы, вопя: «Да здравствует Пруссия!» – и одним махом опустошили их.
Девушки более не протестовали. Они замолчали и прониклись страхом. Рашель заставила себя молчать, бессильная ответить. Тогда маленький маркиз поставил на голову еврейки заново наполненный свой бокал шампанского: «Все женщины Франции, – кричал он, – тоже наши!»
Она поднялась так быстро, что опустошенный хрусталь покатился, расплескав, как при крещении, желтое вино в черных волосах, и упал, расколовшись, на землю. Губы ее дрожали, она выдержала взгляд офицера, который все время смеялся, и забормотала сдавленным от гнева голосом: «Это, это, это неправда; к примеру, вы не владеете женщинами Франции!»
Он сел, чтобы с удовольствием посмеяться, и, пытаясь изобразить парижский акцент, сказал: «Что тогда ты здесь делаешь, малышка?» Одернутая, сначала она немного помолчала, понимая опасность своего возмущения, потом, когда она хорошо поняла, что он сказал, неистовая и возмущенная, она бросила ему: «Я! Я! Я не женщина, я шлюха, это все, что нужно пруссакам». Она не закончила, когда со всего маха он дал ей пощечину, но, поскольку, обезумев от гнева, он еще раз поднял руку, она схватила со стола маленький десертный серебряный нож и вдруг (ничего не ждали от нее сначала) она ударила его справа в горло, во впадину, туда, где начинается грудь.
Слово, которое он произнес, застряло в его горле; он оставался с зияющим ртом, с ужасающим взглядом.
Все с ревом затолкались; поднялся шум; но, после того как она кинула свой стул под ноги лейтенанту Отто, который рухнул во всю длину, она подбежала к окну, открыла его и, прежде чем могли до нее добраться, пропала в ночи, под дождем, который шел, не переставая.
В две минуты мадмуазель Фифи был мертв. Тогда Фриц и Отто, вынув оружие из ножен, хотели убить женщин, которые простерлись у них на коленях. Майор не совсем безболезненно предотвратил эту мясорубку, заперев в комнате, под присмотром двух человек, четырех растерянных женщин; потом, как если бы он расположил солдат для сражения, он организовал преследование беглянки, уверенный, что возьмет ее.
Пять человек, подстегиваемые угрозами, прочесали парк. Двести других прочесали лес и все дома долины. Мгновенно опустевший стол теперь использовался как последняя постель убитого; четыре офицера, негнущихся и протрезвевших, с твердыми лицами людей войны в действии, остались рядом с окнами, прощупывая ночь.
Сильный ливень продолжался. Сумрак наполнило беспрерывное омывание, бормочущий поток воды, который бежал, стекал каплями, фонтанировал.
Вдруг раздался залп оружия, потом очень далеко – другой, в течение четырех часов время от времени были слышны близкие и далекие взрывы, крики солдатских сборов, брошенные, как гортанные зовы, странные слова. Утром все вернулись. Двух солдат убили, а трое других, в пылу охоты и ночного преследования своим же товарищем, были ранены.
Рашель им найти не удалось.
Тогда жители почувствовали ужас, жилища взволновались пробежали, потрепали, всю местность, возвратились. Еврейка, казалось, не оставила ни единого следа.
Предупрежденный о произошедшем генерал приказал погасить дело, чтобы не давать плохих примеров армии; он вынес дисциплинарное взыскание командиру, который наказал своих подчиненных. Генерал сказал: «Мы не затем устроили войну, чтоб веселиться и нежничать с публичными девками». Граф Фальсберг, приведенный в ярость, решил отомстить всей стране.
Поскольку ему был нужен предлог для наказания без ограничения, он пришел к кюре и потребовал звонить в колокол по погибшему маркизу Д’Ейрику.
Против всех ожиданий, священник показал послушание, смирение, был полон уважения. И когда тело мадмуазель Фифи прошествовало, окруженное солдатами, которые, покинув замок Дувиль, маршировали на кладбище с заряженными винтовками, с оттенком очаровательной веселости похоронным звоном впервые прозвонил колокол, как если бы рука друга ласкала его.
Он звонил еще, и на завтра опять, и все дни. Он звонил так, как хотели. Иногда даже ночью колокол производил всего одно движение, и кидались два-три звука в темноте, охваченные необыкновенной жизнерадостностью, неизвестно почему пробужденные. Все крестьяне этого места говорили, что церковь заколдована. И никто, исключая кюре и дьячка, не приближался больше к колоколу.
Там, наверху, в тоске и одиночестве жила бедная девочка, втайне подкармливаемая кюре и дьячком.
Она оставалась в церкви до самого ухода прусских войск. Позже кюре заимствовал повозку у булочника и вечером перевез девушку из ее заточения в Руанский порт. Когда они приехали, священник поцеловал ее; она спустилась в публичный дом, хозяйка которого считала ее умершей.
Через некоторое время ее вытащил оттуда патриот, который без предубеждений полюбил ее за ее поступок, а потом она стала так дорога ему, что он женился на ней, сделав из нее Даму, которую ценил, как и многие другие.
1
Речь идет, вероятно, о Франко-прусской войне 1870—1871 гг.
2
Анделль – правый приток Сены.
3
Готтентоты – этническая общность, народ, населявший Южную Африку.