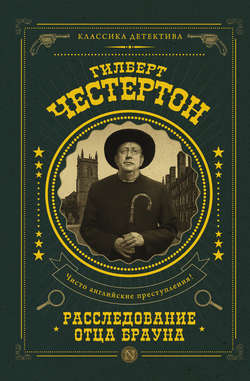Читать книгу Расследование отца Брауна (сборник) - Гилберт Честертон, Лорд Дансени, G. K. Chesteron - Страница 5
Неведение отца Брауна
Странные шаги
ОглавлениеПер. И. Моничева
Если вам доведется встретить члена элитного клуба «Двенадцать лучших рыболовов», входящего в отель «Вернон» для участия в ежегодном торжественном клубном ужине, вы заметите на нем, когда он снимет плащ, зеленый, а не черный фрак. Если же (хотя для этого вам необходимо обладать достаточной отвагой и, невзирая на лица, обратиться к столь важной персоне) вы еще и спросите о причине подобного чудачества, он, вероятно, небрежно ответит, что не желает быть принятым за официанта. И вы, стушевавшись, отойдете в сторону, но при этом вам останется неизвестной и неразгаданной тайна, история которой поистине достойна изложения.
А если (мы продолжаем здесь ряд маловероятных случайностей) вы встретите скромного, вечно занятого маленького священника по имени отец Браун и поинтересуетесь, при каких обстоятельствах, по его мнению, ему сопутствовала самая памятная в жизни удача, он, скорее всего, скажет, что фортуна в наибольшей степени улыбнулась ему как раз в отеле «Вернон», где он предотвратил преступление и, вполне возможно, спас душу человеческую, просто вслушавшись в шаги, доносившиеся из коридора. Он с полным правом немного горд своей невероятной и в какой-то степени чудесной догадливостью, а потому может даже пожелать упомянуть о ней в разговоре. Но поскольку представляется практически невозможным, что вы когда-либо достигнете в свете таких высот, чтобы попасть в клуб «Двенадцать лучших рыболовов», или падете настолько низко и встретите среди отбросов общества и преступников отца Брауна, боюсь, вам никогда не суждено услышать этой истории ни от кого, кроме как от меня.
Отель «Вернон», где «Двенадцать лучших рыболовов» проводили свой ежегодный ужин, принадлежал к числу заведений, какие могут существовать только в олигархическом обществе, почти свихнувшемся на соблюдении самых нелепых правил хорошего тона. Он стал именно подобным «привилегированным» коммерческим предприятием, где все поставлено с ног на голову. То есть здесь зарабатывали не на том, чтобы привлекать как можно больше клиентов, а как раз за счет того, что почти всех отвергали. В мире, где правят деньги, торговцы ухитрились стать более разборчивыми, чем те, кого они призваны обслуживать. Они намеренно создают проблемы, чтобы их богатая и скучающая клиентура тратила как можно больше денег и прибегала к самым изощренным дипломатическим усилиям для преодоления искусственно воздвигнутых преград. Если бы в Лондоне открылся модный клуб, куда не пускали бы никого, кто ниже шести футов ростом, светское общество покорно стало бы устраивать там ужины только для долговязых мужчин. Если бы существовал безумно дорогой ресторан, который в силу чистого каприза своего владельца работал бы только по четвергам после полудня, каждый четверг там яблоку негде было бы упасть. Отель «Вернон» как бы ненароком расположился в углу одной из площадей фешенебельного района Белгравия. Причем это был маленький и очень неудобный отель. Но даже сами по себе его неудобства считались надежной оградой покоя для людей, принадлежавших к высшему общественному классу. И одно из неудобств в особенности имело для этого крайне важное значение: тот факт, что одновременно в отеле могли собраться к ужину не более двадцати четырех человек. Единственным большим обеденным столом здесь был знаменитый стол на террасе, располагавшийся на открытом воздухе с видом на один из самых красивых старых садов Лондона. А потому получалось, что разместить за ним даже двадцать четыре участника трапезы удавалось лишь при теплой погоде, делая доступ к ужину в отеле еще более затруднительным, а значит, тем более вожделенным. Нынешним владельцем отеля был еврей по фамилии Левер, сколотивший почти миллионное состояние, максимально затруднив в него доступ. Но, разумеется, он сочетал исключительную закрытость своего заведения с не менее тщательной заботой о его высочайшем качестве. Выбор вин и кухня находились на уровне лучших европейских стандартов, а вышколенная обслуга вела себя в точном соответствии с устоявшимися вкусами английского правящего класса. Хозяин знал всех своих официантов как пять пальцев на руке; всего же их насчитывалось пятнадцать. Причем куда легче было стать членом парламента, чем получить работу официанта в этом отеле. Каждый из них проходил суровое обучение сдержанности и обходительности, словно ему предстояло стать личным камердинером истинного джентльмена. И в самом деле, обычно на одного обедающего джентльмена в отеле приходился по крайней мере один официант.
Клуб «Двенадцать лучших рыболовов» не согласился бы устраивать свои обеды нигде, кроме как в таком месте, поскольку его члены настаивали на роскоши абсолютной приватности и были бы крайне расстроены от одной только мысли, что кому-то другому дозволено устроить ужин в том же помещении одновременно с ними. По случаю ежегодного ужина у рыболовов вошло в привычку извлекать на свет божий все свои сокровища, как это было принято в частных домах. И их главной ценностью считался прославленный набор рыбных ножей и вилок с эмблемой клуба, в котором каждая вещь представляла собой изделие ручной работы из серебра в форме рыбки с украшением в виде крупной жемчужины на ручке. Приборы всякий раз выкладывали на стол перед подачей блюда из рыбы, а рыбное блюдо неизменно становилось самым великолепным украшением столь блестящего пиршества. У клуба сложилось великое множество церемоний и ритуалов, хотя при этом он не имел ни богатой истории, ни какой-либо цели, что и делало его столь утонченно аристократичным. Вам не нужно было ничего добиваться в жизни, чтобы стать одним из двенадцати избранных; если вы уже не являлись определенного сорта личностью, то никогда не узнали бы, что такой клуб есть вообще. Между тем существовал он уже двенадцать лет. Его президентом был мистер Одли. Вице-президентом – герцог Честерский.
Если мне хотя бы до некоторой степени удалось передать атмосферу этого чрезвычайно необычного клуба, у читателя может возникнуть недоуменный вопрос, как я сам сумел узнать о нем так много, и уже тем более его заинтересует, каким образом столь заурядная персона, как мой друг отец Браун, оказалась, фигурально выражаясь, в стенах этого золотого дворца. В этой своей части моя история крайне проста и даже несколько низменна. Существует в этом мире один очень древний бунтарь и демагог, который порой врывается в самые роскошные чертоги с крайне неприятным известием, что все люди – братья, все созданы равными, и куда бы этот извечный уравнитель не прискакал на своем бледном коне[10], профессия отца Брауна повелевает следовать за ним. В тот день у одного из официантов, итальянца по происхождению, случился инсульт, и его еврейский работодатель, удивляясь про себя столь странному суеверию, согласился послать за первым попавшимся под руку папистским священнослужителем. В каких грехах умирающий исповедался отцу Брауну, нам неведомо по той простой причине, что священник, как и положено, сохранил тайну исповеди, но, по всей видимости, последней волей итальянца стала просьба написать за него письмо или заявление, имевшее целью передать некое сообщение, а возможно, даже исправить свершившуюся в прошлом несправедливость. Поэтому отец Браун с мягкой настойчивостью, какую, уверяю вас, он проявил бы даже в самом Букингемском дворце, попросил предоставить ему помещение и письменные принадлежности. Мистер Левер испытал при этом двойственные чувства. Он был человеком добрым, хотя за доброту часто принимал собственное отвращение к всевозможным проблемам и сложным ситуациям. В то же время присутствие странного чужака в отеле особенно тем вечером воспринималось им как грязное пятно на чем-то, только что до блеска вычищенном. В отеле «Вернон» никогда не существовало ни приемной, ни холла при входе, где могли бы расположиться в ожидании посторонние люди, куда грозили бы случайно попасть нежданные гости. Всегда имелись в наличии пятнадцать официантов. Всегда ожидались одни и те же двенадцать клиентов. И обнаружить в отеле перед самым ужином новое лицо было так же поразительно, как узнать, что в твоей собственной семье к завтраку или к чаю явился прежде неведомый брат или другой родственник. Более того, священник выглядел каким-то заштатным, второсортным, в неряшливом и местами испачканном облачении; даже случайная встреча с ним гостей, один лишь взгляд издалека, и среди членов клуба могли возникнуть непредвиденные настроения, даже нечто сродни кризису. В итоге мистеру Леверу удалось придумать план сокрытия, если не полного устранения позорного пятна на репутации отеля. Когда вы входите (чего, разумеется, не произойдет ни при каких условиях) в отель «Вернон», то попадаете в короткий коридор, украшенный потускневшими, но весьма ценными картинами, и ведущий в главный вестибюль и в зал для отдыха, где справа располагаются гостевые комнаты, а влево уходит другой коридор в сторону кухни и прочих подсобных помещений отеля. Еще левее, в самом углу, находится застекленная конторка, граничащая с залом отдыха, напоминающая, если можно так выразиться, дом внутри дома и очень похожая на обычный отельный бар, который, вероятно, здесь раньше и присутствовал.
В этой конторке должен был восседать представитель владельца (но обычно избегал этого всеми возможными способами), а позади конторки, уже на пути к предназначенной для прислуги части отеля, была устроена гардеробная для джентльменов – самый дальний предел, куда могли попасть гости. Как раз между застекленной конторкой и гардеробом помещалась крохотная проходная комнатушка, порой используемая владельцем для деликатных и важных дел, для решения столь насущных вопросов, как одолжить ли очередному герцогу тысячу фунтов или отказаться ссудить хотя бы шестью пенсами. И не лучшее ли это доказательство несравненной терпимости мистера Левера, что он разрешил осквернить столь святое для себя место, разрешив на полчаса воспользоваться им простому священнику, который что-то там должен был накорябать на листке бумаги. История, которую записывал отец Браун, была, возможно, гораздо интереснее нашей истории, но только мы никогда этого не узнаем. Могу лишь заверить вас, что она оказалась почти столь же длинной, а ее заключительные абзацы стали как раз наименее волнующими и увлекательными.
Потому что, как только он дошел до них, священник позволил своим мыслям некоторую расслабленность, а его всегда такие острые животные инстинкты вновь проснулись. Темнело, приближалось время ужина, а поскольку в маленькой коморке не было лампочки, сгустившийся полумрак, как это иногда случается, обострил слух. И пока отец Браун дописывал последнюю и наименее важную часть документа, он поймал себя на ощущении, что пишет под повторяющийся ритмичный шум снаружи, подобно тому, как порой человек размышляет под стук колес поезда. Осознав это, отец Браун скоро понял, что именно ему слышалось: всего-навсего обычный звук шагов мимо двери, что в отеле воспринималось совершенно нормальным явлением. Но он тем не менее вскинул голову, глядя на потемневший потолок, и вслушался в звук. Несколько секунд он делал это машинально и рассеянно, но затем вдруг поднялся на ноги и стал слушать с напряженным вниманием, чуть склонив голову набок. Потом снова сел и прикрыл лицо ладонями, уже не только слушая, но и обдумывая услышанное.
Шаги, доносившиеся снаружи, в каждый отдельный момент звучали шагами, какие вы могли бы услышать в любом отеле, но, объединенные в единое целое, производили очень странное впечатление. Никаких других шагов не раздавалось. В отеле почти всегда царила тишина, потому что прибывшие гости сразу расходились по своим апартаментам, а вышколенную прислугу приучили быть невидимой и неслышимой до тех пор, пока она не становилась нужна. И все равно едва ли существовала причина считать, что происходит нечто, выходящее за привычные рамки. Вот только эти шаги казались настолько необычными, что их трудно было сразу отнести к разряду привычного или непривычного. Отец Браун проследил за ними, проводя пальцем по краю стола, уподобившись человеку, который пытается разучить мелодию на пианино.
Сначала донеслась долгая серия поспешных легких шажков, подобных тем, какими очень худой легкоатлет выигрывает соревнования по спортивной ходьбе. В какой-то момент шажки замерли, а затем перешли в нечто вроде медленного, вразвалочку топота – число шагов сократилось на три четверти, но по времени они продолжались ровно столько же. Но как только затихало эхо последнего тяжелого шага, снова доносился легкий звук частых шажков, издаваемых торопливыми, почти бегущими ногами, опять сменяясь затем грузным размеренным топотом. Причем источником звуков была одна и та же пара обуви. Это становилось понятно, во-первых, потому, что никого больше там находиться попросту не могло, а во-вторых, потому, что ботинки издавали чуть слышный, но совершенно одинаковый характерный скрип. Голова отца Брауна была устроена так, что он всегда поневоле начинал задаваться вопросами, а от размышлений над столь, казалось бы, тривиальной проблемой голова святого отца буквально раскалывалась. Ему доводилось видеть, как люди разбегаются, чтобы прыгнуть. Он наблюдал разбег перед скольжением. Но зачем, во имя всего святого, кому-то нужно было разбегаться, а потом просто идти? А никакого другого определения для того, что вытворяли эти невидимые ноги, подобрать не удавалось. Человек либо очень быстро преодолевал первую часть коридора, чтобы спокойно пройти оставшийся путь, либо торопливо добегал до стены, а потом степенно возвращался к центру. Ни один из вариантов не имел разумного объяснения. В мозгу отца Брауна сгущался мрак, как сгущался он и в комнате.
Но стоило ему заставить себя мыслить более последовательно, как даже темнота в коморке, казалось, начала способствовать умственной работе. Он стал пытаться создавать нечто вроде визуальных образов этих немыслимых ног, выделывавших в коридоре нечто неестественное или же символическое. Быть может, это какой-то варварский языческий танец? Или же принципиально новый тип разработанного наукой физического упражнения? Отец Браун принялся задавать сам себе более значимые и целенаправленные вопросы о том, что могли означать шаги. Взять для начала более тяжелые. Это точно не было походкой владельца отеля. Мужчины его типа ходили грузно и враскачку, но все же быстрее, хотя большую часть времени вообще проводили в удобных креслах. Не мог это быть слуга или посыльный, дожидавшийся, чтобы ему вручили депешу. Звук не тот. Существа низшего порядка (в олигархической иерархии) иногда позволяют себе шалости в легком подпитии, но все же обычно, особенно попав в столь роскошную обстановку, предпочитают вести себя сдержанно и стоять на месте, чуть оробев. Нет. Подобный тяжелый, но в то же время пружинистый шаг, бездумный и беззаботный, не особенно шумный, но и не старающийся приглушить себя, мог принадлежать только одному типу живых организмов, населяющих Землю. Это был джентльмен из Западной Европы, которому, скорее всего, никогда не приходилось работать, чтобы добывать средства к существованию.
Как только отец Браун приобрел в этом достаточно прочную уверенность, шаги сменились на быстрые и пробежали мимо двери с лихорадочной поспешностью крысы. Слушатель отметил, что эти шаги были не только значительно проворнее, но и отличались еще и почти полной бесшумностью, словно человек двигался на цыпочках. Однако в уме отца Брауна они не ассоциировались со скрытностью, а наводили на какое-то другое сравнение – он только не мог вспомнить, на какое именно. Его привело в ярость это неполное воспоминание, от которого у него возникло ощущение, что и мозг функционирует не в полную силу. Ведь он определенно уже где-то слышал такие же странные, легкие и быстрые шажки. Внезапно он вскочил на ноги, осененный новой идеей, и подошел к двери. Его комнатушка не имела прямого выхода в коридор. С одной стороны соседствовала застекленная контора, а с другой – гардеробная, находившаяся почти рядом с ней. Он потрогал ручку стеклянной комнаты, но дверь оказалась заперта. Затем посмотрел в окно, квадрат которого теперь полностью занимало пурпурное облако, окрашенное закатным солнцем, и в то же мгновение почуял зло, как собаки чуют запах крыс.
Рациональность в его мышлении (к лучшему то было или нет) одержала верх. Отец Браун вспомнил, что владелец запер его со стороны конторы, пообещав выпустить позже. Потом убедил себя, что у эксцентричных звуков снаружи может быть двадцать вполне внятных объяснений, не пришедших пока ему в голову. Вспомнил и о том, что у него оставалось еще совсем немного света, чтобы успеть закончить порученную ему работу. Положив лист на подоконник, чтобы воспользоваться последними лучами, падавшими в каморку с темневшего предгрозового неба, он решительно погрузился в завершающую стадию своих записей, которые близились к концу. Так он писал почти двадцать минут, склоняясь над листком все ниже по мере ухудшения освещения. Потом вдруг снова выпрямился. Странные шаги донеслись опять.
На этот раз в них присутствовала третья особенность. Прежде неизвестный мужчина двигался легко и быстро, почти бежал, но все-таки это скорее была поспешная ходьба. Сейчас он действительно перешел на настоящий бег. Были слышны торопливые мягкие прикосновения ступней к полу вдоль коридора, похожие на звуки, издаваемые убегавшей от врага пантеры, готовой к прыжку. Кем бы ни оказался этот человек, он был силен, активен и до крайности возбужден. И все же стоило ему миновать контору, промчавшись мимо нее с шелестом легкого вихря, как поступь снова сменилась на медленный и тяжелый топот.
Отец Браун оставил свою бумагу и, зная, что дверь офиса заперта, сразу пошел в гардеробную с тыльной ее части. Гардеробщик там отсутствовал. Вероятно, временно. Обед единственных гостей отеля был в самом разгаре, и делать ему было нечего. Пробравшись через серый лес пальто и плащей, отец Браун обнаружил, что из темной гардеробной можно попасть в ярко освещенный коридор через половину двери, изготовленной в виде стойки, такой же, на которые мы, например, кладем свою верхнюю одежду и зонты в любом театре, получая взамен номерки. Яркая люстра была подвешена прямо над полукруглым незакрытым проемом двери, но она почти не бросала света на самого отца Брауна, который представлялся сейчас со стороны, должно быть, лишь темным силуэтом на фоне расположенного у него за спиной окна с догоравшим закатом. Зато светильник с яркостью театрального софита заливал сиянием мужчину, стоявшего в коридоре перед гардеробной.
Он был элегантен даже в самого простого покроя вечернем костюме: высокий, но при этом занимавший не слишком много пространства. Создавалось ощущение, что такой мог бы проскользнуть незамеченным, как тень, там, где даже более мелкие и низкорослые мужчины бросились бы в глаза любому. Его лицо при хорошей подсветке выглядело смуглым и жизнерадостным. Лицо иностранца. Он был прекрасно сложен, а держался с налетом легкого юмора и уверенностью в себе. Впрочем, более придирчивый наблюдатель отметил бы, что его черный фрак выглядел чуть дешевле, чем пристало мужчине с такой фигурой и манерами – он даже местами сидел мешковато, а на груди странным образом топорщился. Как только он заметил темный силуэт отца Брауна на фоне заката, то сунул ему в руку бумажку с напечатанным на ней номером и произнес с дружелюбной властностью:
– Выдайте мне мои пальто и шляпу, пожалуйста. Обнаружилось, что мне необходимо срочно уйти.
Отец Браун безмолвно взял номерок и покорно отправился искать пальто; ему не впервой было заниматься чужой работой – приходилось в жизни брать на себя и более трудные обязанности других людей. Он принес пальто и положил его поверх стойки. Между тем странный джентльмен, порывшись по карманам жилета, со смехом сказал:
– У меня нет при себе серебра. Возьмите вот это.
И он бросил золотую монету в полсоверена, взявшись за свое пальто.
Фигура отца Брауна оставалась погруженной во мрак и неподвижной, но в этот момент он потерял голову. А его голова представляла особую ценность, именно когда он терял ее. В такие моменты, сложив два и два, он получал в ответе миллион. Католическая церковь (которая вся основана на здравом смысле) очень часто не одобряла этого. Бывало, что этого не одобрял он сам. Но на него накатило редкое вдохновение – столь важное в минуты подлинных кризисов – и то самое, из-за чего он рисковал лишиться головы, спасло ее.
– Думаю, сэр, – произнес он очень вежливо, – что у вас в одном из карманов найдется немало серебра.
Высокий джентльмен уставился на него.
– Бросьте, – воскликнул он. – Если я предпочитаю дать вам на чай золото, с чего вам жаловаться?
– Потому что серебро порой гораздо ценнее золота, – тихо ответил священник. – В тех случаях, когда серебра много.
Незнакомец с интересом посмотрел на него. А затем с еще большим любопытством бросил взгляд в сторону входной двери. После чего вновь повернулся в сторону отца Брауна, но с особым вниманием вгляделся в окно за его спиной, по-прежнему окрашенное багряными отсветами заката, когда грозовая туча прошла мимо. Потом он принял решение. Опершись на стойку, он с легкостью акробата перемахнул через нее и встал рядом со святым отцом, возвышаясь над ним башней и ухватив одной огромной рукой за ворот.
– Стойте тихо, – сказал он отрывистым шепотом. – Не хочу угрожать вам, но…
– Зато я хочу пригрозить вам, – голос отца Брауна звучал как дребезжащий барабан. – Я хочу пригрозить вам тем местом, где червь грешников не умирает и огонь не угасает[11].
– Какой-то вы странный гардеробщик, – сказал мужчина.
– Я – священник, мсье Фламбо, – отозвался Браун, – и готов вас исповедовать.
Его собеседник какое-то время стоял молча, пытаясь ловить ртом воздух, потом попятился и упал в кресло.
Две первые перемены блюд за ужином членов клуба «Двенадцать лучших рыболовов» имели умеренный успех. У меня нет копии меню, но даже если бы я ее имел, то не смог бы никому ничего сообщить. Оно было написано на том псевдофранцузском языке, который используют повара, но не разбирают даже сами французы. В клубе сложилась традиция, что закуски подавались разнообразные и многочисленные до умопомрачения. К ним относились серьезно, поскольку они были столь же излишни, чрезмерны и бессмысленны, как и весь обед, как и само по себе существование клуба. Другая традиция заключалась в том, чтобы суп готовили легкий и без претензий – простота и строгость вкуса служили прелюдией к настоящему рыбному пиршеству, которое следовало потом. Застольный разговор звучал как привычная пустая болтовня, с помощью которой и управляют Британской империей, управляют вроде бы в глубокой тайне, но если бы простой англичанин подслушал ее, то не узнал бы для себя ничего нового. То и дело членов кабинета министров от обеих правящих партий фамильярно называли просто по именам, отзываясь о них со скучной благосклонностью. Канцлер казначейства, представитель радикальной партии, которого сторонники тори должны были бы клеймить за грабительские налоги, удостаивался похвалы за написанные на досуге легкие стишата, как высоко ценили выбор им для себя охотничьего седла. Лидер тори, кого каждый либерал обязан был ненавидеть как тирана, подвергся обсуждению и в целом получил положительную характеристику… истинного либерала. Складывалось впечатление, что, по мнению членов клуба, политические деятели были очень важны, но важным в них находили все, кроме непосредственно самой политики, которую они проводили. Мистер Одли, председатель, являл собой добродушного пожилого человека, все еще носившего воротнички по моде эпохи Гладстона. Одли вполне мог служить своего рода символом этого иллюзорного, но вполне устоявшегося клуба. Он никогда и ничего не делал и потому не совершил в жизни ни единой ошибки. Его не отличали ни особая сообразительность, ни даже богатство. Просто повезло попасть в нужную струю, вот и все. Ни одна партия не могла не считаться с ним. Если бы он пожелал стать министром, то, несомненно, стал бы членом кабинета. А вот герцог Честерский, вице-президент, как раз был молодой и только восходящей звездой политики. За этим определением стояла приятная внешность юноши с прилизанными светлыми волосами, веснушчатым лицом, скромными умственными способностями и огромными земельными владениями. Его появления на публике приносили неизменный успех, хотя способ добиться популярности был предельно прост. Если ему приходила в голову шутка, он шутил, не задумываясь, и прослыл блестящим острословом. Когда же шутка не рождалась, он заявлял, что сейчас не время размениваться на пустяки, и его считали серьезным политиком. А в интимной обстановке клуба, среди своих, он становился просто до неприличия откровенным и глупеньким, как школьник. Мистер Одли, никогда не занимавшийся политикой сам, относился к ней серьезнее всех. Порой он ставил своими фразами в неловкое положение всю компанию, когда, например, высказывал предположение, что существует некая разница между либералами и консерваторами. Сам он считал себя консерватором, причем даже в личной жизни. Седые волосы волнами ниспадали на заднюю часть воротника, как у несколько старомодного государственного деятеля, и со спины он казался именно тем человеком, в котором так нуждается империя. Зато при взгляде спереди выглядел мягкотелым, избалованным, чревоугодливым холостяком с комнатами в «Олбани»[12], кем и был на самом деле.
Как уже отмечалось, за столом на террасе могли сесть к ужину двадцать четыре человека, но членов клуба насчитывалось всего двенадцать. А потому они имели возможность расположиться за ним самым комфортабельным образом, занимая только одну сторону стола, чтобы никто не сидел напротив, заслоняя вид на бесподобный сад, все еще игравший живыми красками, хотя вечер сегодня наступил несколько раньше, чем обычно для такого времени года. Председатель сидел в центре, а вице-президент – на самом правом краю общей линии ужинавших. Когда двенадцать гостей впервые входили на террасу и начинали занимать свои места, стало традицией (по опять-таки неясным причинам), чтобы все пятнадцать официантов выстроились вдоль стены, уподобляясь солдатам королевского почетного караула, в то время как толстяк – хозяин отеля встречал каждого поклоном, сияя радостным удивлением, словно видел их всех впервые в жизни. Однако еще до того, как раздавался первый звон вилок и ножей о тарелки, вся эта армия обслуги исчезала, и оставались только два, а порой и вовсе всего один официант, чего вполне хватало, чтобы проворно подносить и убирать блюда, не произнося при этом ни слова.
Сам мистер Левер, хозяин, уходил задолго до этого, извиваясь в конвульсиях вежливости. И было бы преувеличением, несколько даже неуважительным по отношению к нему, утверждать, что за весь вечер он хотя бы раз появлялся среди гостей снова. Лишь только когда самое главное блюдо ужина – рыбное, разумеется, – подавалось к столу, создавалось впечатление, что (даже не знаю, как это лучше описать) его незримая тень, некая проекция его фигуры мелькала рядом, давая ощутить всем его эфемерное присутствие при сем торжественном моменте. Священное рыбное блюдо являло собой (на вульгарный взгляд простолюдина) нечто вроде чудовищного пудинга размерами со свадебный торт кулинарного монстра, где огромное количество разнообразных и примечательных рыбин окончательно теряли формы, которыми наградил их Бог. Двенадцать лучших рыболовов брались за свои знаменитые ножи и вилки, относясь к каждому дюймовому кусочку этого пудинга настолько бережно и серьезно, словно он стоил не меньше той серебряной вилки, с помощью которой его поедали. Хотя, насколько мне известно, так оно примерно и выходило. С этим блюдом гости расправлялись с аппетитом и в почтительном молчании, и только когда тарелка молодого герцога оказалась почти пуста, он отпустил очередную ритуальную реплику:
– Такое умеют готовить только здесь.
– И нигде больше, – поддержал его мистер Одли своим глубоким басом, поворачиваясь к оратору и несколько раз утвердительно кивая в знак одобрения его слов. – Нигде, уверяю вас, кроме как здесь. Некоторые утверждают, что в кафе «Англэ»…
На этом его перебили и даже на мгновение возмутили, убрав пустую тарелку, но он сумел не упустить нить своей ценнейшей мысли и снова ухватиться за нее.
– Некоторые утверждают, что в кафе «Англэ» способны изготовить нечто подобное. Ничего похожего, сэр, – произнес он тоном судьи, выносящего смертный приговор. – Ничего похожего на это.
– И вообще, то кафе имеет чересчур раздутую репутацию, – заявил полковник Паунд, который (как могло показаться по его виду) произнес первые слова после нескольких месяцев молчания.
– О, право, не знаю, – возразил ему вечный оптимист герцог Честерский. – Там неплохо готовят кое-какие другие блюда. Например, подают несравненный…
На террасу неслышно вошел официант и вдруг встал как вкопанный. Остановился он так же тихо, как и ходил, но все сидевшие за столом почтенные и утонченные джентльмены настолько привыкли к непрерывной и гладкой работе того механизма, который их окружал и обеспечивал плавное течение жизни, что официант, сделавший нечто неожиданное, поистине удивил и поверг их в шок. Они почувствовали себя так же, как мы с вами, если бы нам неожиданно перестал подчиняться мир неодушевленных предметов – к примеру, взял и убежал какой-нибудь стул.
Официант постоял, глядя куда-то, несколько секунд, а между тем на каждом лице за столом постепенно появлялось странное стыдливое выражение, которое целиком является продуктом нашей эпохи. Это комбинация новомодного гуманизма с современной разновидностью прежней пропасти, которая разделяет души богатых и бедных людей. Истинный аристократ старой закалки начал бы швыряться в официанта чем ни попадя, начав, возможно, с пустых бутылок, а закончив, по всей вероятности, все же деньгами. Истинный демократ спросил бы его, стараясь по-товарищески упростить свою речь, какого дьявола он творит. Но эти нынешние плутократы не терпели присутствия бедного человека поблизости от себя ни в роли раба, ни в качестве друга. Если у слуги пошло что-то не так, это лишь создавало ощущение тоскливой, но острой неловкости. Они не хотели проявлять грубость, но ужасались при мысли о необходимости в снисходительности. Они желали, чтобы все просто и как можно скорее закончилось. И все закончилось. Официант, постояв несколько секунд застывшим, словно в припадке каталепсии, развернулся и как обезумевший бросился вон из помещения.
Когда он снова появился на террасе или, скорее, на пороге, его сопровождал другой официант; они перешептывались и обменивались жестами с чисто южным темпераментом. Затем первый официант удалился, оставив второго на месте, и вернулся с третьим. К тому времени, когда к взволнованному синоду обслуги присоединился четвертый официант, мистер Одли ощутил необходимость нарушить молчание в интересах Такта. Вместо президентского молоточка он прибегнул к долгому кашлю, а потом сказал:
– Потрясающе справляется со своими обязанностями в Бирме молодой Мучер. Скажу прямо, ни одна другая нация в мире не смогла бы…
Пятый официант стрелой подлетел к нему и прошептал на ухо:
– Прошу извинить. Очень важный! Не мог бы хозяин говорить с вами?
Председатель растерянно повернулся и в смятении увидел мистера Левера, приближавшегося к столу с неуклюжей стремительностью. Быстрота движений, свойственная любому хорошему хозяину, выглядела обычной, но вот выражение его лица назвать обычным было никак невозможно. Как и цвет. Обычно физиономия Левера имела приятный медно-коричневый оттенок, а сейчас она болезненно пожелтела.
– Простить меня, мистер Одли, – сказал он, задыхаясь как астматик. – Но я в большая тревога. Ваши тарелки из-под рыба уносить с ножами и вилками на них?
– Да, полагаю, так оно и было, – ответил председатель вполне добродушно.
– Вы видеть его? – все еще не отдышавшись, спросил владелец отеля. – Вы видеть здесь официанта, который все уносить? Вы знаете его?
– Знаю ли я официанта? – переспросил мистер Одли теперь уже возмущенно. – Нет, разумеется!
Мистер Левер развел руки в стороны жестом, исполненным отчаяния.
– Я сам не посылать его, – сказал он. – Даже не знаю, когда и почему он здесь появляться. Я послал своего официанта забрать тарелки, но он видеть, что их уже нет.
Мистер Одли в своем изумлении едва ли выглядел сейчас именно тем человеком, в котором так нуждается империя. И никто из всей компании не мог вымолвить ни слова, за исключением мужчины из дерева – полковника Паунда, – которого словно гальванизировали и неожиданно заставили ожить. Он скованно поднялся в своем кресле, пока остальные оставались сидеть, вставил в глаз монокль и заговорил так пронзительно, словно уже успел забыть, как разговаривают нормальные люди.
– Вы имеете в виду, – спросил он, – что кто-то украл наши серебряные приборы для рыбы?
Хозяин повторно развел руки в стороны, но вложил в жест еще большую беспомощность, и в одно мгновение все, кто сидел за столом, вскочили на ноги.
– Все ваши официанты здесь? – потребовал ответа полковник своим низким и сиплым тоном.
– Да, все здесь. Я сам это заметил, – воскликнул молодой герцог, высовывая свое мальчишеское лицо сквозь кольцо столпившихся людей. – Я всегда пересчитываю их, когда вхожу сюда. Так забавно видеть их строй вдоль стены!
– Но едва ли кто-то из нас может знать это точно, – сказал мистер Одли с оттенком глубокого сомнения в голосе.
– Говорю же вам, я знаю точно! – возбужденно воскликнул герцог. – Здесь никогда не было больше пятнадцати официантов, и сегодня их было тоже пятнадцать – ни больше, ни меньше.
Хозяин повернулся к нему, трепеща от ощутимого удивления.
– Вы говорите… Вы говорите, – начал заикаться он, – что вы видеть все мои пятнадцать официант?
– Да, как обычно, – подтвердил герцог. – А что здесь не так?
– Все не так, – Левер говорил со все более заметным иностранным акцентом. – Вы не мог видеть пятнадцать. Потому что один совсем мертвый. Лежать наверху.
На мгновение в комнате воцарилась полнейшая тишина. Быть может (таков уж сверхъестественный эффект самого по себе слова «смерть»), каждый из этих привыкших к праздности людей заглянул на секунду к себе в душу и увидел, что это всего лишь крохотная высохшая горошина. Один из них – полагаю, это был герцог, – даже сказал с идиотской добротой, свойственной порой богачам:
– Мы можем чем-то вам помочь?
– У него побывать священник, – заметил хозяин, ничуть не растроганный предложением помощи.
Затем, словно грянул гром Судного дня, каждый осознал ситуацию, в которой они оказались. На какое-то короткое время они могли бы даже поверить, что пятнадцатый официант мог быть призраком мертвеца, лежавшего наверху. И тяжкий груз подобной мысли заставил их застыть в онемении, потому что привидения вызывали у них такое же чувство неловкости, как вид нищего на улице. Однако воспоминание о вполне реальном серебре разрушило заклятие воображаемого чуда, разрушило резко и грубо. Полковник перепрыгнул через кресло и направился к двери.
– Если здесь присутствовал пятнадцатый официант, друзья мои, – сказал он, – то именно он и был вором. Скорее вниз. Нужно запереть парадную и заднюю двери. А потом поговорим. Двадцать четыре клубных жемчужины стоят того, чтобы попытаться их вернуть.
Поначалу мистер Одли колебался, достойно ли джентльмена суетиться подобным образом по любому, даже самому важному поводу. Но увидев, как вниз по лестнице сбегает полный молодого задора герцог, он двинулся вслед, хотя и более солидной походкой.
В тот же момент показался шестой официант, сообщивший, что обнаружил груду рыбных тарелок на стойке в кухне, но серебро исчезло бесследно.
Толпа, состоявшая из гостей и обслуживающего персонала, беспорядочно сгрудившаяся в коридоре, теперь разделилась на две группы. Большинство рыболовов отправились вместе с хозяином в сторону вестибюля, чтобы выяснить, не покидал ли кто-нибудь здание отеля. Полковник Паунд, председатель, вице-президент и еще несколько человек бросились по коридору в сторону служебных помещений, представлявшихся более вероятным маршрутом бегства грабителя. По пути они миновали затемненный и похожий на пещеру альков гардеробной, внутри которого заметили низкорослую, одетую в черное фигуру, стоявшую глубже в тени – вероятно, это был гардеробщик.
– Эй, вы там! – окликнул его герцог. – Не видели случайно, чтобы кто-то прошел мимо вас?
Приземистая фигура не ответила на вопрос прямо, а просто сказала:
– Возможно, то, что вы ищете, находится у меня, джентльмены.
Они остановились, покачиваясь и приходя в себя от изумления, а человек тихо отправился в глубь гардеробной и вернулся, держа в обеих руках груду сверкавшего серебра, которую выложил на стойку со спокойствием приказчика в магазине. Это были две дюжины причудливой формы вилок и ножей.
– Вы… Вы… – начал полковник, окончательно выведенный из равновесия.
Но затем он внимательнее вгляделся в сумрак маленькой комнатки и обратил внимание на две детали: во-первых, на низкорослом человеке в черном была сутана священника, а во-вторых, окно у него за спиной оказалось выбито, словно кто-то силой проложил себе через него путь наружу.
– Слишком ценные вещи, чтобы сдавать в гардеробную, верно? – заметил священник с дружелюбной улыбкой.
– Вы… Это вы украли наши приборы? – заикаясь и вытаращив глаза, спросил мистер Одли.
– Даже если я, – ответил святой отец тем же приятным тоном, – то я же вам их и возвращаю.
– Но ведь вы их не крали, – сказал полковник Паунд, все еще не сводя глаз с разбитого окна.
– Чтобы внести полную ясность: я этого не делал, – отозвался его собеседник, словно видел в ситуации забавную сторону, и с важным видом уселся на высокий стул.
– Но вы знаете вора? – спросил полковник.
– Не могу назвать вам его подлинное имя, – спокойно сказал священник, – но мне довелось понять, насколько он силен в драке, хотя еще больше я успел узнать о его духовных проблемах. Первое я сумел оценить, когда он попытался задушить меня, а моральную сторону постиг после того, как он раскаялся.
– Раскаялся? Ну, ничего себе! – воскликнул молодой герцог Честерский и рассмеялся каркающим смехом.
Отец Браун поднялся со стула и заложил руки за спину.
– Странно, не правда ли, – заметил он, – что вор и бродяга может раскаяться, в то время как столь многие, живущие в богатстве и комфорте, остаются черствыми душой и ведут себе фривольно, не принося пользы ни Богу, ни людям? Впрочем, извините меня, но здесь вы невольно вторгаетесь в мою сферу деятельности. И если вы сомневаетесь в покаянии как в свершившемся факте, то перед вами, по крайней мере, ваши ножи и вилки. Вы – двенадцать лучших рыболовов, и вот они – ваши серебряные рыбки. Меня же Он сделал рыбаком, чей улов – человеческие души.
– Так вы поймали этого человека? – поинтересовался полковник, нахмурившись.
Отец Браун посмотрел прямо в его мрачное лицо.
– Да, – ответил он. – Я поймал его на невидимый крючок с помощью невидимой лески, которая достаточно длинна, чтобы позволить ему отправиться в самый отдаленный уголок мира, но в любой момент его можно вернуть, стоит лишь подтянуть леску.
Наступило продолжительное молчание. Постепенно все разошлись, чтобы показать найденное серебро своим товарищам или обсудить с хозяином все это странное дело. Но угрюмый полковник остался, присев боком на стойку гардеробной, покачивая своими длинными худощавыми ногами и покусывая кончики темных усов.
Потом он негромко обратился к священнику:
– Думаю, вор был человеком большого ума, но, как мне кажется, я знаю кое-кого и поумнее.
– Да, он умен, – отозвался священник, – но я не совсем понял, кто тот второй человек, о котором вы упомянули.
– Вы сами, конечно, – сказал полковник и коротко рассмеялся. – Расслабьтесь, я вовсе не хочу усадить этого типа в тюрьму. Но я бы охотно отдал несколько серебряных вилок, чтобы узнать, как именно вы напали на след в этом деле и каким образом заставили его бросить похищенное. Сдается мне, вы самый большой хитрец во всей собравшейся здесь сегодня компании.
Отцу Брауну пришлась по душе мрачная солдатская прямота полковника.
– Что ж, – сказал он с улыбкой, – я, разумеется, не имею права называть вам имя этого человека или делиться подробностями истории его жизни. Но не вижу причин, мешающих рассказать о фактах этого дела, которые мне удалось установить.
С неожиданным проворством он вскочил на барьер и уселся рядом с полковником, болтая короткими ножками, как мальчишка, взобравшийся на забор. И начал рассказывать свою историю с такой легкостью, словно делился ею со старым другом, сидя перед камином в канун Рождества.
– Понимаете, полковник, – сказал он, – я оказался в небольшой комнатушке, где делал необходимые мне записи, когда услышал из коридора звук ног, танцевавших не менее странный танец, чем сам танец смерти. Сначала это были забавные легкие и поспешные шажки, словно человек крался на цыпочках с определенной целью. А затем они перешли в медленную, грузную походку солидного человека, курящего дорогую сигару. Но оба звука производила одна и та же пара ног, в этом я готов был поклясться, и происходило постоянное чередование. Быстрая, чуть слышная ходьба, похожая на бег, потом размеренные шаги, а потом снова бег, и так много раз. Сначала из чистого любопытства, а потом уже действительно озадаченный я стал размышлять, для чего человеку понадобилось играть две разные роли поочередно. Одна походка была мне хорошо знакома. Так ходите, например, вы сами, полковник. Прогуливающийся шаг состоятельного джентльмена, который чего-то дожидается, расхаживающего просто активности ради, а не в нетерпеливой тревоге. И вторая походка мне тоже прежде встречалась, но я никак не мог вспомнить, где именно. Какое живое существо встречалось на моем жизненном пути, столь торопливо пробегавшее на цыпочках, что это звучало более чем странно? А потом откуда-то донеслось звяканье посуды, и ответ встал передо мной так же непоколебимо, как стоит собор Святого Петра. Это походка официанта, когда человек идет быстро, чуть наклонившись вперед, устремив глаза вниз, ступая всей тяжестью на большие пальцы ног, фалды фрака развеваются, трепещут салфетки на подносе. Затем я потратил на раздумья еще ровно полторы минуты и понял, как совершается преступление, будто совершал его сам.
Полковник Паунд с жадным интересом смотрел на него, но добрые серые глаза рассказчика были уставлены в потолок с каким-то смутным томлением.
– Преступление, – медленно продолжал он, – подобно любому другому произведению искусства. Не надо так удивляться! Преступления далеко не единственные художественные произведения, которые изготавливаются в мастерской дьявола. Но любое произведение искусства, божественное или демоническое, несет на себе одну непременную отметину. А именно: его смысл в сущности прост, какими бы сложностями не сопровождался акт творчества, есть единственный центр повествования. Возьмем, к примеру, историю Гамлета. Гротескная фигура могильщика, цветы сошедшей с ума девушки, лицемерные уловки Озрика, бледность призрака и оскал черепа в улыбке – все эти запутанные детали так или иначе завязаны вокруг одной трагической фигуры человека в черном. Могу теперь утверждать, – продолжал он, сползая со стойки, – что и сегодняшняя трагедия стала трагедией человека в черном. Да, так и есть, – поспешно добавил он, заметив удивление в глазах полковника, – центром всей истории стал черный костюм. В данном случае, как и в «Гамлете», сюжет украшен замысловатыми завитушками. К их числу, между прочим, относитесь и вы сами. Перед вами появляется мертвый официант, который никак не мог появиться. Невидимая рука сметает со стола ваше серебро и растворяется в воздухе. Но каждое умное преступление в конечном счете основано на единственном и очень простом действии, в котором нет уже ничего таинственного или мистического. Мистификация нужна лишь для сокрытия преступления, для того, чтобы отвлечь от него внимание и мысли людей. Данное тонкое, но крупное и (в привычном смысле слова) выгодное для грабителя преступление основывалось на том простом факте, что вечерний костюм джентльмена практически неотличим от костюма официанта. Все остальное – чисто актерская игра, пусть и очень хорошая.
– И все равно, – признался полковник, тоже вставая и разглядывая носы своих ботинок, – не уверен, что понял все.
– Суть в том, полковник, – сказал отец Браун, – что архангел дерзости, укравший ваше серебро, прошел по этому коридору двадцать раз при ярком свете ламп и на глазах у всех. Он не таился в темных углах, где вызывал бы неизбежные подозрения. Напротив, он постоянно перемещался по освещенному коридору, и в какой бы его части ни оказался, создавалось впечатление, что он находится там с полным на то основанием. А потому не спрашивайте меня, как он выглядел, поскольку вы сами видели его этим вечером шесть или семь раз. Вы вместе с остальными членами вашей великосветской компании собрались в одном конце коридора перед входом на террасу. И когда он проходил мимо вас, джентльмены, он делал это в торопливом стиле официанта: голова наклонена, через руку салфетка, быстрая и легкая поступь. Он вбегал на террасу, расправлял, допустим, складку на скатерти, а потом устремлялся назад в помещение для прислуги. Но к моменту, когда он оказывался на глазах распорядителя и других официантов, он превращался в совершенно иного человека, меняясь в каждом дюйме своего облика, в каждом вроде бы инстинктивном жесте. Он расхаживал среди обслуги с рассеянной наглостью, которую официанты так привыкли наблюдать в манерах своих богатых клиентов. Их не удивляло, что один из гостей желает пройтись по всему отелю, словно зверь по всему своему вольеру в зоопарке. Они привыкли, что одна из ярчайших примет принадлежности к привилегированному классу состоит в привычке разгуливать где заблагорассудится. И когда ему надоедало величественное шествие по той части коридора, он разворачивался и устремлялся в противоположный его конец, причем где-то как раз рядом с гардеробной он магическим образом менял облик и спешил оказаться среди двенадцати рыболовов в качестве угодливого слуги. С какой стати джентльменам обращать внимание на одного из официантов? И почему официанты должны относиться подозрительно к солидному джентльмену с величавой походкой и светскими манерами? Пару раз он даже решился на весьма рискованные трюки. Вошел в личный кабинет хозяина и небрежно попросил у распорядителя сифон с содовой водой – якобы ему захотелось пить. Причем добродушно согласился сам отнести его к столу, что и сделал. Уже под видом официанта пронес сифон на террасу мимо всех вас. А что? Официант выполняет обычное для себя поручение, только и всего. Разумеется, это не могло длиться вечно, но ему и нужно было всего лишь дождаться подачи рыбного блюда.
Отец Браун сделал паузу, чтобы перевести дух.
– Самым опасным моментом стало для него построение официантов вдоль стены, когда на террасу входили гости, но и тогда он ухитрился расположиться у самого угла таким образом, что в это важнейшее из мгновений официанты приняли его за одного из гостей, а гости за одного из официантов. Затем все пошло как по маслу. Если официант заставал его вдали от стола, то видел перед собой гордого аристократа. Ему нужно было уложиться ровно в две минуты, прежде чем реальный официант явился бы, что убрать со стола пустые рыбные тарелки, а потому он превратился в очень проворного слугу, чтобы успеть убрать их раньше. Тарелки он поставил на стойку, а серебро рассовал по карманам под фраком, от чего тот стал странным образом топорщиться на нем, а потом бросился бегом (я расслышал и это), пока не нашел гардеробную. Здесь ему снова пришлось разыграть из себя плутократа, которого срочно вызвали по делам. Ему оставалось только протянуть гардеробщику бумажку-номерок и изящной походкой покинуть отель, как он в него и вошел. Но вот беда – на месте гардеробщика оказался я.
– Как же вы с ним поступили? – воскликнул полковник с необычным напряжением в голосе. – И что он вам успел рассказать?
– Прошу прощения, – сказал священник невозмутимо, – но на этом моя история заканчивается.
– Но начинается самое интересное, – пробормотал Паунд. – Думаю, я понял его профессиональный трюк. Но для меня остался непостижимым ваш.
– Мне пора идти, – сказал отец Браун.
Они вместе добрались до входа на террасу, где увидели ясноглазое веснушчатое лицо герцога Честерского, шедшего с радостной улыбкой им навстречу.
– Идемте, Паунд! – воскликнул он. – Я повсюду разыскивал вас. Ужин продолжается с прежним блеском. Одли готовится произнести спич в ознаменование чудесного спасения серебряных приборов. Мы хотим создать новую традицию, знаете ли, каждый год празднуя такое выдающееся событие. Мы ведь вернули наше сокровище, что скажете?
– Скажу, – ответил полковник, глядя на юнца с несколько сардонической усмешкой, – что сам готов ввести новую традицию. Предлагаю отныне являться к обеду не в черных фраках, а в зеленых. Кто знает, какие еще недоразумения могут возникнуть, когда ты выглядишь так похоже на официанта.
– Да бросьте! – легкомысленно отмахнулся молодой человек. – Джентльмена никто и никогда не примет за официанта.
– Как и официанта за джентльмена, я полагаю, – добавил полковник с тем же саркастическим выражением на лице. – Вашему другу, святой отец, должно быть, нелегко далась роль джентльмена?
Отец Браун застегнул пуговицы на своем простеньком пальто до самой шеи, поскольку гроза на улице все-таки разыгралась, и вынул из стойки старый зонт.
– Верно, – сказал он, – это, вероятно, очень трудно – официанту изобразить из себя джентльмена. Но, чтобы вы знали, еще труднее джентльмену изобразить официанта. Вам так не кажется?
Отец Браун попрощался и вышел через громоздкие двери этого дворца наслаждений. Золотые ворота закрылись за его спиной, и он быстрыми шагами поспешил по мокрому тротуару в поисках остановки однопенсового омнибуса.
10
По евангельской легенде, на бледном коне скачет один из четырех всадников Апокалипсиса – Смерть. – Здесь и далее примеч. пер.
11
Отец Браун угрожал мсье Фламбо адскими муками, цитируя Евангелие от Марка, 9,44.
12
«Олбани» – знаменитый особняк XVIII века на Пикадилли в Лондоне, который с 1802 года домовладелец разделил на роскошные апартаменты для одиноких обеспеченных мужчин.