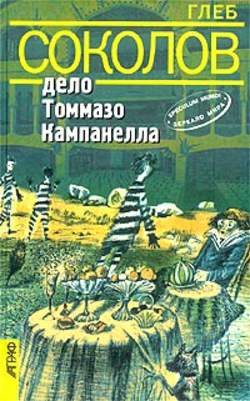Читать книгу Дело Томмазо Кампанелла - Глеб Соколов - Страница 1
ПРОЛОГ
Завистливый школьник в театре на премьере лермонтовского «Маскарада»
ОглавлениеЭтому вечеру в театре предшествовала небольшая история. Примерно за полгода до него завистливый ученик одной из московских школ, по примеру приятеля, увлекся электроникой. Его новейшим и, как ему в тот момент казалось, прекрасным творением был самодельный усилитель, работу над которым он вот-вот должен был закончить тем зимним месяцем.
Тогда – а это были поздние семидесятые годы – в поисках телевизоров и радиоприемников, выброшенных своими владельцами, компания школьников бродила по свалкам. Потом вынутые из этого старья радиодетали – хлам для всех, кто не был радиолюбителем, а для них – настоящее богатство – выменивались на какие-то другие детали или продавались таким же увлеченным электроникой людям, только намного старше – в условиях дефицита подобная торговля не знала спадов. В той компании, куда приняли завистливого школьника, – а он был рад, даже счастлив, что обрел столь интересных друзей, – у всех водились хоть и небольшие, но все же денежки. Но что значит небольшие?! Даже эти скромные суммы столь многое позволяли! Завистливый школьник закурил: глубоко затягиваясь дымом, он чувствовал, как кружится голова, и это ощущение представлялось ему волшебным и удивительным. Скромных доходов хватало не только на сигареты, и завистливый школьник стал потихонечку выпивать. В вине и водке тоже таились прекрасные и прежде неведомые открытия. Можно сказать, что вся эта история в театре произошла с завистливым школьником во многом из-за непривычки к вину, которую он хоть постепенно и преодолевал, а все ж таки в тот момент и не преодолел еще полностью: пить он тогда не умел, меру свою знал нетвердо, а пьянел быстро и в нетрезвом состоянии творил многое, за что потом было стыдно, и от чего, не пей он вина, наверняка бы мог удержаться.
В эти же месяцы он познакомился с девочкой. Правда, она была не очень симпатичной и не вполне ему нравилась, да и ей, похоже, не доставляло особого восторга встречаться с ним. Но встречаться хоть с кем-нибудь очень хотелось, и даже вроде бы считалось чуть ли не обязательным – школьники из их компании приходили на дискотеки и на прочие культурные мероприятия каждый со своей девочкой.
Перед вечером в театре было отмечание чьего-то дня рождения на квартире, где все школьники ужасно перепились. Особенно, как наименее опытный, напился их завистливый одноклассник. Но дело было даже не в этом, а в том, что сперва он отчего-то ужасно нагрубил своей девочке, а потом, когда они с другими школьниками отправились на улицу проявлять молодецкую удаль, упал на одной из строек, на которой они резвились, в бадью с не застывшим еще цементным раствором, оставленную строителями по обычной советской халатности. Завистливый школьник спьяну не особенно расстроился, а когда пришел домой, мать увидела, что брючки и куртка и даже шапка-ушанка безнадежно испорчены. Конечно, носить их было еще можно, но выглядели они крайне непривлекательно.
А уже на следующий вечер завистливому школьнику надо было идти в театр.
Билеты он раздобыл еще до пьянки на квартире по просьбе своей девочки. При этом завистливый школьник не знал, чем хорош спектакль, билеты на который так трудно купить, дай в театр ему идти совсем не хотелось, так как он к нему никогда в жизни никакого интереса не испытывал.
Тем не менее, не полагаясь на собственные финансы, он выпросил деньги у матери, которая, между прочим, воспитывала его одна и лишних средств не имела.
В итоге завистливый школьник все же раздобыл билеты, но с крупной переплатой за них спекулянтке, и вот теперь ему даже не в чем было пойти в театр, потому что весь его и без того скудный и немодный гардероб был испорчен.
Надеть нечего. Не пойти – нехорошо. Что же делать?..
Стараниями охавшей и страшно ругавшейся матери был извлечен из пропахшего нафталином шкафа почти шутовской наряд: старенькие коротковатые штаны, старая же курточка, женская вязаная шапочка. По-хорошему, ему стоило остаться дома, но тогда возникало соображение о том, что сидеть дома придется гораздо дольше одного вечера. Ведь в химчистке обещали помочь, но никаких гарантий не давали, а денег на обнову у матери в тот момент не было. Впрочем, в магазине в ту пору даже и с деньгами хорошей одежды было не купить.
В конце концов завистливый школьник отправился на свидание. Девочка на это свидание пришла, но сразу заявила, что после вчерашних грубостей встречаться с ним больше не желает. Однако, принимая во внимание усилия и жертвы, с которыми, как она хорошо знала, добыты билеты, театр посетит, но добираться туда предложила по отдельности: ведь у него теперь такой вид, что ехать рядом с ним ей стыдно.
Завистливый школьник мрачно разделил билеты, и девочка, взяв свой, ушла.
Постояв немного на морозе, – а день выдался особенно холодный, – он было направился домой, но вспомнил, что день субботний, а значит – мать дома, а не на фабрике, как обычно… Идти домой, объяснять все матери, слушать ее ворчание хотелось еще меньше, чем стоять на морозе. Завистливый школьник решил забраться в какой-нибудь подъезд и просидеть в нем часа четыре, смоля сигаретки, а потом прийти домой, как будто все это время он был в театре.
Потом завистливый школьник подумал, что нет никакой разницы, где сидеть: в подъезде или в театре. Наоборот, в театре, во всех отношениях, представлялось удобнее: там нет вредных жильцов, которые обычно прогоняют греющихся в подъездах школьников.
В театре он до этого был всего один раз, еще совсем маленьким, и сейчас театр представлялся ему как-то очень слабо и неопределенно. Что-то вроде кинотеатра, только в центре города, – так ему казалось. Ну ничего: посидит, подремлет рядом с этой дурочкой… Что там два-три часа… Он сейчас не подумал о своем совсем ненарядном, потешном виде. Ему больше всего хотелось поскорее отбыть эту театральную повинность, чтобы только не огорчать мать, и вернуться побыстрее домой, паять усилитель, чтобы потом опробовать его в деле на школьной дискотеке. «Вот тогда эта девчонка, хотя она, конечно, полная дура, ему еще позавидует!» – мечтал завистливый школьник. То-то он станет героем дня!
Что до театра, то завистливый школьник по-прежнему, как и всегда, не испытывал к нему никакого интереса, а потому спектакль, на который он теперь шел, не волновал его вовсе.
Ему хотелось спать. Вообще, он пребывал теперь в крайне утомленном и безразличном состоянии. В метро завистливый школьник пытался дремать и ни о каком театре и о том, что ему предстоит в нем увидеть, совершенно не думал. «Чего там может быть такого-то?!. Все это – ерунда, все эти театры. Кино – это другое, это неплохо, когда фильм захватывающий. А когда фильм скучный, тогда можно спать или курить на последнем ряду…» – примерно так относился завистливый школьник к тому, что ему предстояло увидеть через каких-нибудь полчаса.
В таком дурном и заспанном состоянии, все еще в мыслях о злосчастной бадье с раствором, которую «эти идиоты-строители как назло бросили на стройке», о своем усилителе, о том, что надо раздобыть где-то одну «совершенно не раздобываемую» радиодеталь, в таком одурелом и сонном состоянии он и вышел на улицу на одной из станций метро в центре Москвы. Где находится театр, он знал со слов тетушки-спекулянтки, продавшей ему билет. Завистливый школьник шел и дремал на ходу. Кажется, даже кровь перестала двигаться в нем. Он не шел, а плелся – только бы отбыть повинность…
«Да ну его, этот театр!.. Знал бы, как все получится, – и не суетился бы с этими билетами!..» – рассуждал в эти минуты завистливый школьник.
Он посматривал по сторонам словно с неохотой. А еще – с брезгливостью. Вернее сказать, это была обычная презрительная невнимательность человека, который знает наверняка, что вокруг нет ничего достойного его взгляда. Да уж какое там внимание!.. Разве только к очередной бадье с цементным раствором, которая может стоять где-нибудь на дороге!.. Завистливый школьник шел, как привык ходить у себя на городской окраине, уткнув нос в воротник курточки, из которой давно вырос, и пока не видел по сторонам ничего, кроме обычных, унылых картин зимнего города.
Когда до театра оставалось пройти три дома, что-то вдруг начало твориться: время странным образом сгустилось, кровь в нем по каким-то неясным причинам потекла быстрее. Один за другим, точно из-под земли, возникали на улице перед театром люди. Тут и там они притягивали его внимание, а едва ли полминуты назад завистливый школьник вообще ни на что не хотел смотреть. О, если бы завистливый школьник в ту секунду мог трезво дать себе отчет о том, что происходит!.. Но он не мог, потому что время невероятным образом стремительно уплотнялось… Здания за два – за три до театра сразу несколько образов обожгло его. Случайные уличные картины – какую связь они имели с ним?!. Словно бы были направлены именно против завистливого школьника и страшно ранили его болезненную, похмельную впечатлительность.
Вот молодая красивая женщина с тонким удивительным лицом, одетая в изящную шубку из ослепительно блестевшего меха мгновенно застряла в его воображении – точно хлесткий и страшный удар обрушился на завистливого школьника!
Тут и там люди завораживали его так сильно, что он не мог отвести глаз. Вот человек в белом шарфе и с непокрытой головой ступил из такси на мороз и важно миновал несколько шагов до подъезда, держа руки в карманах и ни на кого при этом не смотря, – он даже чуть не сшиб зазевавшегося завистливого школьника. Этому человеку в белом шарфе еще предстояло сыграть свою роль в вечере в театре. А в тот момент из вихря впечатлений, произведенных этим человеком, в сердце завистливого школьника остались только гордая непокрытая голова, и белый шарф, и надменное, удивительно умное лицо… Кто он? Завистливый школьник скрутил вслед ему шею, споткнулся обо что-то, упал – вдобавок на улице перед театром было слишком скользко. Но встретить дворника было теперь немыслимо, потому что простая, неброская фигура дворника была в этой картине не к месту. Мир, в котором неказистые дворники чистят улицы, за несколько домов до театра куда-то пропал вместе с миром радиодеталей и электронных схем. В память об электронных схемах остались разве что японские наручные часы, которые ярко блеснули на холеном запястье надменного и умного человека в белом шарфе, когда он прикрывал дверцу большой машины. Где-то там внутри часов, под цифровым табло должна была быть электронная схема… Может быть… Была, по крайней мере, в том, другом мире, где завистливый школьник увлекался электроникой, потом напился и упал в бадью с раствором. Но здесь, за несколько домов до театра, мысль про электронную схему была совсем неуместна, здесь раскручивалась совсем другая история. Теперь про те воспоминания, что связаны с радиоэлектроникой, завистливому школьнику даже и не стоило думать!.. Он бы только зря потерял время!
Те люди, что так страшно поражали своими яркими образами впечатлительную натуру завистливого школьника, появлялись перед ним вроде бы и не преднамеренно, а случайно, но в его мыслях то и дело сквозило, хотя это было еще только одно лишь смутное и неясное подозрение: совпадение спланировано заранее. Разве же не нарочно впечатления так страшно накладывались друг на друга? И это предположение, сделанное завистливым школьником, было в истории вечера в театре самым главным, наиглавнейшим из всех прочих обстоятельством.
В тот миг его поразило следующее невероятное наблюдение: точно, несмотря на зиму, прямо на улице в городе работал огромный гипнотический кабинет. Да что там, зима тоже была «со всеми ними», как думал завистливый школьник, в сговоре!.. С кем именно?!. Ах, конечно, в тот момент в его рассуждениях не было таких подробностей!.. «С ними» вообще, а в частности: с красавицей, с надменным человеком в белом шарфе. Зима позволяла им носить блестящие шубы и экстравагантные шарфы, которые столь шли им, и без того прекрасным и удивительным. Но только ли с ними, именно ли с ними была в сговоре зима?!. Он не стал раздумывать и об этом: история с ужасными и блестящими впечатлениями, которые за несколько домов до театра не позволили ему больше думать о радиоэлектронике, была пронизана ужасной тайной, которую ему с ходу было не разгадать, как бы он ни старался. Эта тайна была страшна и чревата неожиданными разгадками, и в происходившем можно было ожидать всего: любого и от любого…
Конечная цель гипнотического сеанса была достигнута за несколько мгновений: он был поражен и раздавлен обрушившимися на него впечатлениями. От его обычной хамской пренебрежительности, с которой он взирал равно на убогие многоэтажки на их окраине и на своих одноклассников, юных радиолюбителей, не сохранилось и следа. Он не видел изъянов ни в чем и ни в ком вокруг. Куда завистливый школьник ни кидал взгляд – везде жгло, поражало блеском и больным, убийственным очарованием. Будь завистливый школьник в привычном состоянии, он бы мог холодно, спокойно взглянуть на разыгрываемый, по его представлению, прямо на улице спектакль и тотчас разглядел бы во всем – и в людях, и в зданиях центра Москвы – многочисленные изъяны, которые разве что не лежали на самой поверхности. Завистливый школьник вычислил бы за «спектаклем» много убогих изнанок, и ему бы стало легче. Но именно теперь он был не в состоянии этого сделать. Где там вычислять?! Похмелье, сонливость, расстройства из-за испорченной одежды, унижение из-за гнусного наряда, что был на нем теперь, – все обстоятельства действовали против завистливого школьника.
Но с момента своего невероятного предположения о гипнотическом кабинете, с той самой минуты, как это предположение только появилось в его мыслях, завистливый школьник ни на секунду не забывал, что его изначальное состояние в этот вечер повстречавшимися случайно персонажами тщательно учтено, а то яркое впечатление, которое повстречавшиеся персонажи пытались на него произвести и, надо сказать, удачно производили, – так вот, это впечатление было продумано и просчитано до мелочей.
Уличные картины!.. Они действовали на завистливого школьника тем более странно и поражали тем неприятнее, что он только совсем недавно брел, подняв воротник куцонь-кой курточки, чтобы всего-навсего убить время, чтобы только как-то тихонько отсидеться в темноте зрительного зала. А что было здесь, перед театром?!. Наоборот, здесь, кажется, не хватало его одного. Притворно случайные, притворно «уличные», яркие люди, встреченные сегодня, ждали только его одного! Он или кто-нибудь такой же, как он, был им необходим на роль зрителя, потому что без него, случайного и до последней секунды ничего не ожидавшего зрителя, громадная затея по произведению ярких впечатлений на улице перед театром была полностью лишена смысла. И вот вместе с кровью, что теперь разгонялась по жилам с удвоенной скоростью, в завистливом школьнике распространялась злость: как это исподтишка и нечестно – он ни капельки не ожидал встретить такие яркие, ранящие впечатления и не был подготовлен к ним ни в малейшей степени!.. Что же это они, как же это они? Неужели вот так вот – нарочно! – подкараулили его, когда он был заспан, едва ли еще протрезвел, а одежонка – такую надевают только клоуны в цирке! Так то же клоуны, профессионалы, которые смешат намеренно и получают за это деньги!.. Это то же самое, что неожиданно ударить только что вставшего с постели, еще не проснувшегося человека!.. Какие подонки!..
Что касается цели удара, то завистливому школьнику она была понятна с самого начала: показывая ему, какое он, завистливый школьник, ничтожество, персонажи, встреченные на улице перед театром, – все эти бессчетные красавицы в шубках и мужчины в шарфах, обернутых вокруг шей по-модному, – подчеркивали и оттеняли свое великолепие. Таким образом, завистливый школьник был уверен, что это заговор влюбленных в себя персонажей против него, которого они хотели поразить своим великолепием.
Конечно, в своих мыслях, которые скакали более чем лихорадочно, завистливый школьник употреблял слово «заговор» в очень ограниченном значении – ведь он же не сошел с ума, чтобы действительно разглядеть заговор в уличной толпе. Он мысленно произносил это слово с тем оттенком, чтобы наверняка хотя бы самому себе подчеркнуть: здесь нет непреднамеренности и случайности. Наоборот, события с самого начала должны были развиваться именно так, как они и развивались.
«Впрочем, черт с ним со всем!» – решил завистливый школьник.
Когда до театра оставалось пройти каких-нибудь несколько десятков шагов, завистливый школьник титаническим усилием попытался изменить свое настроение: отчаянно постарался оживить уже едва дышавшее воспоминание о самодельном усилителе и забытое предвкушение впечатления, которое на ближайшей школьной дискотеке эта штуковина должна произвести на одноклассников и – как знать, – может быть, на одноклассниц. Из последних сил завистливый школьник вообразил, как соберутся одноклассники в радиорубке актового зала, где стоял магнитофон и крутили кассеты, как возникнет толкотня и одноклассники захотят покрутить ручки. Завистливый школьник предполагал небрежно не расслышать вопросы «не очень уважаемых» одноклассников и завести неспешный разговор о достоинствах и недостатках разной «техники» с «самыми уважаемыми». Это должно быть здорово!..
Но все же те несколько десятков шагов, что завистливый школьник прошел до входа в театр, на который набрел в точности по указаниям продавшей билеты тетушки-спекулянтки, произвели на него самое тяжелое действие. Мечты об усилителе, конечно, помогли настроению, но не столь действенно, как он рассчитывал.
«Совершенно спланированное и продуманное дело… Спектакль, за которым, стоят придумщики, они же – исполнители. Все ловко и подло рассчитали… Надо сказать, им, гадам, удалось на высшем уровне. На самом высшем уровне!..»
От вечерней улицы перед театром у него рябило в глазах.
Перед самой дверью театра завистливый школьник машинально посторонился и обождал: почти одновременно с ним, но все же на какие-нибудь мгновения позже, ко входу в театр, не от метро, а с противоположной стороны улицы, от отъехавшей огромной, блестящей, пахнувшей деньгами черной машины, от тротуара напротив, не ожидая, пока проедет поток машин, вынуждая их всех притормаживать и останавливаться, немного скользя ботинками по запорошенному тротуару, подошел роскошно одетый человек с удивительно прямой спиной, без перчаток, хотя было сильно холодно, в золотых, с драгоценными камнями перстнях и таком же белом шарфе, как тот, что был надет на человеке, которого завистливый школьник видел совсем недавно.
Деньги, деньги, деньги – легкое дыхание исходило от этого человека в воздухе…
Завистливый школьник как-то совершенно естественно обождал, пока человек с удивительно прямой спиной пересек улицу, не спеша потопал, отряхивая снег, начищенными до блеска ботинками и, ни на кого, в том числе и на ожидавшего, пропускавшего и чуть ли не дверь придерживавшего завистливого школьника не глядя, прошел в двери театра.
Только тут завистливый школьник немного пришел в себя и удивился: чего это он так расстарался, придерживая дверь, и зачем проявил такое почтение к этому незнакомому ему человеку?.. Тем более – завистливый школьник только теперь осознал это – совершенно никакого яркого впечатления, подобного тому, что произвели на завистливого школьника красавица в шубке или гордый человек в белом шарфе, этот человек с удивительно прямой спиной на него не произвел. Почему-то предполагаемое наличие у человека с удивительно прямой спиной больших денег не произвело на завистливого школьника никакого, тем более яркого и болезненного впечатления.
Завистливый школьник уже было опять начал думать про усилитель, но вдруг, вдогонку, еще разик представил, как только что держал дверь и при этом не испытывал совершенно никаких болезненных чувств из-за проходившего через нее богатого человека с удивительно прямой спиной.
«Странно!» – подумал завистливый школьник. Богатому человеку с удивительно прямой спиной он почему-то совсем не завидовал.
Потому-то завистливый школьник и не отнес богатого человека с удивительно прямой спиной к «заговорщикам».
«Нет, действительно, странно!» – завистливый школьник даже хмыкнул.
То, что человек с удивительно прямой спиной обладал большими деньгами, не произвело на завистливого школьника совершенно никакого яркого впечатления.
В гардеробе он оказался следующим по очереди за человеком с удивительно прямой спиной. Завистливый школьник с наслаждением снял с себя куцонькую куртчонку и женскую вязаную шапочку. Вот когда ему стало полегче: ведь свитерок на завистливом школьнике был ему вполне по размеру, даже немного великоват.
Глазами он поискал свою девочку, но той в театре еще не было. Или, быть может, она уже сидела в зале на своем месте?.. Завистливый школьник краем уха расслышал, как гардеробщица говорит человеку с удивительно прямой спиной:
– Купила, все, Таборский, купила, как ты сказал, как ты мне велел. Твой букетик за приполком у меня стоит, вот!.. С тебя, Таборский, значит… С тебя, значит, двадцать пять рубликов. Уж не знала, как и сказать… Но ты же сам велел денег не жалеть… Как мне денег не жалеть?.. Я ведь, в отличие от тебя, Таборский, к ним не привычная…
Завистливый школьник поразился: букет должен был быть очень шикарным, если он стоил целых двадцать пять рублей!
– Вы себе-то накиньте, накиньте, – добродушно проговорил Таборский. – Пусть будет двадцать восемь. Это нормально, почему не быть…
– Ой, да что ты! Прямо я не знаю… Не знаю прямо… Я уже накинула вообще-то! – ответила гардеробщица как-то дико и неестественно жеманясь, отчего ее сморщенное личико приобрело совершенно комичное выражение. – Ну, уж если ты, Таборский, как говорится, настаиваешь: двадцать восемь так двадцать восемь!
Таборский, ничуть не огорчившись из-за того, что гардеробщица, похоже, вела себя с ним не совсем честно, полез во внутренний карман пиджака, но бумажник застрял в кармане, и Таборский принялся с усилием его оттуда вытаскивать.
К тому времени за завистливым школьником уже пристроились в очередь к гардеробу еще два человека. Наконец гардеробщица взяла его куртчонку.
Таборский тем временем, чертыхаясь, уронил на пол позолоченную шариковую ручку, которую только что извлек из кармана.
– Чертов карман: слишком узок для моего бумажника! Сегодня мой бумажник набит особенно плотно – распух так, что из кармана не вытащишь! – тем не менее самодовольно проговорил он и взглянул на гардеробщицу, явно ожидая прочитать на ее лице восхищение его богатством.
Тут же, вслед за ручкой, он выронил из кармана на пол еще и несколько сложенных вчетверо листов бумаги с какими-то записями и пять или шесть двадцатипятирублевок. Гардеробщица, завистливый школьник и те несколько человек, что уже пристроились за ним в очередь, терпеливо ждали, когда же наконец Таборский вытащит свой бумажник. Завистлит вый школьник, обернувшись, заметил, что взгляды, которые стоявшие в очереди люди бросали на обладателя плотно набитого бумажника, были полны недоброжелательства и раздражения, а вовсе не восхищения его богатством.
– Бумажник распух так, что я его из кармана вытащить не могу!.. Плотно я его сегодня набил! – еще раз сказал Таборский, но тут лицо гардеробщицы стало злым, и она неожи-данно коротко, резко, сварливым голосом прикрикнула на него:
– Отошел бы уж лучше, Таборский, в сторонку, да там бы свое богатство тихонечко-то и вытащил! А мне тут нечего его показывать. Меня оно не интересует!
Тут уж стоявшие в очереди к гардеробу люди стали смотреть на Таборского с нескрываемым презрением.
– Ну что, не завидуете вы мне? – проговорил, взглянув неожиданно и прямо на людей в очереди, обладатель толстого бумажника и как-то горько и криво усмехнулся. – Не завидуете моим деньгам? Это-то и плохо!..
– Да презираем мы их, эти деньги! Счастья на них не купишь! – с насмешкой сказал какой-то дядька, стоявший позади завистливого школьника в очереди. – А вам бы я, молодой человек, посоветовал протрезветь, прежде чем в театр-то приходить!
– Ладно, хватит!.. В мои молодые годы выпить чуть-чуть – не грех. И потом я уже совершенно трезв… Презирают они мои деньги… Надо же! Для чего же я тогда стараюсь?! – проговорил Таборский, который действительно был достаточно молод, и затем уронил на пол еще какую-то сложенную вчетверо бумаженцию. Впрочем, завистливому школьнику показалось, что прежде прямая спина Таборского теперь, после того как никто не восхитился наличием у него больших денег, немного ссутулилась.
Завистливому школьнику стало его жаль, и он мигом нагнулся помочь: подобрал с пола деньги, бумаги, ручку. А тут и Таборский, чья спина, вопреки наблюдениям завистливого школьника, оставалась по-прежнему прямой, вытащил наконец свой бумажник из черной прекрасной кожи, – блестящий, большой, по всему было видно – туго набитый наличностью.
Затем Таборский небрежно вытащил из бумажника сразу большущую пачку денег, отсчитал двадцать восемь рублей, передал их гардеробщице. Та взяла их и тут же воровато посмотрела по сторонам. Очередь уже проявляла сильное и нескрываемое нетерпение.
Таборский небрежно скомкал остальные купюры и сунул их обратно в бумажник. Сделал он это крайне неловко, так что денежные билеты до половины остались торчать наружу и едва тут же не высыпались из бумажника на пол. Затем Таборский вновь, как будто он только что не имел неприятного опыта, впихнул в узкий карман бумажник, документы, ручку и номерок от пальто..
Потом, прижав руку, точно у него болело сердце, к пиджаку, оттопырившемуся на груди из-за бумажника, он медленно пошел куда-то… Кажется, к двери на улицу, покурить в предбаннике – теперь следить за Таборским завистливому школьнику мешала колонна.
– Надо же!.. – потрясенно произнесла ему вслед гардеробщица.
– Молодой какой, денежный, странный, хвастливый!.. – сказали откуда-то сзади, из очереди.
Завистливый школьник убрал свой номерок в карман, но от гардероба еще не отошел, так что продолжение разговора было ему слышно…
– Знаете, это Таборский – бывший актер нашего театра. После театрального училища он играл на сцене совсем мало, потом бросил театр и теперь зашибает деньгу – организует эстрадные концерты, – затараторила гардеробщица, принимая очередное пальто у того самого дядьки, что выразил презрение к деньгам человека с удивительно прямой спиной. – Он к нам в последнее время каждый вечер приходит, смотрит на одну актрису: она совсем молоденькая, еще почти неизвестная, всего три месяца на театре, в сегодняшней премьере будет играть. .. Этот каждый раз велит мне купить для нее цветов… Ну а мне что, разве трудно?.. – она опять воровато посмотрела по сторонам, точно ожидая появления фининспектора. – Наговорил тут всякой ерунды!.. Оно и понятно – выпивает постоянно, все время под хмельком. А выпьет, становится болтлив: заговаривает с каждым встречным, хвастается своими деньга ми. Не ровен час, пришибут его из-за этих денег какие-нибудь нехорошие люди!.. Страшно мне за него!..
Завистливый школьник пошел от гардероба прочь. Краем глаза через дверь он увидел, что Таборский вышел на улицу и курит: клубы то ли дыма, то ли пара валили от него на морозе. До спектакля оставалась еще уйма времени.
А в вестибюле, где стоял завистливый школьник, прогуливалось много народа. До него доносились всевозможные восклицания и восторженные громкие фразы.
Вот он расслышал, что говорит слева от него высокая худая женщина:
– Ах!.. Мы были на прошлой премьере!.. Мы видели великого молодого актера Лассаля на прошлой премьере. Это было великолепно!.. Мы были на прошлой премьере, и вот мы уже на новой премьере! Мы вновь будем смотреть великого Лассаля… – завистливый школьник успел увидеть говорившую лишь искоса, лишь краем глаза. От всей ее фигуры, от молитвенно сложенных рук исходили восторг и самозабвенное умиление.
Завистливому школьнику показалось, что она намеренно говорит все с эдаким-то молитвенным вдохновением и рассчитывает при этом именно на его внимание. Словно овевая его этими преувеличенными восторгами, – ведь она же понимала, что он все прекрасно слышит, – она хотела заморочить ему голову и утаить от него какую-то очень важную суть вещей, какое-то главное дело.
Завистливый школьник тут же отошел от нее и встал в другом месте возле колонны.
– Осокин мне нравился всегда… Я покорен им еще с той первой роли. Помните?! Помните?!. – спрашивал мужчина, опять-таки непонятным образом косясь именно на завистливого школьника, словно и он рассчитывал в своем разговоре только на него. Но этот разговор доносился уже совсем с другой стороны, от большой группы людей, которые не имели никакого отношения к той первой, высокой и худой женщине.
«Неужели и здесь тоже?!. И здесь то же самое, что на улице?!. Осокин… Вот как!.. Мне кажется, ни разу не слышал», – промелькнула мысль в голове завистливого школьника. Но в этот момент его сердце еще не начинало бешено стучать. Чуточка спокойствия, которой он был обязан мечтам о своем усилителе, еще оставалась в нем. Но хватить ее могло лишь совсем ненадолго.
– Но что бы я не пришел на премьеру?!. Чтобы не засвидетельствовал своего почтения?!. Нет, Осокин – молодец!.. Появись этот спектакль пять лет тому назад, он бы был никому ненужен. Нет худа без добра!.. – говорил своей юной спутнице какой-то изысканно одетый мужчина справа. – Нет худа… Осокин… – дальше все очень бессвязно, неразличимо, перебиваемо шарканьем ног по ковровой дорожке, голосами, возгласами… Но все так же восторженно и без доли сомнения. Точно только для того, чтобы произвести страшное впечатление на завистливого школьника.
Но завистливому школьнику было неясно для чего и почему они так все старались?!
«Чушь!.. Дрянь!.. Эти восторги – чушь и дрянь… Но не могут же они быть пьяные?! И все сразу?!. Но тогда, в трезвом уме, чего ради можно так умиляться и восторгаться этими актерами?!. Что же говорящие – пьяные что ли?!.»
– Играет с колес… Лассаль… Осокин… Великолепно!.. Я с вами не согласен… Мартынов лучше… Он мог бы в этой роли лучше… Мартынов – гений!., Десять лет – «кушать подано»… Какой талант!.. Ничтожество!.. Это Осокин гений!.. Да бросьте вы, они все прекрасны здесь!.. Нет уж, дудки!.. – уже было трудно различить, кто и откуда говорил, кругом были красивые лица, великолепные наряды, шик, феерическое впечатление. Точно на завистливого школьника враз обрушили все умное, блестящее, яркое, красивое и восторженное, что можно было собрать в этот вечер с целой Москвы: лица, наряды, разговоры… Да как обрушили – с вдохновенной силой, с исступлением!
Завистливый школьник было начал прогуливаться в фойе театра кругами, но вскоре остановился, окончательно пораженный тем, как разом раскраснелись, как были восторженны и возбуждены находившиеся вместе с ним в этом небольшом помещении люди, словно теперь был какой-то невероятный момент, когда экспромтом праздновалось всеобщее неожиданное везение: будто несколько минут тому назад что-то такое вдруг совершилось, что всем сразу стало очень хорошо. Вмиг все мозги ополоснуло неожиданным восторгом.. Неужели же все это случилось только потому, что он, завист ливый школьник, появился в этом фойе и теперь растерян но стоял на его середине, не зная, куда деть себя, свои руки ноги?!.
Завистливый школьник и рад был бы не поверить этому предположению, но он до сих пор не избавился от своих недавних подозрений насчет заговора на улице перед театром, и у него вновь появилось сильное ощущение, что и здесь его пытаются одурачить. Здесь он опять был в роли того самого единственного зрителя, которого всем этим спектаклем и надо было обмануть, на которого-то и было рассчитано происходившее здесь действо!
Но тут завистливый школьник отчетливо почувствовал, как на него действует висевшее в воздухе некое странное, судорожное напряжение. Но оно действовало не только на него. О, нет, не может быть!.. Не может быть, чтобы здесь всем угрожала какая-то опасность!.. Но есть же, есть же это тягостное, гробовое чувство, которое так и витает в воздухе среди смеющихся лиц, среди тяжелых портьер и золоченых банкеток, среди буфетного шампанского и шумных, возбужденных возгласов!.. Тяжко! Тяжко и неспокойно… Хоть и смех кругом, хоть и возбуждение – радость эта мимолетна, она только на какие-то краткие миги, только на секунды! Точно люди, прогуливающиеся в фойе театра, норовят одним рынком отскочить на шаг в сторону от охватывающего их ужаса. Находящимся сейчас в театре людям тяжко и неспокойно. Но именно от того, что это так, самое большое напряжение и величайшая опасность грозят завистливому школьнику!.. Ему, а не кому-то другому, не им! Только завистливый школьник может оказаться здесь самой слабой жертвой, самой легкой добычей… И кругом – эти разговоры, бесконечные разговоры об актерах, кругом эти висящие на стенах актерские портреты, которые словно взяли все фойе в окружение. Взгляни направо – актерский портрет, посмотри налево – тоже портрет актера!.. Там – театральная афиша, здесь вот – рекламный плакат: лица актеров, их имена, названия спектаклей… Взвинченная торжественность, яркий свет люстр, стены – одно сплошное красное марево. Все это словно тонкой, мучительной струйкой выдавливало из завистливого школьника костный мозг, голова у него уже начинала болеть и кружиться, перед глазами прыгали мушки – это был уже не заговор, а самое настоящее покушение на здоровье и на саму жизнь. Еще немного – и ему уже будет не выдержать!.. Какие-то страшные, непривычные, прежде никогда с ним не случавшиеся слабость и неуверенность расплющивали его. Должно быть, это было с похмелья… Должно быть, это явилось следствием недосыпания…
– Откуда ты такой дикарь?! Откуда ты, господи?!. – вдруг раздалось у завистливого школьника за спиной.
– Что?! – он резко, кажется, даже крутанувшись на каблуках, обернулся. Теперь он тоже был изрядно взвинчен и возбужден. Он вздрагивал от громких звуков.
Под галереей актерских фотопортретов прислонилась к стене пожилая женщина, ее седые волосы были завиты в кудряшки. В руках у нее была пачка театральных буклетов, которыми она торговала, как это обычно бывает в театрах перед спектаклями.
Буклетов у нее никто не покупал, и лицо у нее было уставшее и недоброе. Фигура пожилой женщины была напряжена, а поза, в которой она стояла, – неестественна: она выставила вперед правую ногу и по-балетному вывернула наружу стопу. Странно, откуда она здесь такая взялась?!. А впрочем, чего же тут было странного?.. Но завистливый школьник все же подумал, что пожилая женщина работает здесь чуть ли не первый день и, скорее всего, скоро из театра уволится. – Вот такая мысль, возникшая вроде бы не из чего, ни к чему не относившаяся и ни на какие выводы не наталкивавшая, появилась в его голове.
– Значит, тебе никто не объяснил, что сюда надо приходить в нарядных штанах?.. А ты в чем пришел? Посмотри, что на тебе надето!.. Где ты взял эти короткие портки?!. Ты разве не слышал» что театр – это церковь искусства?! Ты слышал такое выражение, глупый дикарь? – спросила продававшая театральные буклеты пожилая женщина у завистливого школьника.
Но значит, это – иконы?! – отчего-то вдруг испытав приступ необъяснимого, едва ли не медвежьего страха тем не менее произнес завистливый школьник, и пальцем показал на фотопортреты актеров. От этого собственного жеста он испугался еще сильнее…
– Иконы!.. – уверенно и резко ответила ему пожилая женщина.
– А что же вы мой портрет здесь не повесили?.. – спросил завистливый школьник неожиданно для себя самого.
– Актеры на портретах многого в жизни добились. А ты – нет… – ответила пожилая женщина, продававшая театральные буклеты.
– Как же вы можете так говорить?.. Вы же не знаете, кто я. Может, я добьюсь в своей жизни даже большего, чем эти актеришки на портретах!.. – обиделся завистливый школьник. – Да, правильно, все дело именно в этом: вы же не знаете, чего я еще добьюсь! Я ведь еще школьник… Я ведь не могу чего-нибудь добиваться, пока я еще школьник, – добавил он.
Но на пожилую женщину с театральными буклетами в руках его слова не произвели ровным счетом никакого впечатления.
– К театру, к ярким театральным профессиям ты никогда не будешь иметь отношения! Никогда!.. Достаточно один раз взглянуть на тебя, чтобы это стало совершенно ясно, – отчеканила она. При этом в ее голосе звучала нержавеющая сталь.
– Ах вот как?!. Но почему, когда вы говорите про жизненные достижения, вы имеете в виду только лишь один театр и актеров?! Так нельзя! – воскликнул завистливый школьник. Он чувствовал себя так, словно продавщица буклетов приперла его к стене, и с мгновения на мгновение ему настанет конец. Хотя, спроси его в тот момент, в чем этот конец будет выражаться, – он бы не смог ответить.
– Здесь, в театре, творят люди яркой профессии, – пожилая женщина продолжала поучать завистливого школьника.
– Это лампочки бывают яркие и неяркие! – возразил он ей. – А профессии не делятся на яркие и не яркие.
– Делятся, очень даже делятся! – продавщица буклетов оставалась невозмутима. – Чуешь здешнюю, театральную атмосферу?.. Тебя здесь развлекают, учат, делают мудрее… И делают это необыкновенно ярко, прекрасно. Так что не будь дураком – расслабься и наслаждайся. Не суетись, тебя все равно обманут. А обманутому зрителишке ничего делать не надо – оденься покрасивше, притащись в театр и смотри пьесу. Кстати, у тебя есть такой костюмчик… Ну знаешь, наверное, такой вот… Сейчас модно такие носить… Ах, да что у тебя спрашивать, наверняка, у тебя нет такого костюмчика!.. Советую тебе – наслаждайся актерами. Внимательно смотри на них. Особенность в их яркой профессии следующая: в их яркой профессии одной работой, одним трудолюбием ничего не добьешься. Кстати, я тоже отрицаю тупой монотонный труд. Например, такой, как продажа буклетов… Так вот, в яркой актерской профессии нужно, кроме трудолюбия, еще кое-что… Я бы даже сказала не кроме, а вместо трудолюбия!.. Что конкретно? Никто не знает!.. Ха-ха!.. Наверное, талант, внешние данные, везение, связи… Ха-ха!». Какой же ты все-таки дикарь и какие на тебе ужасные штаны!.. Нет, у тебя никогда не будет яркой профессии.
Завистливый школьник пытался вставить в ее тираду хоть слово, но, кажется, ее уже было невозможно остановить. Она все говорила и говорила:
– Многие люди хотят пальцем дырку в столе провертеть, упорством взять, усидчивостью. А это сейчас самое презираемое. Я, например, сейчас восторгаюсь одной лишь яркой актерской профессией. Актеры не тратят время на тупой монотонный труд, от которого, лично у меня, через пять минут начинается аллергия. Этот чертов монотонный труд не дает в яркой актерской профессии никакого эффекта. Для успеха в яркой актерской профессии нужен не занудный труд, а что-то другое. Что именно – точно никто не знает. Ха-ха!.. Я сейчас пью таблетки от аллергии. Одна таблетка – и нет аллергии, и все время хорошее настроение. Лично я восторгаюсь актерами. Все остальные люди имеют совсем неяркие профессии. Все у них хуже. И сама жизнь – тоже хуже. Ты – дурак!.. Ты, судя по всему, не умеешь наслаждаться театром.
Завистливый школьник все-таки оборвал пожилую женщину – он начал говорить, не дожидаясь пока она закончит свою речь. Завистливый школьник говорил с жаром, с силой понимания, которое вдруг ему открылось:
– Но значит, вы не станете восторгаться успехом в той неяркой профессии, где добиться чего-нибудь можно только одной лишь монотонной, самой каторжной, самой ломовой работой?! В той неяркой профессии без сна и отдыха трудиться нужно, в ней нужно проявить железную волю, но восторгаться человеком, который добился успеха в такой неяркой профессии вы не станете, его портрета не повесите на стенку!.. Не повесите на доску почета!
– Бывают разные доски почета, – по-прежнему спокойно ответила пожилая женщина, продававшая театральные буклеты. – На одну из досок почета и твой портрет повесить могут. Но почет той доски будет не яркий, не такой, как почет портретной галереи актеров, которая есть здесь, в театральном фойе. Почет у тебя будет, да не тот. Не тот яркий почет, которого всем, и тебе в том числе, больше всего хочется. Ведь правильно же – хочется тебе эдакого-то, театрального почета, а?.. Нашего почета?.. Нашей яркой профессии?.. Не может быть, чтобы тебе не было завидно!..
– Как же вы смеете так говорить?!. – завистливый школьник не унимался. – Вы мой усилитель… Ах, вы же ничего про мой усилитель не знаете!.. Вы всю радиоэлектронику как отрасль человеческой деятельности пустили по второму сорту, зачислили в неяркие профессии. Значит, заниматься радиоэлектроникой хуже, чем актерствовать?! Я не согласен!.. Слышите, вы, непробиваемая тетка!.. Я с вами категорически не согласен! – он уже почти перешел на крик и только испугавшись собственного громкого голоса замолчал.
– Глупо сравнивать профессии друг с другом. Вот почему про это нигде и не пишут. Тема сравнения профессий щекотлива, тема ярких и неярких профессий в печати никогда не обсуждается. Хотя всем давно понятно, что наш театральный успех – это успех особенный, яркий. И почет к нам тоже – особый, яркий, тот, которого всем хочется. Да не все его получат: Ну ладно, иди, не стой возле меня… Ты ничего не понимаешь… Я скажу им, что из-за тебя у меня ничего не купили… – она осеклась, словно враз образумившись, точно нечаянно проговорилась о чем-то и теперь жалеет об этом.
Но завистливый школьник остановиться уже не мог, хотя говорить стал чуточку потише:
– Но если совсем не хочу заниматься этим театром, этим актерством?!. Да, правильно, у меня нет отличных внешних данных и нет актерского таланта, но ведь мне и не нужно ни то, ни другое! Я радиолюбитель, у меня будет другая профессия, пусть и нет в ней ничего яркого… Тьфу ты, прилипло!..
– Тебе не нужны хорошие внешние данные и талант?! Ну ты и дурак! Ха-ха! – развеселилась продавщица театральных буклетов.
– Да, не нужны, потому что я планирую добиться успеха в профессии радиоэлектронщика! Может, я хочу усидчиво, монотонно трудиться! Именно такой труд мне и нравится. Поработал, а потом – чайку с пряниками попил!.. Чайку… Отдохнешь, и опять… Вы знаете, когда паяешь усилитель, то только такой монотонный труд и нужен: очень много мелких деталек, всяких тоненьких медных проволочек, разноцветных проводков!.. Успех достигается именно усидчивостью и монотонной работой. Не нужна тут взвинченная атмосфера, модные костюмчики, отличные внешние данные… Тут монотонный процесс, никакой яркости. Зато потом, благодаря этому усилителю, вы получаете такой необыкновенный звук, что все поражаются!.. Я вашей яркой театральной профессии ни капельки не завидую, честное слово. Правда, ни капельки!.. Как же я могу завидовать вашей яркой театральной профессии, если я в театре сегодня только во второй раз? Да вы же тоже используете у себя в театре усилители! Должны же использовать!.. Вам без людей неярких профессий не обойтись!.. Без того, что дают люди неярких профессий… Тьфу ты, прилипло: яркие – неяркие!.. Но почему вы сразу смеетесь, если я не хочу заниматься актерством, театральными делами. Почему вы сразу делите успех на яркий и неяркий?!. Словно вы подталкиваете меня к тому, что я обязательно должен завидовать вашей актерской, театральной профессии. Зачем вы так жестоко разделяете профессии на яркие и неяркие?!. Почему вы считаете занятие радиоэлектроникой неяркой профессией, профессией второго сорта, недостойной восхищения?!. Ведь почетны все профессии, так нас в школе учат! Да ведь и вы сами – не актриса, а всего лишь продавщица театральных буклетов. Значит и вы занимаетесь неярким делом, и ваша профессия – неяркая!..
Следом у завистливого школьника вырвался неожиданный вопрос:
– Как же мне теперь быть? Ведь теперь я обязательно стану сравнивать профессии по степени яркости, начну завидовать и мучаться, – еще короткое время назад он и предположить не мог, что подобная перемена в его чувствах возможна.
И тут в голове завистливого школьника сегодняшние «заговоры» наконец-то сложились в цельную, ясную картину.
Он понял, в чем причина напряжения, которое он чувствовал повсюду, теперь завистливому школьнику стало ясно, отчего у людей, прогуливавшихся в фойе театра, были так судорожно сведены нервы: судорога возникала от сравнения профессий. «Как удержаться от того, чтобы не начать сравнивать профессии, и что делать, когда вдруг станет окончательно ясно, что моя профессия – неяркая?» – каждый из зрителей, собравшихся в театральном фойе, видимо, задавал себе именно такие вопросы. Словно объевшаяся таблеток продавщица театральных буклетов была права, хоть завистливый школьник так до конца с ней и не согласился. Точно действительно все успехи делятся на яркие и неяркие. А раз так, то перед завистливым школьником открывалась страшная, жуткая перспектива: сколько бы он со своими усилителями ни старался, не видать ему яркого успеха как своих ушей. И когда бы ни пришел он в театр: и сейчас, и через десять лет, и через двадцать, каждый раз он будет понимать, что все, чего он добился в своем неярком занятии, – это ничто по сравнению с настоящим успехом в яркой театральной профессии. И никак в его неярком деле яркого успеха добиться нельзя, какую бы ни сделал он титаническую работу, какое бы ни проявил адское терпение, – все его труды будут зачтены по другому, неяркому ведомству. Ничего тут терпение и труд не способны были изменить, поскольку скроены они были не по яркой, не по актерской, не по театральной мерке. И никакого отношения тот адский труд к такому вот вечеру в театре никогда не станет иметь. Как ни старайся, все будет второй сорт, все, как говорила эта буклетерша, почет, да немного не тот. И знал, знал завистливый школьник, что помимо всех органов чувств был в нем какой-то орган, который только для того и существовал, чтобы отличать помимо ума, помимо чувства справедливости яркое от неяркого. Орган этот никуда не денется, до конца жизни его атрофироваться не сможет, как бы он сам этого ни хотел.
А ведь точно: не тот почет, не тот! Не та в нем приправа, не та специя, не тот вкус и запах!.. Совсем другое в нем дело! Другое, неяркое занятие!..
В том страшном миге, когда завистливый школьник это все понял, был один хороший момент: теперь ему было ясно, кто здесь главные заговорщики – ими были те актеры, что были изображены на портретах, висевших в театральных фойе.
А людишки-зрителишки, которые восторгались в фойе театра игрой актеров и спектаклями, сами были в точно таком же положении, как и он. Единственная разница между ними и им, школьником, заключалась в том, что он был среди них самым глупым, самым наивным. Ведь он начал догадываться о разнице, существующей между яркими и неяркими профессиями, только сейчас и то – благодаря подсказке пожилой женщины, продававшей театральные буклеты. Так что людишки-зрителишки, якобы случайно оказавшиеся рядом с ним и беседовавшие в фойе театра, на самом деле действительно ломали перед ним комедию. Ведь перед ним, пришедшим в театр всего во второй раз в своей жизни, и они тоже могли сойти за представителей ярких профессий. Они думали, что он дурачок и не знает, что профессии, в которых они трудятся, ничуть не ярче его радиоэлектронных занятий. Они хотели в его глазах сойти в этом театре за своих и тем потешить свое самолюбие, каждый из них придумал для себя какую-нибудь мелочь, деталь: манеру держать незажженную сигарету, говорить со значительным видом какие-нибудь умные фразы, – и этой мелочью пытался произвести на него впечатление, потрясти его, чтобы он ужасно мучался, ходил и не мог понять, что же есть в них такого замечательного, что так блестят они и такие кружат хороводы друг с другом, каким таким странным способом они смогли вдруг всех обмануть и добиться в своих неярких занятиях яркого успеха?!. Ведь он в своих стареньких коротеньких брючках был среди них в самом невыгодном положении, на его убогом фоне и они могли сойти за представителей ярких профессий, за блистательных заговорщиков.
Не заговорщики! Они на самом деле не заговорщики – та высокая и худая женщина своими восторгами пыталась скрыть от него именно это. И тот мужчина тоже пытался от него это спрятать…
А ведь им так хотелось стать блестящими и яркими, как актеры, заговорщиками! И ведь стали людишки-зрителишки заговорщиками, хоть на секунду, а стали!.. На миг сменили свое неяркое занятие на яркое. Все потому, что в театре появился он – простачок-школьник.
И вот у людей, прогуливавшихся и беседовавших друг c другом в фойе театра, было уже такое выражение лица, такой радостный, почти истерический бред они продолжали нести, – так представлялось завистливому школьнику, – словно только что они ждали чего-то ужасного и вдруг узнали, что это ужасное не произойдет. А у кого-то из них было даже такое выражение лица, словно он именно в эту минуту слушал, как: ему говорят: нынче и ты – блестящий и яркий заговорщик, исчез вопрос о принадлежности к яркой профессии, больше не: делятся профессии на яркие и неяркие. И прогуливавшийся в фойе театра зритель никак не мог поверить в это; но сам, тем! временем, уже готов был сойти с ума от счастья и желал слышать это известие еще и еще: что он тоже яркий заговорщик и не делятся больше профессии на яркие и неяркие. Но ведь это была ложь, что он – яркий заговорщик! По-прежнему витала в театральном фойе ужасная мысль о том, что успехи я профессии делятся на яркие и неяркие, и потому, поглядывая на обманутого ими простодушного школьника, находившиеся здесь люди все же спрашивали себя: что же нам делать, как же нам быть? Как нам не сравнивать свое неяркое занятие с яркой актерской профессией?! Но продолжать задавать себе этот вопрос означало для них сойти с ума. А чем сойти с ума, уж лучше им было попытаться примитивно обмануть себя: и мое занятие яркое, и мой успех – яркий, и я – блестящий заговорщик! И вот уже дикое, безумное возбуждение ширилось и вздымалось кругом: «Ах, Лассаль!.. Ах, Курочкина!.. Ах, Осокин!.. Видали ли вы?!. Слыхали ли вы?!. Ну что вы!.. Зря!.. Душа моя, непременно спешите в театр!..»
Завистливый школьник уже был готов сказать пожилой женщине, продававшей театральные буклеты, самые отвратительные грубости, но как раз в этот момент в фойе театра, прямо у входных дверей произошла одна сценка, которая отвлекла его от этого разговора.
Пока завистливый школьник общался с пожилой женщиной, продававшей театральные буклеты, Таборский, выкурив в стылом предбаннике сигарету, которой он дымил, неизвестно кого поджидая, вошел обратно в фойе театра. То ли из вредности, то ли она действительно забыла, как он выходил, но билетерша вновь потребовала у Таборского билет. Чтобы избежать напрасного долгого спора, – до спектакля оставалось не так много времени и как раз в тот момент в дверь валило великое множество опаздывавшего народа, которому он мешал, – Таборский полез в карман за бумажником, в который он положил свой, уже один раз надорванный на контроле театральный билет.
Как и совсем недавно возле гардероба, бумажник опять не хотел вылезать из кармана, и билетерша попросила Таборского отойти в сторонку, потому что он задерживал возникшую у входной двери очередь. Но Таборскому именно в этот момент удалось извлечь бумажник на свет божий и он уже полез в то отделение, где вместе с деньгами должен был быть сунутый туда второпях театральный билет. Сразу за Таборским стояла большая и шумная группа подростков, судя по виду приехавших в Москву откуда-то из провинции, – он шагнул в сторону, пропуская их в двери. Один из подростков, рванувшихся вперед, толкнул его под руку, и пачка денежных билетов, которую Таборский столь небрежно сунул в бумажник еще когда стоял у гардероба, вывалилась на пол.
Если бы деньги были сложены аккуратно, купюра к купюре, они бы, наверное, и упали аккуратно. Но Таборскому в этот день не везло: купюры веером разлетелись в разные стороны так, как их, наверное, нельзя было бы раскидать и нарочно! Самым примечательным было то, что большинство купюр оказалось самого крупного или предпоследнего перед самым крупным, достоинства. Под ноги толпившимся подросткам из провинции на пол театрального фойе легли тут и там суммы, где размером в месячную стипендию студента-отличника, где в аванс инженера, а где – в чью-нибудь пенсию.
Подростки протяжно охнули и, кажется, приготовились в следующую секунду кинуться собирать с полу рассыпавшееся богатство. Таборский обреченно замер. Пораженно замерли, чуть ли не раскрыв рты, и остальные люди, находившиеся поблизости в театральном фойе и обратившие внимание на эту сцену. Раздавшиеся при этом пораженные возгласы слились в один громкий возглас, который и отвлек внимание завистливого школьника от разговора с пожилой женщиной, продававшей театральные буклеты. Неизвестно, что бы было потом и как бы Таборский отбирал у школьников свои деньги, какое дознание пришлось бы провести сопровождавшее группу подростков учительнице, но в эту секунду на входе в театр появился тот самый человек с гордой, непокрытой головой и в белом шарфе, который так поразил своим вдохновенным видом завистливого школьника, когда тот еще только шел сюда.
Только теперь завистливый школьник вспомнил, что несколько раз видел этого человека по телевизору. А это был начинавший, но уже громко заявивший о себе молодой актер по фамилии Лассаль, которого к этому времени успели объявить великим некоторые критики, настроенные особенно благожелательно и восторженно.
Лассаль вошел в фойе театра, глядя куда-то поверх голову как раз в ту секунду, когда находившиеся там люди вскрикнули из-за рассыпавшихся денег.
Произошедшая за этим немая сцена длилась целых десять или двадцать секунд: все, кто был в этот момент в фойе театра поблизости от входа, включая подростков из провинции, конечно, узнали Лассаля и ждали, что он станет делать, увидав лежавшие на полу прямо у его ног крупные деньги.
Лассаль же, который вошел в фойе театра с гордо поднятой головой, как показалось завистливому школьнику, не видел того, что было у его ног и, вероятно, решил, что пораженные возгласы, которые на самом-то деле относились к рассыпавшимся деньгам, вызваны его появлением.
Впрочем, конечно, неожиданное появление Лассаля именно в этот момент еще больше поразило находившихся поблизости людей. Два этих события – падение денег и появление Лассаля – наложились друг на друга, и Лассаль, как представилось в этот момент завистливому школьнику, сам удивился, что один его вид действует на людей подобно грому с ясного неба. Конечно, как представлялось завистливому школьнику, Лассаль знал себе цену и знал, что производит на зрителей сильное впечатление, но что оно до такой степени сильно, Лассаль, безусловно, не предполагал. Лассаль не смог сдержать довольной улыбки и, по-прежнему не глядя себе под ноги, прошел в фойе прямо по лежавшим на полу деньгам Таборского, мимо билетерши, которая с восторгом к угодничеством заглядывала ему в лицо, не зная, чем она в этот момент может услужить ему.
Он прошел по деньгам, оставив на купюрах грязные большие следы, и некоторые из них даже прилипли к подошвам его ботинок и отвалились лишь позже. И завистливый школьник вдруг увидел, как велик, как огромен этот человек в своем невероятном экстазе, в своем самолюбовании. Как каждая клеточка тела этого человека послушно двигалась в такт его тигриной, легкой и сильной походке. И завистливый школьник, кажется, самим костным мозгом своим ощутил, что даже если и принять на веру бредовое предположение, что до этого мига человек этот, Лассаль, был совершенно ничтожен, пуст, глуп, и только глупость и неразборчивость толпы могла вознести его куда-то, на какой-то пьедестал, где есть известность и величие, то в эту секунду он нечто такое пережил, такая страшная дуга восхитительного экстаза в нем блеснула, что выжгла она в нем невероятный, фантастический след. И след этот до самой смерти читаться будет в горящих глазах его, и будут смотреть в глаза эти потрясенные зрители и верить им, верить, что бы и как ни говорил человек этот, одним блеском этим завороженные…
На Таборского Лассаль даже не взглянул. Остановившись, Лассаль крикнул какой-то другой женщине, похожей на билетершу, которую завистливый школьник поначалу не заметил и которая уже бежала к дверям, к театральному кумиру совсем с другой стороны фойе.
– Анна Серафимовна, что же это такое?! В служебный вход – не войдешь!.. Заперт!.. Я столько времени жал на звонок!.. – крикнул Лассаль строгим голосом, а сам в этот момент продолжал улыбаться. Завистливому школьнику представилось, что Лассаль все сильнее начинал осознавать, какой невероятный, удивительный вскрик раздался в фойе театра при его появлении, как округлились глаза находившихся там людей, как замерли они пораженно, когда он вошел в дверь.
Всю эту сцену – разинутые рты, перекошенные лица, обалдевшую билетершу, которая не знала, куда ей кидаться, Лассаль – полагал завистливый школьник – принял за подтверждение собственного величия. И от такого невероятного, потрясающего, невиданного впечатления, которое он, может, в глазах зрителей не видел ни на одном из своих спектаклей, актер Лассаль взлетел, вознесся к самым вершинам счастья – так в этот миг представилось завистливому школьнику, потому что глаза Лассаля стали лучиться уже неким безумным счастьем, а превосходство над собравшимися в театральном фойе людьми, которое он излучал, уже стало немного отдавать сумасшествием…
Тем временем никто не бросался собирать деньги, никто даже не шелохнулся, не сделал ни шажка, не нагнулся. И в первую очередь не спешил подбирать с пола свои деньги сам Таборский.
Дальше все происходило очень быстро: женщина что-то тихо сказала Лассалю, и он, подписав несколько программок, протянутых ему подсуетившимися почитателями, пошел обратно к двери и тут наконец заметил Таборского, который стоял невероятно прямо, так, как будто это не его деньги валялись на полу, и так же, как все, смотрел на Лассаля.
– Как ты поживаешь? – спросил Лассаль Таборского, вероятно, по старой дружбе. – Зарабатываешь деньги?.. Ну-ну!.. Зачем ты ушел из театра? Ты же творец, Таборский!.. А не какой-то жалкий концертный администратор!..
– Но почему сразу жалкий?! Может, это мое призвание!.. – спокойно проговорил Таборский.
Лассаль по-прежнему не смотрел себе под ноги, а между тем одна из крупных купюр даже прилипла к подошве его ботинка.
– Это его призвание! Может… – Лассаль кивнул в сторону завистливого школьника, который к этому моменту уже подошел к ним совсем близко. – А Таборский мог блистать на сцене!..
– Да ну тебя! Иди, тебе надо сейчас играть… И не нужно было тебе появляться здесь, в фойе.
– Иду, а ты собирай деньги… – сказал Лассаль и стало понятно, что он с самого начала разглядел, что лежит на полу.
– Да ну их к черту! – сказал Таборский и, не оборачиваясь, медленно пошел куда-то в сторону буфета.
Лассаль, хмыкнув, вышел из театра. Никто по-прежнему не шевелился.
– Стойте! – крикнул Таборскому завистливый школьник. Таборский остановился и, обернувшись, отрешенно посмотрел на него.
А завистливый школьник уже торопливо подбирал рассыпанные на полу купюры. Мигом собрав их, он подбежал к Таборскому и протянул тому деньги:
– Возьмите!.. Бедные, несчастные деньги, совершенно неяркие!.. Беззащитные. Как он их растоптал! А одну купюру он даже унес на своем ботинке. Деньги за себя постоять не могут.
– Что?! – пораженно спросил Таборский, беря деньги из рук завистливого школьника.
– А то, – сам себе удивляясь, сказал завистливый школьник, – что деньги – это тоже штука неяркая, скромная! Успех, да не тот!.. А ведь сколько на них всяких полезных вещей, всяких радиодеталей можно купить!
– Странные у тебя рассуждения, – проговорил Таборский. – Но, во всех случаях, спасибо за помощь. Приглашаю тебя со мной в буфет. Я как раз шел выпить вина. Ну а тебя угощу мороженым.
Они пошли в буфет.
– Кто этот человек в белом шарфе? – спросил по дороге завистливый школьник.
– О, это знаменитость, восходящая звезда актер Лассаль. Он действительно великолепный актер. У него во всем свой оригинальный почерк. Он и к спектаклю-то, в отличие от большинства актеров, никогда не готовится, играет с колес, приходит в театр позже зрителей. Сегодня ты его увидишь на сцене. Он играет Арбенина. Не знаю, почему он позволил себе появиться в фойе перед спектаклем…
– Да-а, жаль мне вас с вашими неяркими, беззащитными деньгами. Лассаль по вашим деньгам прошел и даже не взглянул на них, стал автографы раздавать. Я же понимаю, как вам должно быть обидно: вам же хотелось, чтобы все восхищались вашими деньгами, говорили о них, и вот – ваши деньги в грязи лежат, а все в этот момент смотрят на Лассаля, а на вас с вашими деньгами, хоть они и очень большие, никто внимания не обращает. И он первый не обращает. Наоборот, вы даже всем мешаетесь, раздражаете всех. Я представляю, как вы должны не любить театр и актеров!..
– Перестань, все это неправда, – Таборский положил на плечо завистливому школьнику руку. – Театр – это самое прекрасное, что есть на свете, а актеры – замечательные, талантливые люди, я сам еще недавно был актером. Так что все, что ты говоришь, – это чушь и неправда!
– Как неправда?!. Он и сам про вас сказал, что вы жалкий администратор, а могли бы быть творцом, блистать на сцене. Значит, вы должны завидовать. Оно и понятно, профессию актера с профессией администратора не сравнить – не та яркость!..
– Перестань, администраторы в театральном деле тоже нужны. И никому я не завидую. Тем более Лассалю – он мой друг. По крайней мере, я считаю его своим другом… Кстати, с чего ты взял, что я администратор?!.
Они подошли к буфету и, не становясь в очередь, Табор-ский попросил у буфетчицы бокал вина. Никто из множества людей, стоявших в очереди, не сказал им ни слова, наоборот, все почтительно расступились перед ними, но, как это часто бывало в те годы, буфетчица была согласна продать только бутылку целиком, и Таборский взял целую бутылку. Завистливому школьнику он взял мороженое. Они сели за свободный столик, и Таборский выпил немного вина.
– Я слышал, вы ушли из театра, – проговорил завистливый школьник.
– Да, мне кажется, так честнее. У меня нет большого таланта, а на роли второго плана я не согласен. Я все время обижался на всех: на главного режиссера, на других актеров, спорил со всеми. Я слишком самолюбив, и мне было тяжело играть вторые роли, – ответил Таборский. – Попробую себя в чем-нибудь другом. Мир такой огромный!.. В нем так много интересных дел!
– А-а… Вот видите, вы признались, на роли второго плана вы все-таки не готовы! – воскликнул завистливый школьник.
– Потому что должно же быть где-то на свете дело, в котором я буду способен играть роли первого плана!.. – возразил Таборский.
– Но делать деньги – это, во всех случаях, не то, что вам нужно!.. Я же понимаю, вам хочется, чтобы все вам завидовали, все вами восхищались, но добиться восхищения одним лишь богатством – невозможно. Богатство – это лишь сумма денег, а сумма – это цифра, а цифра – вещь совершенно серая и неяркая. Успех – да не тот!..
– Какую чушь ты городишь!.. – сказал Таборский.
– Значит, вы не согласны со мной? – спросил завистливый школьник.
– Конечно, не согласен, – ответил Таборский. – Ты что, воспринял всерьез то, что я сказал там, у гардероба?.. Я же шутил!.. Я совсем не хочу, чтобы мне завидовали. И концерты эти я организовывать больше не буду. С этими концертами рано или поздно сядешь в тюрьму, а это мне совсем ни к чему. Деньги, конечно, идут хорошие, но уж больно как-то все рискованно. Нет, не хочу я больше с этим связываться!..
– А что же вы будете делать?
– Честно?
– Конечно, честно!
– Если честно, то я не знаю… Знаешь, я жалею, что не пошел в военное училище. Мне кажется, это было мое призвание. Но теперь уже поздно сокрушаться!.. – сказал Таборский.
– А скажите, радиоэлектроника – это яркое занятие или нет? – спросил завистливый школьник.
– Конечно яркое! Сейчас столько всего нового, интересного с электроникой связано!.. Действительно, это ты правильно сказал: яркого!
– Я не говорил. Я спросил, – поправил его завистливый школьник.
Прозвучал первый звонок, потом – второй.
– Ну ладно, – поднялся со своего стула Таборский. – Я вообще-то должен встретить у входа одного человека, отдать ему ту самую сумму, про которую ты говоришь, что она жалкая, беззащитная и совсем за себя постоять не может. А его все нет и нет. Как бы мне не опоздать в зрительный зал. Ты давай, доедай мороженое, а я пойду, подожду его там, у входа, покурю еще на холодке. Позакаляюсь…
Таборский ушел.
Завистливый подросток посидел с полминуты в задумчивости, а потом взял едва начатую Таборским бутылку вина, наполнил до краев его стакан и залпом выпил его. Поморщился и тут же, налив второй стакан, вновь выпил.
– Эй, ты что, с ума сошел, а ну-ка!.. Товарищи, заберите у него бутылку!.. – закричала заметив его художества буфетчица.
Не дожидаясь продолжения криков, завистливый школьник встал и пошел из буфета в фойе. В желудке у него уже было ужасно нехорошо, а в голову ударила сильная волна опьянения.
Дали третий звонок. Завистливый школьник вошел в зал и разыскал свое место. Кресло рядом с ним оказалось свободно – девочка в театр все-таки не пришла…
Свет погас и раскрылся занавес.
Сцена… В центре – огромный карточный стол. Зеленое сукно, багрово-красный ковер. Сверху – лампа в абажуре. Сидят игроки, рассыпаны карты, мечут банк. Кругом мрачная декорация: бастионы Петропавловской крепости, шпиль собора, высунувшийся из небытия кусок решетки Летнего сада, ветвь засохшего дерева, фиолетово-черная Нева, такое же небо с плывущими по нему страшными облаками, причал, безмолвный силуэт парусника…
Спектакль начался, спектакль шел… Вывод, вывод… Что делать?.. Какой из всего вывод? Практический вывод… У завистливого школьника было такое чувство, что время каким-то образом остановилось. Точно бы теперь он был совсем не тот человек, который еще пятнадцать минут назад спорил с продавщицей театральных буклетов… Все вокруг него было как-то слишком степенно, спокойно… Нет, так не должно было оставаться… Что же он? Совсем себя не уважает, что ли?!. После всего того, что с ним произошло, просто так сидеть и смотреть?!.
– …Давно уже не был с вами, – говорил на сцене одетый в черный с отливом фрак и белую манишку Арбенин своему собеседнику, Казарину. На Арбенине были черные лаковые штиблеты. Как-то с трудом верилось, что именно такие носили в девятнадцатом веке. Должно быть, в костюмерной не нашлось ничего подходящего к ноге Лассаля.
«С вами… С вами…» – мелькнуло в голове у завистливого школьника. В правой руке он скомкал надорванный синеватый билетик с чернильным штампом маленькими, расплывавшимися по плохой бумаге буковками: «Маскарад». Нет, практический вывод был в этой ситуации решительно необходим, к выводу его, к тому же, подхлестывало недавно выпитое винишко. Он еще больше горячился от этого вина, ему хотелось действия, но какое в зрительном зале могло быть действие – зрителям полагалось тихо сидеть, смотреть и слушать. Все действие здесь шло на сцене.
Рядом с завистливым школьником сидел пожилой зритель. Было трудно понять, один ли он пришел в театр или с той старушкой, что была одета в ярко-красную, прошитую блестящими нитями кофту, и сидела от него по левую руку. Пожилой зритель очень внимательно смотрел на сцену и время от времени более или менее громко, впрочем, вполне в рамках приличий, так что это было слышно лишь его ближайшим соседям, делал те или иные, большей частью восторженные замечания о спектакле и игре актеров.
Рукава серенького костюма на пожилом зрителе были очень заметно потерты – это завистливый школьник разглядел еще до того, как в зале погасили свет, – а из наружного кармашка на груди торчала дешевенькая шариковая ручка. Седые волосы пожилого зрителя были аккуратно зачесаны назад. Он счастливо и беспечно улыбался каким-то своим, одному ему известным мыслям. Должно быть, в этом театре ему очень нравилось.
«Господи, какой идиот!.. Какой идиот!» – поражался завистливый школьник.
Он подумал, что пожилой зритель мог быть завзятым театралом, который приходил сюда каждый вечер. Программка, лежавшая у пенсионера на коленях, была вся исчеркана какими-то пометками.
– Каков Лассаль!.. Каков Арбенин! – вдруг воскликнул пенсионер неожиданно громко. Так, что это замечание разнеслось по всему залу и, скорее всего, долетело до самой сцены, до ушей Арбенина.
«Подхалимничает!» – пронеслось у завистливого школьника в голове. У него не было сомнений в том, что пожилой театрал подхалимничал. Но что за жалкая доля: всегда быть на вторых ролях! И если Таборский сбежал от этой доли, то пожилой театрал сам выбрал себе такое увлечение: приходить каждый вечер в театр, сидеть в темноте, смотреть с обожанием на сцену и потреблять, потреблять, потреблять «произведения» своего кумира. Но это же было не пиво!.. Пиво хотя бы не требовало подхалимажа – заплатил деньги и пей, пользуйся сколько хочешь. А что было здесь?!. Заплати деньги и еще сиди – выражай, как тебе все это очень нравится! Глядишь, заметят тебя, скажет потом Лассаль: «Вот тот облезлый дурачок, который сидит каждый вечер в шестом ряду, – он мне очень нравится, он меня больше всех обожает. Правильно делает, что обожает! Меня стоит обожать!.. Особенно таким ободранным, ничтожным пенсионерам…»
– Но здесь есть новые. Кто этот франтик? – спрашивает Арбенин у Казарина.
«Франтик» – это невысокий темноволосый человек в пестрой, нарядной жилетке, с массивной золотой (конечно, это было не настоящее, а театральное золото) цепью от часов, свисавшей из кармана. Типаж актера, назначенного на эту роль, грим были таковы, что у зрителя с самого начала не возникало к его герою симпатии.
Тот, про которого говорили, подошел к Лассалю и с угодливой улыбкой произнес, явно желая произвести самое выгодное впечатление и рассчитывая на знакомство:
– Я вас знаю…
– Помнится, что нам встречаться не случалось, – ответил Лассаль. Тон его был холоден, а лицо приняло выражение едва ли не презрительное. Чувствовалось, ему уже хотелось отвернутся от навязывавшегося ему в знакомые человека.
«Так, должно быть, он и мне скажет, подойди я к нему где-нибудь на улице! – подумал завистливый школьник. – С таким же выражением лица!»
Завистливый школьник остро чувствовал, что он теряет время, что что-то надо делать. Ему было даже странно, что он вообще вошел в этот зал после всего, что с ним сегодня произошло, после всего, что он сегодня увидел и услышал. Ведь здесь он мог лишь сидеть и потреблять!.. Вроде как его развлекали! Какой жалкой ему казалась эта роль: быть просто развлекаемым! Повышать твой культурный уровень!.. Ерунда! Никогда он не был тупым потребителем чего-то, что делали другие!.. Если он и был готов играть в эту игру, то лишь играть в нее на равных с актерами: пусть будет пять актеров, но и пять зрителей, пусть не только актеров здесь уважают, но и зрителей, пусть не только актерами восхищаются, но и зрителями. Пусть зрители тоже что-то дают им, актерам, и актеры ими, зрителями, за это восхищаются. Пусть актеры не воспринимают зрителей лишь как благодарное им, актерам, стадо, которое в нужный момент хлопает в ладоши и, встретив своих кумиров в фойе театра, униженно просит их расписаться на программке спектакля. Пусть Лассаль тоже выпрашивает у зрителей автографы!
Да, именно в этот момент завистливый школьник решил что он больше не может и не должен оставаться в зале театра. К тому же от выпитого в буфете вина его стало очень сильно тошнить.
– По рассказам. И столько я о вас слыхал того сего… – неслось со сцены.
Завистливый школьник три раза подряд громко икнул. А где же Таборский?..
Он привстал со своего кресла и, вертя головой, осмотрел зал. Он увидел едва проступавшую в темноте лепнину балконов и лож, слегка поблескивавший хрусталь огромных люстр, до его ушей донеслись какие-то неясные, приглушенные шорохи и покашливания. По-прежнему шел спектакль… Да, вот уж чего он сам от себя не ожидал, так это такой покорности: после всего, что ему наговорила пожилая женщина, которая продавала театральные буклеты, после разговора про яркие и неяркие профессии, он вместе с остальными баранами-зрителями приплелся в этот зал и принялся потреблять наравне со всеми предлагавшуюся со сцены жвачку. Хотя к баранам-зрителям он не испытывал особой злости, наоборот – ему было их жалко: скорее всего, они просто не понимали всей унизительности собственного положения. Баранам-зрителям не хватало ума для того, чтобы осознать, в каких пошлых, тупых, ничтожных и никем не уважаемых потребителей всего этого «искусства», хотя еще надо проверить, что это за «искусство», – искусство ли это на самом деле? – их превращают в угоду вот таким вот Лассалям. Да что там Лассаль – он тоже был лишь частичкой большой театральной системы. Быть может, даже ее жертвой… Да где же этот чертов Таборский?!. Неужели он уже вышел из зрительного зала?!. Хотя, с другой стороны, только такой уход и мог быть единственным правильным решением, избавлением от позора!.. Самому развлекать и раздавать автографы – это одно, но так быть развлекаемым – это совсем другое!.. Куда же все-таки этот Таборский запропал?.. Ведь вроде после того, как в зале погас свет, из него никто не выходил!.. Может, Таборский, поджидая кого-то у входа в театр, все-таки не успел на спектакль?.. Ну да Бог с ним, с Таборским!.. Теперь уже совсем не до него: самому уходить надо!.. Уходить отсюда прочь!.. Уходить!..
Между тем, как ни старался Шприх завести дружбу, – все было тщетно. В конце концов, когда он наконец отошел в сторону, Лассаль проговорил со злостью: «портрет хорош, – оригинал-то скверен!»
Самая большая масса скверных оригиналов сидела в зрительном зале!.. И потому, не мешкая, из него надо было уходить!.. И даже не уходить, а бежать…
От выпитого вина завистливому школьнику становилось все хуже и хуже.
– Каков Арбенин! Каков!.. Как играет! – продолжал на свою беду восторгаться пожилой зритель. – Стоит посмотреть!.. – прошептал он, наклонившись к завистливому школьнику.
В этот момент завистливый школьник наконец не выдержал, – встав со своего кресла он проговорил так, что было слышно всему залу:
– Посмотреть-то стоит, потому что, спору нет, Арбенин хорош!.. Но вы-то, зритель, сами что же?!. Вы-то, зритель, каковы? Что же, все один Арбенин хорош?!. А вы сами-то, зритель – что?!. Получается, вас тут вовсе нет, на вас тут никто внимания не обращает. Лассаль хорош, спору нет!.. А вы-то каковы и где?!. Нет тут вас, зритель, вовсе, вот что!
– Почему же, я есть… – опешил пожилой зритель. – Молодой человек!.. Ты?!. Я есть!.. – от растерянности он тоже заговорил достаточно громко.
– Это вы там где-то есть, где вы ходите или ходили когда-то на свою работу!.. Надо ли вам так здесь унижаться?!.. Ведь пойдут же они, в конце-концов, все к черту вместе со своим театром!.. Бедный пожилой зритель, не унижайтесь! – странно, но в тот момент, когда завистливый школьник поднялся с кресла и распрямился, извержение, которое начиналось у него где-то в желудке, замедлилось и тошнота на мгновения слегка ослабла.
– Я никак не унижаюсь… – пожилой зритель изумился еще больше и посмотрел по сторонам. Он понимал, что весь зал и, наверняка, актеры со сцены смотрят теперь на них. Пожилой зритель не знал, как себя вести, он попытался схватить завистливого школьника за воротник, но тот увернулся.
– Вас здесь с вашей неяркой профессией просто не существует, с тем неярким успехом, которого вы добились в жизни… Мне очень жаль вас!.. – на глаза у завистливого школьника наворачивались слезы. – Жалко вас, правда! Жалко!.. Мне вас жалко!.. Вы – жертва!.. Несчастная и жалкая жертва!..
Между тем Арбенин-Лассаль начал говорить какие-то важные по сюжету слова, но его монолог оказался полностью сорванным. В этот момент никто уже не следил за тем, что происходило на сцене. Сидевшие в зале зрители смотрели на громко кричавшего завистливого школьника и пожилого театрала, а не на великого актера Лассаля, игравшего роль Арбенина.
И тут – о ужас! – Арбенин перестал говорить и повернулся лицом к залу, хотя по мизансцене он не должен был этого делать. Пристально вглядываясь в полумрак зрительного зала, он, не мигая, смотрел на завистливого школьника. Да, точно, ошибки быть не могло: Лассаль смотрел именно на завистливого школьника.
Но завистливый школьник ничуть не испугался этого пристального взгляда, ему теперь было все равно: пусть Лассаль смотрит, пусть великий актер даже взбешен – Лассаль сам это заслужил. Нечего было делать идиотов из зрителей! Зрители не такие идиоты! Есть и среди зрителей толковые люди, которые понимают что к чему.
– Мне-то самому наплевать. Я театром не интересуюсь… Каков Арбенин или он совсем не каков – мне это без разницы… Мне вас, дурака, жалко!.. – громко, на весь зал проговорил напоследок завистливый школьник.
На коленях пожилого театрала был приготовлен букет роз.
– Слушай, ты, мерзкий мальчишка!.. – из-за душивших его чувств пожилой театрал так и не смог договорить фразы, а вместо этого замахнулся букетом роз и швырнул его в завистливого школьника.
Букет попал завистливому школьнику в лицо и немного его расцарапал.
– Завистник! – выкрикнули из зала с негодованием.
- Я не завистник!.. Но оправдываться я перед вами не стану!.. – огрызнулся завистливый школьник, продираясь к выходу и спотыкаясь при этом о чьи-то коленки. Пару раз его больно ущипнули за ногу какие-то тетеньки. Но и он отдавил немало ног. Какой-то дядька, так же как и пожилой театрал, попытался схватить его за ворот, но завистливый школьник оттолкнул его руку.
С разных концов зала к нему уже спешили несколько билетерш.
Завистливый школьник все-таки выскочил за двери, и едва он оказался в узком коридоре, как его сильно, фонтаном стошнило. Это был конец. Он решил, что теперь, за крики в зале, за произведенное в театральном коридоре безобразие, его обязательно должны забрать в отделение, а худшего завершения истории в театре, чем привод в милицию, придумать было невозможно, потому что из милиции обо всем обязательно бы сообщили в школу, а после такого сообщения, какая могла быть школьная дискотека?!. Всем его мечтам и планам придет конец!..
Конец!..
И из-за кого навалилось на него это несчастье?!. Из-за ярких и впечатляющих людей, встреченных на улице, из-за пожилой женщины, продававшей буклеты с ее разговорами про яркие и неяркие профессии, из-за великого актера Лассаля, из-за этого пакостного театра с лицедеями на сцене и на портретах в театральном фойе. Ох, и нехороших же людей повстречал он на свою беду сегодня!.. И как ни стремился он раскрыть их коварные подлости, как ни противодействовал им, а все-таки они его настигли, достали, победили, испортили жизнь! Все-таки один-ноль оказался в их, а не в его пользу!.. И Таборского с его деньгами они унизили!.. Они привычно, как делают это каждый вечер, унизили зрителешек-баранов. Пожилого театрала они в который раз уже унижают. Черт возьми, как нехорошие театральные люди, получается, сильны!..
Пока завистливый школьник об этом думал, он стоял, оцепенев, лицом к произведенному им бесчинству: часть стены театрального коридора, ковровая дорожка и стул были безобразно перепачканы, и он даже сам чувствовал, как отвратительно здесь теперь пахло, хотя от подлинной силы запаха завистливый школьник, может, ощущал только одну десятую часть.
Но завистливый школьник тем не менее не раскаялся, а со злостью подумал: «Стоило метнуть содержимое на портреты актеров, на их отвратительную портретную галерею! Чертовы угнетатели!»
А вокруг завистливого школьника тем временем все сильней разгоралась суета: билетерши несли тряпки и ведро с водой, какая-то тетенька, стоявшая рядом с ним, непрерывно обругивала его последними словами, но он не обращал внимания на эту ругань. Завистливый школьник понимал, что он действительно задал трудившимся в театре теткам неприятной, лишней работы. А они-то как раз в его теперешнем тягостном положении никаким образом не виноваты.
Вот одна из билетерш с размаху ударила завистливого школьника по лицу половой тряпкой, и он медленно, совершенно не имея больше ни на что сил, отошел чуть в сторонку. Странно, завистливый школьник уже словно позабыл, что собирался уйти из театра, что именно поэтому он вышел из зрительного зала. Завистливый школьник как будто чего-то ждал, как будто то, что с ним произошло, принесло ему некоторое физическое облегчение, но никак не способствовало разрядке напряженности в его душе. Завистливый школьник стоял так, словно он ждал чего-то еще, словно до сих пор с ним не произошло чего-то главного, того, что только и могло теперь, после всего, что случилось с ним в этот вечер в театре, умиротворить его возмущенную душу. Он ждал еще чего-то, хотя прекрасно понимал, что ничего больше не будет, кроме разве что появления милиции, которая возьмет его под руки и уведет отсюда. И даже то, что никто, кажется, не спешил до сих пор за милицией, его не радовало. Вонючие испарения, что исходили от безобразия, которое театральные тетушки именно теперь вытирали, уже распространились из коридора по всему фойе театра. В завистливом школьнике не было ни одной мысли об его любимом увлечении, об его любимой радиоэлектронике. Мысли и мечты, которые были связаны с радиоэлектроникой, были раздавлены черным туманом, точно он был все еще там, в зале, вместе с остальными зрителями, и свет по-прежнему был погашен.
Коридор, в котором сейчас находился завистливый школьник, огибал зрительный зал дугой и одной стороной выходил в фойе театра и к гардеробу, а другой своей стороной заканчивался стенкой, в которой была небольшая дверь, которая, судя по всему, была заперта на ключ и обычно никогда не открывалась. Было неясно, куда вела эта странная запертая дверь… Но вдруг раздался громкий лязг проворачивавшегося в замке ключа, потом странная дверь дернулась, раздался громкий треск, но дверь не отворилась, – что-то мешало ей сделать это.
Завистливый школьник невольно устремил свой взор к странной двери в конце коридора, но теперь уже слева от дверей, что вели в зрительный зал, через которые он вышел только несколько минут назад, послышался скрип прикрываемых дверных створок. Завистливый школьник повернул голову на этот скрип и увидел, что тот самый пожилой театрал, который сидел рядом с ним в зале, теперь вышел в коридор и медленно к нему приближается.
Но и справа, там где была странная дверь в конце коридора, что-то происходило: вновь послышался сильнейший треск, точно кто-то, пытаясь отворить дверь, резко толкал ее. Наконец давно не смазывавшиеся петли противно заскрипели. Завистливый школьник резко обернулся на этот скрип и остолбенел еще сильнее чем прежде: из распахнувшейся загадочной двери появилась нога Арбенина в лоснившейся мертвым блеском фрачной брючине, его лаковая туфля, та самая, которая так запомнилась завистливому школьнику во время спектакля, и вот уже великий лицедей Лассаль показался собственной персоной на пороге странной двери в конце коридора. Из-за плеча великого актера Лассаля высовывалась голова Шприха, который мерзко улыбался некой дьявольской, предвкушавшей что-то недоброе улыбкой. По росту Арбенин был выше, чем Шприх, и тому приходилось привставать на носки, чтобы увидеть что-то из-за его спины.
Какая-то гроза должна была вот-вот разразиться над головой завистливого школьника. Теперь он решил, что миновать отделения милиции не удастся почти наверняка.
Получив от разъяренного Лассаля хлесткую, тяжелую пощечину, завистливый школьник упал на пол и попытался закрыть лицо руками… Но ударов больше не последовало. Лишь Шприх неловко и потому совсем не больно пнул завистливого школьника концом туфли по мягкому месту.
Билетерши онемели, полностью растерявшись и не зная, как им себя вести.
Вдруг завистливый школьник разревелся, как маленький ребенок, размазывая ладонью по лицу слезы и уже выступившую кровь.
Пожилой театрал подошел ближе и наклонился над ним.
– Мне же было интересно. Такой вкусный спектакль!.. Почему же ты мне не дал им насладиться?!.. Духовная пища не менее важна для человека, чем пища телесная. Почему ты меня так обидел? А?.. Такой вкусный спектакль! Не хочешь, чтобы я духовную пищу вкушал?!. Ведь не каждый же день доводится такое посмотреть. Театр – это мое. Я его очень люблю! И всегда любил, даже сам в самодеятельности игрывал. И сейчас люблю. Обожаю, можно сказать… Хотел насладиться… «Маскарад»!.. Любимый с детства Лермонтов. Михаил Юрьевич!.. Так вкусно было!.. Правда, ей-ей, я слово это люблю: «вкусно»… Точное словцо!.. А ты!.. Как же дошел до жизни такой?!.. Старику, пенсионеру – а не дал!.. А?!. Старой перечнице не дал вкуснотой себя побаловать. Чем же перечница-то провинилась?! А?!. – произнес пожилой театрал. В его лице было тихое страдание. Седые волосы растрепались, обнаружив круглую блестящую лысину, придававшую голове пенсионера еще более беззащитный вид. Его дешевенький галстучек съехал на бок, а шариковой ручки в кармане пожилого зрителя больше не было. Быть может, шариковая ручка выпала на пол и теперь валялась где-то рядом со смятым букетом роз.
Пожилой театрал помог завистливому школьнику подняться с пола, затем, достав из кармана носовой платок, энергично принялся оттирать с его лица кровь.
– Мальчишка!.. Щенок!.. Дурак!.. – при этом приговаривал пожилой театрал. – Но бить-то его – чего?..
– Не надо… Ну не надо… – завистливый школьник отвел от себя руку с платком и сделал шаг в сторону от пожилого театрала.
– Что же, по-вашему, просто лениво сидеть и быть развлекаемым – это удовольствие?! Это вкусно?!. – спросил завистливый школьник у пожилого театрала, судорожно сглотнув при этом слюну.
– А разве нет?! Вкусно! – убежденно ответил пожилой зритель. – А вот насчет лениво сидеть – это ты не разобрался…
– А быть в центре внимания – это еще более вкусно!.. – неожиданно прокричал завистливый школьник.
– Ну знаешь, молодой человек, ты какой-то тупой! – поразился пожилой театрал. – Тебя ничем не прошибешь…
А завистливого школьника уже было нельзя остановить:
– Может, вы еще скажете, что все профессии являются одинаково яркими? – спросил он у тех, кто стоял вокруг него в театральном коридоре.
– Яркими?!.. Что значит яркими? – удивился пожилой театрал.
– Постойте… – вдруг вспомнил что-то завистливый школьник. – Вы же… Вы же сами себя только что выдали!.. Вы же играли в самодеятельности. Значит, стремились хоть как-то быть причастным к яркому, к яркой актерской профессии. Точно, вы сами себя выдали! Ох, как вы себя выдали!.. Я полностью прав! Прав!.. Я-то никогда в самодеятельности не участвовал, к ярким профессиям не стремился. Я радиоэлектроникой, электроникой… – завистливый школьник засмеялся. История показалась ему очень простой и определенной.
В эту секунду завистливый школьник получил вторую пощечину от Арбенина-Лассаля.
Отшатнувшись, завистливый школьник тихо проговорил:
– А между прочим, в средние века профессия актера была самой презираемой. Я и сейчас вам нисколько не завидую, я просто не хочу, чтобы вы за мой счет удовлетворяли свое больное самолюбие.
Завистливый школьник вдруг почувствовал ужасную слабость, он понял, что больше не может противостоять актерам.
– Товарищ Лассаль, извините меня, пожалуйста. Я даже не знаю, почему так вышло. Я же еще школьник, к вину не привык. Выпил вот и сорвал спектакль. Вы просто извините меня. Я совсем не прав, так что простите меня. Только и вы пожалейте зрителешек. Не обижайте их своим актерским преимуществом – это не по правилам… Не по правилам!.. Должны же быть и на этот счет какие-то правила! В нашей стране насчет всего есть правила. А как же иначе?..
Последние фразы он произносил, уже когда дверь за Арбениным и Шприхом притворилась и поворачивавшийся ключ залязгал в замке. В следующее мгновение кто-то потянул его за руку, завистливый школьник обернулся и увидел Таборского.
– Пойдем, я провожу тебя к выходу, – сказал тот.
Вечер в театре на премьере «Маскарада» Лермонтова для завистливого школьника был на этом закончен.