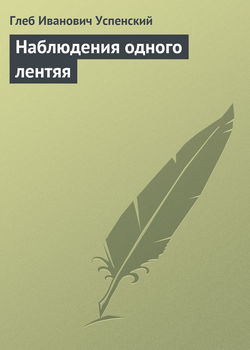Читать книгу Наблюдения одного лентяя - Глеб Успенский - Страница 2
Глава первая
О моем отце, о «порядке», о моей лени и о прочем
II
Оглавление«Жизнь моего отца вовсе не так бедна впечатлениями, чтобы его бедный, заброшенный и неразвитый ум не получил потребности раздумывать вообще о жизни человеческой и ценить в ней только свободное развитие нравственных движений души. В самом деле, он недаром указывал на портреты своих предков. Прадедушка его, а мой пращур, был изображен на портрете (портрет этот цел у нас) масляными красками, худеньким старичком с живыми, внимательными глазами, с подстриженными на лбу волосами, лестовкой[2] на одной руке; на затылке его одета какая-то скуфейка, на плечах мужичий кафтан. В оригинальности его костюма, взгляда, с помощью кой-каких сведений, рассказанных отцом, видно, что человек жил, слушаясь собственных убеждений, которые, как бы ни были они нелепы, охватывали мельчайшие подробности личной жизни вплоть до мерина и были в полном согласии с общественной его деятельностью. Худо ли, хорошо ли, но во всех и домашних и общественных делах у него работала мысль, что дорого даже с механической стороны; тут наверное была жизнь. Но «порядок», гонявшийся за ним по лесам, разорявший его часовенки и кельи, с целью наполнить его голову более здравыми понятиями, вроде, например, того, что пожары нужно заливать из пожарных труб, что квартальному нужно давать дань и т. д., внедряя какую-нибудь из подобных идей, уничтожал зародыш самостоятельной мысли. Я весьма сожалею, что в нашей портретной галлерее недостает портрета моего прадеда, а есть пращур и дед. Но если я представлю себе постепенное развитие «порядка» и предположу, что «порядок» поработал во времена прадеда в свою пользу не мало, то и тогда мне будет отчасти понятна разница между фигурой начальника нашего рода и фигурой его ближайшего потомка. Дед изображен уже не в мужичьем кафтане, а в длиннополом немецком сюртуке, к которому недостает только цилиндра на вытянутую колом голову, чтобы быть вполне уродом. Потрудитесь отыскать в этих глазах, выглядывающих с самого верху узкого лба, почти под пробором жирных волос, какое-нибудь подобие самостоятельной мысли прадеда: – ее нет и следа. Это – церковный староста, которому генерал подал руку и осчастливил, или гражданин, с двумя головами сахару подмышкой ожидающий начальника, чтобы поздравить и попросить прошения. Для этого человека, по всей вероятности, уже коротко известно, что назначение человеческой жизни – поднесение хлеба-соли на блюде, плошки, дани, медаль и т. д. Отцу моему, принимая в расчет быстрые успехи прогресса, предстояла еще большая возможность превратиться в настоящего лавочного осла со специальной целью надувать и грабить сограждан. Но случилось так, что уродился или «вышел» он не в отца, а в прадеда; лет с шестнадцати стала надоедать ему лавочная жизнь, и в голове забродило бог весть что. Стал он читать книжки, захотелось ему писать стихи, и он выводил каракули, начинавшиеся словами: «скучно, скучно молодцу, да скучно мне!» После него осталась тетрадка, где переписаны разные стихотворения под общим именем: «Скука». «Приемлю лиру в руки и горесть разгоняю (начинается стихотворение), но протяженны звуки рождают горесть паки». Далее говорится, что даже и «млекосочны маки» болезни сей не уменьшают. Вообще скука угнетала его, не знавшего, за что ухватиться; от писанья стихов (грамоте его выучила бабка; мать, которой он лишился очень рано, была уже неграмотна) он вдруг предавался мечте поступить в монахи, да так, чтобы зарыться в землю по шею, навек, или сделаться силачом. Пока был жив отец, малый колобродил потихоньку; но по смерти отца, после которого, наравне с двумя другими братьями, получил наследство, не вытерпел скучного житья и стал колобродить въявь. Прежде всего, как за самое ближайшее и общедоступное от скуки средство, взялся он за пьянство.
Началось с того, что поехал он из города к кому-то на свадьбу в село Дубки, а его завезли в Дубы; надо было зайти в кабак расспросить про дорогу. А в кабаке в это время сидел дворовый человек и играл на флейте. Через полчаса отец уже угощал его, узнал, что это и знаток своего дела и «душа», просил выучить на флейте и готов был в ножки ему поклониться. Недели две дворовый человек учил его музыке, получая и угощение и деньги за «обучение амбушуру»[3] и наставляя своего питомца в науке жизни. Как они очутились в Нижнем, долго ли там пробыли и что делали – этого отец никогда порядком припомнить не мог; но уроки «амбушура» прекратились по случаю того, что отец сделал в каком-то трактире «мордобой» половому из-за селянки. Половой бросился за будочником, а отец – на пристань, откуда тотчас же и уплыл. Очнулся он близ какого-то монастыря. Трогательный звон, сзывавший братию к ночной молитве, сильно подействовал на его отягченную грехами душу; он не понимал, а чуял, что все эти отличнейшие люди, с которыми он беспутничал, – «не то», что с ними для души сделаешь немного, и пожелал очистить душу молитвою. Он вылез на берег, отслужил молебствие и попросил позволения побыть в монастыре для молитвы. На другой же день он нашел отличнейших, задушевных людей; принялся исполнять правило, послушание, стал поститься, <перестал> пьянствовать и желал принять схиму. Один монах продавал было ему за сходную цену вериги и предлагал заковать его в них на веки веков; но отец и тут почуял, что нет настоящего, и кончил дело спасения пьянством, дракой и бегством. Спьяну и сглупу исколесил он всю Волгу. В Астрахани перезнакомился с персианами, хотел ехать в Персию, учился у них ходить по выпуклой стороне надутых ветром парусов, но упал и разбил бок. Выздоровев, в Персию не поехал потому только, что сошелся очень близко с замечательным силачом из немцев, поднимавшим на одном пальце десять пудов. Этот силач ограбил его и чуть было не убил, так что блудный сын волей-неволей принужден был возвратиться в свое отечество. Это был первый поход за нравственными ощущениями. Он не только не научил отца ценить лавочный рай, но, напротив, заставил еще больше призадуматься о своей беззащитной душе. Позанявшись торговлей с полгода, скоро потом он снова сорвался и с деньгами, вырученными от братьев за свою часть в торговле, отчалил с родины – на этот раз навсегда.
Дальнейшие скитания моего отца продолжались более двенадцати лет, отличаясь тою же беззаботностью мечущейся души. Пьянство, как самое существенное средство залить горе своего убожества, стояло, разумеется, на первом плане, перемешиваясь с самыми разнообразнейшими душевными привязанностями: то опять хотелось писать стихи, то поступить в монахи, то сделаться актером. Отец мой всюду совался, всюду тратил последние крохи отцовского наследства, угощая профессионистов разных художеств, шатался с труппами, приставал к хору певчих – и пил, ибо, едва стакнувшись с какою-нибудь заочно любимою профессиею, чуял свое невежество и видел ограниченность дела. В сущности от этих скитаний отец вынес только одно практическое качество: уменье играть на гитаре две-три чувствительные пьесы, от которых впоследствии плакала матушка, да еще внешний отпечаток бродячего человека. Он был небольшого роста, сухощав, с довольно хорошими и добрыми глазами. Костюм его всегда был именно такой, который рекомендует человека без звания и дела: какой-то пиджак с разодранными локтями или бешмет и на ногах опорки, а на голове иной раз появляется изорваннейшая шапка с красным околышем, неизвестно откуда попавшая в нашу сторону… Бороду он брил и волосы носил длинные, за ухо; я помню эти волоса – черные и с большой сединой.
Конец этих бесплодных скитаний, по всей вероятности, был бы для моего отца, оставшегося без денег, весьма плохим, если бы ему не помог выбраться хоть к какому-нибудь пристанищу один добрый человек. Это был какой-то «добрый барин», когда-то погуливавший с отцом: Он случайно встретил отца в Москве, когда последний в отчаянии за будущее хотел продаться в солдаты. Барин взял его с собою в одну замосковную деревеньку и определил садовником, так как отец совался прежде и в это дело. Очутившись в чужой стороне и видя, что выхода не предвидится, да и идти некуда и незачем, отец мой приутих, пообдумал свое положение и занялся делом усердно, а скоро и женился на дьячковской дочери, моей будущей матери. Год они жили покойно, оба занимаясь садовым делом; но после моего рождения отец «заскучал» вновь… В свою сторону выехать было не с чем; отец решился переехать в город, чтобы меня поставить «на настоящую дорогу», если не пришлось самому быть человеком. Переезд совершился при помощи барина, моего деда-дьячка и всего имущества родителей, которое по этому случаю было распродано. В губернском городе, при помощи родственника матери, служившего в одном из губернских присутственных мест, была отведена нам бесплатно земля в подгородной слободке и выстроен крошечный домишко. При доме отец развел питомник фруктовых дерев, вывезенных из деревни, и по недоразумению думал, что он сам занимается всем делом, тогда как с первого же дня нашего поселения, с первого бревна, положенного в основу домишка, все заботы о нашем питье и еде всею тяжестью легли на матушку, а отец стал скучать, попивать, подумывать о том, что хорошо бы пробраться на Дон («там места!»), и, как уже знаем, браниться. Чужая сторона много помогла усилению этой брани, злости и питью водки. Сторона эта не нравилась ему по многим причинам. Природа здешняя была не та, что на Волге, где он привык видеть широкие виды, богатые места. Рек больших тут не было, лесов тоже; не было тут расписных ставен, петухов и коньков на крестьянских избах, не случалось слышать вновь сочиненной песни, встречать красной франтовитой рубахи: все было мелко, мало, бедно, все утихло, как будто умерло. Взамен всех этих пустяков царствовал один только порядок, который, как известно, в местностях около Москвы вводился почти с незапамятных времен, так что, когда пришлось жить здесь моему отцу, все уже было привинчено к своему месту прочно, туго, казалось, даже на веки веков. Не было людей, были «породы» чиновников, купцов, господ, мужиков. Всякая порода имела свои зоологические признаки: чиновник непременно ходил сгорбившись, был худ, как-то мокр и кожу имел зеленую, дьякон непременно имел бас, священник – тенор и т. д. Породы передавали эти качества из поколения в поколение; вместе с ними передавалось этим поколениям уменье исполнять именно те жизненные цели и обязанности, которые соответствовали той или другой породе. Обязанностью мужика было – ждать обиды от всех, говорить одно слово: «за что же?» и пить с горя. Обязанностью чиновника – говорить мужику и другим сословиям: «нельзя!», клевать со всех крохи и пить от несправедливости. Барин обязан был баловаться и мотать деньги от скуки; купец – мошенничать и угощать. Всем даны были места, отведены стойла с перегородками, удобными лишь на то, чтобы вырвать у соседа из высоко поднятой морды клок сенца… С этим ли народом, не чувствовавшим, что у него на плечах есть голова, с ним ли возможно было моему отцу водить компанию, дружбу? Ему ли не соскучиться с людьми, не знавшими, что такое «белый свет», тогда как он десятками лет скитаний приучен думать о множестве всевозможных человеческих свойств и отношений? В этой упрощенной стороне отцу моему не с кем было сказать слова, ибо специалисты по «своим частям» не могли ни слова понять в его рассуждениях и сразу стали смотреть на него как на шута, на сумасшедшего…
– Нет, надо, я вижу, убираться нам отсюда, – говорил он чуть ли не с первого дня знакомства с новыми городскими соседями.
– Полно тебе чудить! Ну куда ты уберешься? – возражала ему на это матушка. – Ишь голова-то у тебя какая непокойная… Куда еще идти?
– На Дон, на Дон надо! Там, брат, ух какие места!
– И-и, сумасшедший! Право, ей-богу, с ума сходишь…
Матушка отговаривала его с тайной боязнью, как бы он не ушел в самом деле: она, наравне с другими, сама считала его отчасти чудаком. Но храбрившийся отец сам чуял, что теперь уж ему не уйти; он уж не один, у него дом, семья; оставить всего этого так, ни за что ни про что – нельзя, и надо терпеть. Он терпел и бранился.
– Ах он, неумытое рыло! – бывало, ворчит он, доставая из шкафа рюмку, чтобы выпить. – Собака я, что ли, что он меня держит в сенцах, а?
– Что ж тебя на диван, что ли, сажать? – возражала матушка. – Он благородный небось!.. Где ж это видано, чтобы мужика рядом с собой…
– Да я его, каналью, к себе бы в дом не пустил, ежели б не бедность. Покажи я ему ассигнацию, так ведь он в ноги ко мне упадет…
– То-то ассигнаций-то у нас с тобой мало…
Отец уклоняется от прямого ответа и все ворчит и бранится.
– Да будет тебе, христа ради! – говорит матушка, сильно опечаленная. – Ну что ты ворчишь? Душу только вытягиваешь…
– Свиньи они!
– Тебе какое дело? У тебя все – свиньи, а ты сам-то только водку потягиваешь… Поди-ка, послушай, никак кто-то стучит в сенях… За твоим бормотаньем да руганьем и не услышишь, кто войдет.
Оказывается, что стучит родственник матушки, чиновник.
– Поди, Иваныч, отвори ему, будет водку-то цедить-то.
– Зачем это? Кого это несет?
– Кирилл Кузьмич идет… Отвори же!.. Что ж он, докуда будет на улице-то стоять?
Но отец не особенно торопится.
– Кто его просил? Что я ему за компания? – говорит он, отирая мокрый от водки рот. – Шел бы в свое стадо, в гости-то, а не ко мне… Я ведь для него прохвост… чего ж он сюда?
Наконец, несмотря на неудовольствие, отец впускает гостя; но компании действительно не может составить для него никакой.
Гость здоровается, усаживается и мало-помалу заводит длинную материю о начальстве, о неправдах, несправедливостях, о циркулярах…
– А гражданская палата… во исполнение предписания… Как? а где же, говорю, циркуляр за номером три тысячи пятьсот сорок седьмым? Каким образом? Нет уж, извините, за правду, за справедливость… я никак не могу!
Длиннейший поток канцелярских новостей льется из уст чиновника, долгое время не переставая. Отец, на лице которого написано полное непонимание и невнимание к чиновничьему монологу, поддакивает из приличия и потягивает водку, которая уже давно на столе. Лицо его все краснеет и наливается; он начинает кашлять, и даже в коротких звуках поддакивания слышно, что язык его ходит не бойко.
– Па-азвольте сказать… – вдруг прерывая интереснейшее место, до которого только что добрался рассказ чиновника, произносит отец. – Оставьте это!.. Сделайте милость…
– Чего-с?
– Будет! Оставь!.. Что мелешь?
– Я дело рассказываю вам, – обиженно обороняется гость, налегая на «вам».
Отец тупо смотрит в землю и слабо махает рукой.
– Мы твоих дел не понимаем!.. Не нужны они нам! А ты так… свое…
– Я вам не угодил? – в таком случае я замолчу.
– Гов-вори!.. Я нешто… Господи помилуй!.. разве я про это?..
– Я замолчу! – усаживаясь молча на стул, произносит гость, совершенно обидевшись.
– Не надо! Не молчи!.. Утверждай твое мнение! Сделай одолжение!
– Что же я могу? Я говорил, вы не желаете…
– Оставь свою канцелярию… Вот об чем!.. Свои слова говори!
Отец стучит пальцем в стол и пытается постучать для усиления речи ногой и в пол; но нога плохо слушает его.
– Свои слова имеете?
– Какие же у меня свои?
– Не имеете?
Хмельными, неподвижными, как будто необыкновенно внимательными глазами отец смотрит в упор гостю и выжидает ответа.
– Не имеете… слов?
– Авдотья Ивановна, – обращается чиновник к матери, – что им угодно?
Мать давно уже тревожится этой беседой. Чувствуя, что дело идет не к добру, она несколько раз дергала отца за рукав, но тот ничего не замечал.
– Оставь! Оставь пустое! – уговаривала она отца. – Что вы, Кирилл Кузьмич, на него смотрите? Кушайте, закусите, прошу покорно… Оставь ты!..
– О боге… можете? – продолжает отец, придвигаясь к гостю: – а-а бог-ге?.. можете отвечать?
– Что же вам угодно знать о боге? – иронически произносит чиновник.
– Как вы сами…
– Мне кажется, – продолжает в том же тоне гость: – довольно будет знать и того, что мы его должны бояться!
– Боитесь?
– Что же вас удивляет? Да, боюсь… а рассуждать мне нет времени.
– Поч-чему? По какому случаю опасаетесь?
– Я обязан, как всякий христианин, его бояться.
– Боюсь… боюсь, – бормочет отец: – а-а чем он вас напугал?
– Оставьте его, Кирилл Кузьмич! Кушайте, пожалуйста! – упрашивает матушка.
– Чем он тебя напугал? – вдруг возвышая голос, повторил отец с настойчивостью. – Чем он тебя…
– Нет, уж извините! – поднимаясь со стула, в гневе произносит гость: – я пойду!
– Останьтесь, пожалуйста! Что вы?.. он всегда такой!
– Чем он тебя напугал? Отвечай мне! – уже вопиет отец на всю комнату.
Чиновник торопится уйти, хватает шапку, палку, прощается, и матушка не смеет удерживать его, потому что отец сел на своего коня.
– Ах вы, мошенники этакие! Ах вы, канальи негодные!.. Д-дела у него! О бог-ге не вр-ремя ему… Стой! Где ты там, железный нос?.. Поди сюда, я тебе объясню… Эй!
– Скотина! – прощается железный нос и исчезает.
– Что-о! Б-бога забыл?.. Я тебя… Я тебя, каналья… Где палка? я тебе покажу!..
Он хочет встать, но матушка не пускает его. Отец никогда не кричал на мать, хотя в ее словах и было к чему прицепиться; он остается на месте, но не перестает браниться и ругаться.
– Ах ты, свиная щетина! Д-дела! По карманам шастать, народ пугать, а душа-то где твоя? Свинья ты скоромная!
И потом:
– Выели, выели из вас душу! Вынули! Как искусно выхватили-то! – любо два! Ах, так ловко! Ему все одно: бог – не бог, душа – не душа, ему одно свято – канцелярия! перо! Гнать их отсюда, стрекулистов, надо… Нет, на Дон, на Дон иду! Провались ты пропадом…
– Спи-и! Колобродник, когда ты перестанешь! – усовещивает его мать: – Ванюшке не даешь покою.
– Ванюшка! – кричит отец. – Не ходи, брат, в чиновники… чуешь, что ли? Не стоит того дело… Ей-богу! Все они вот что – тьфу! Слышишь, что ль?
– Да слышим, слышим.
– Не ходи, плюнь. Ну – спи!
Бормотанья идут шопотом. На другой день отец мрачен и молчалив, пока не опохмелится и не войдет в колею.
Материал ему всегда есть.
Сидим вечером на крыльце, во дворе, все трое – отец, мать и я. Разговор идет кой о чем. На двор входит новое лицо, одна из соседок, матушкиных приятельниц.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте!
– А я к вам бежала. Какие дела-то! Какие смехи! Господи!
Гостья усаживается к нам на крыльцо и, задыхаясь от смеху, распахивает платок, освобождая грудь для того, повидимому, чтобы с полным простором рассказать про какие-то дела и смехи.
– Что такое? – спрашивает отец: – в чем дело?
– И-и, то-то смех-то, господи. Комнату мы сдавали… Знаете?
– Ну?
– В прошлом годе жил писец, а ноне бог послал генерала.
– То-то сласть-то!
– И сласть, уж именно сласть! Отставной этот, милые мои, генерал-то. Одинокий, родни не имеет и холостой. Вот он, милые мои, нанял комнату, переехал, сидит. Сидел-сидел, видно, его скука взяла, вышел, походил так-то. «Это что же, говорит, бочка у вас с водой не накрыта?» Отвечаем: «была, мол, накрыта, да, верно, накрышку-то взял кто-нибудь». – «Кто взял?» – «А не знаем». – «Как не знаем? Кто взял? Ты как смел взять крышку?» Дальше-больше, открыл он против нас чисто как битву. «Это что?», «Почему так?», «Чьи куры? Загнать! Запереть!»
– К команде приучен, – замечает отец.
– К команде, уж точно! Закомандовал он нас, просто вот хоть возьми да иди за будочником, чтобы его уняли. Ворочает с места на место – смерть наша пришла, руки все обломали; пошла я к зятю, призвала его к себе, говорю: «Поди ты, усовести его, что это такое?» Зять к нему. «Так и так, говорит, сделайте милость, ваше благородие, уж вы это оставьте. Мы вам власти не давали над собой, и, сделайте милость, уж вы нас не беспокойте. У вас есть свой упокой, так вы уж тут… А в наши места оставьте… Даже в случае чего, мы и в суд… Извините!..» Обругался всякими словами, ну, однако, остался…
– А-а! – с удовольствием произносит отец. – Остался? Ну-ка, что он без команды-то может? Ну-ко, ну!..
– Ну остался он, сидел, сидел, призывает… «Хочу, говорит, приплатить еще рубль серебром, только чтобы в саду бы мне вашем гулять». Посоветовались мы, руб взяли: – «извольте!» А мы сад запираем, потому неравно зайдет корова или коза, пожрет фрукт – нам этого нельзя. Хорошо! Пустили его мы в сад. Погулял он, пришел назад. И на другой день пошел. Идет оттуда. «Червь, говорит, у вас там…» – «Есть, мол; от него не спасешься». – «Как не спасешься? Почему?..» – «Много, мол, его…» – «Я выведу!» – «Нет уж, говорю, лучше вы оставьте».
– Опять его на команду потянуло! – замечает отец.
– Потянуло, друг, потянуло!.. Ну – скрыл. Замолчал. На третий день и не видала я, как он туда ушел-то. Иду так-то мимо саду, вижу, замок изнутри висит. «Когда ж это, думаю, он туда пролез?» И час и два, все нейдет. Пошла я поглядеть, уж нет ли какой его выдумки? – а он… (тут рассказчица задохнулась от смеха) а он… на дереве, милые мои, на самой-то верхушке, на эдакой на страсти, на высоте, с тазом. Сидит там с мочалой да моет дерево, ровно бы чашку чайную либо тарелку. Замерла я так-то со смеху, зову его оттуда назад: «Что вы, говорю, господин генерал, всё вы нам переломаете; так нельзя. Слезайте оттуда. Отопритеся, сделайте милость. Что вы!» Нет! Ни словечка – сидит, притаился с мочалой, ровно белка. Собрались мы все, стали стыдить. Стал ругаться оттуда: «Сволочь» – и так и эдак, а сам намажет мочалку мылом до по суку и трет… То-то смеху-то было! То-то смеху-то! Насилу, насилушки слез!.. Ну мы ключ отняли у него, потому, лазучи по сучьям, много он фруктов посшибал.
– Ну и что же? теперь-то как?
– Чижа учит воду таскать!.. Всеобщий смех.
– Ай без команды-то деться некуда нам? Небось завоешь… Вот и генерал!
– Уж генерал! уморушка, да и только.
– Д-да! Мы и в генералах не были, а пожалуй, что не полезем с мочалкой на дерево. Плохо, плохо ему без команды-то!.. Ванятка! не ходи, брат, в генералы! Видишь, как ему пришло? Не ходи… Лучше прямо полезай на дерево. А то вот он все слушался-слушался, палил-палил, бил-бил по приказу, а себе-то и нет ничего! Слышишь, что ли?
– Слышу!
– То-то. Плюнь. Не ходи. Так чижей?
Рассказчица смеется, тряся наклоненной головой.
– Вы бы его, – предлагает отец, – женили бы на вашей на Федорихе? Ей теперь годов семьдесят есть, поди?
– Боле, куда!
– Ну самый раз ему! А не то и так в любовь войдут со скуки. – Где ее, взять команду-то, нету ее… отняли! Куда-нибудь душу-то деть надо…
Поутих наш хохот над этим эпизодом. Отец скрылся на несколько минут в дом и, выходя оттуда, что-то покряхтывает и пожевывает.
– Ты, что ль, Иваныч, давеча про любовь, что ли, говорил? – начинает гостья, обращаясь к нему.
– Я говорил. А что за беда?
– Никакой беды, а ты вот про генерала в шутку сказал, чтобы слюбились они, например, в шутку с старухой… вот мне и пришло в голову… Беда с ней, любовью-то!
– Как не беда, – насмешливо соглашается отец. – У вас, в вашей стороне, все беда. Вот ее родственник (отец кивнул на мать), так того, что ни спросишь: – все «боюсь» да «боюсь»!
– Ах, нельзя, нельзя так!.. Я что вспомнила. Влюбился у нас, сударики мои, чиновник, вдовый и почтенный человек, в женщину… Так страсть как измучился!.. Первым долгом, как там они сдружились, прости господи, вошло им обоим в голову написать какую-то, милые мои, клятву на образе.
– Зачем же так-то?
– А уж не умею сказать. Со страху, что ли, они или как. И женщина-то, прости господи, тоже, надо быть, с робости – прачка она – не шла без клятвы-то. «Напиши, говорит, на образе». Ну чиновник сначала упирался, думал как-нибудь так, опасался, как бы чего не было худа… отвертеться. Однако написал.
– Написал?..
– Д-аа! «Написал, говорит, я (сам он это все рассказывал), и обуял, говорит, меня страх… Такой страх, такой страх…»
– Да что же они, дураки, там писали? Зачем? – волнуется отец. – Ах, шуты гороховые, и этого-то дела не сумеют сладить!
– Не умели, не умели, истинное слово! Не мне их учить, а нет, не умели. «Написал, говорит, я эти самые на образе слова и весь испужался»: И она-то, милые мои, тоже испугалась, и она-то в испуге. «Что это мы, говорит, написали, об каком деле?..»
– Ах, шуты гороховые! Али своего дела не знают?
– «Дрожим мы, говорит, от этих мыслей, ровно бы вот сейчас гром нас обоих расшибет вдребезги». Стали они друг дружке: «Это все ты!» – «Нет, ты!» Какая тут любовь, а чистая одна смерть. «По ночам, говорят, глаз сомкнуть не можем»; дело свое канцелярское чиновник совсем позабыл, стал пить, стали ему мерещиться угодники, и всё с угрозами. «Пойдешь, говорит, после обедни прикладываться к образам; к одному приложишься, думаешь: «а вот этот осердится, что я к нему не приложился». И к другому приложишься, а там, глядишь – третий…» Что ж, милые мои? Весь народ уж давно из церкви разошелся, а он все по иконостасу лазает. Придут дьячки, насилу-насилу его стащат оттуда.
– Ну что ж с ним? Утопился, что ли?
– Нет, не было этого, сохранил его бог! Пришло ему от этого согрешения совсем плохо. «Вижу, говорит, что нету мне житья никакого, ни сна, ничего нету; помолился я богу, пошел к протоиерею, говорю: «Так и так, батюшка. Разрешите меня от этого. Смерть моя! Снимите с меня клятву». Рассказал ему, как было дело. «Спасите», говорит. Священник подумал, подумал…
– Умен, должно быть, батюшка был?
– Умный, умный был, говорить нечего! «Нет, говорит, не могу».
– Какой умный!..
– Да-а! «Нет, говорит, нельзя, не могу. Мне самому за это может быть дурно».
– Очень плохо! – вставляет отец: – как. же? Бедовое дело!
– Бедовое, бедовое, друг! «Нет, говорит, не могу». Просил, просил его чиновник-то, ничего не выпросил, так и ушел ни с чем. Что тут делать?
– Ну-ко?
– Совсем хоть топись – так пришло. И вправду ты давеча говорил, именно бы ему утопиться; да, счастлив бог, попался ему какой-то добрый человек, монах, шел он из Иерусалима. Разузнал это дело. «Я, говорит, вам могу оказать пособие». Потребовал он, милые мои, мочалку чистую, расчистую…
– Чистую? – трунит отец.
– То есть вот самую что ни на есть! Потребовал он эту мочалку, налил святой воды, помолился и всю эту клятву и спорхнул с маху с одного. «Тут-то, рассказывают, мы дрожали, господи!» Того и гляди гром расшибет; а как отмыл монах-то – ну уж тут…
– Ах, черти, черти! – бормочет отец.
– Прачку эту он сейчас вон, прочь! «Иди с глаз долой!»
– А она-то?
– Да и она-то рада развязаться. Ушла, рада-радехонька… «Ну, мол, тебя и с любовью с твоею!» Так вот она какая любовь-то! Насилу-насилу кой-какое худенькое местишко выпросил. Вот как!
– Ах, поганые!
– Ведь она – солдатка, – робко вставляет матушка.
– Так что же?
– Ну а он – чиновник.
– Ну?
Отец так произносит это «ну», что матушка совсем сконфузилась.
– Вот и все. Что «ну»? – тихонько произносит она.
– Что ж что солдатка?
– Действительно, что ему может быть обидно, – желая поправить матушкину оплошность, вставляет рассказчица-гостья.
– Вам, я вижу, все обидно. Вчера вот о боге заговорил – обида, про любовное дело – тоже. Шут вас знает, зачем вы только живете на свете? Я не вас, не вас… Что вы? Я про этих, про ваших жителей. Ни бога ему, ничего не надо.
– Нет! – слышу я вечером, лежа в постели: – на Дон уйду! Уйду я отсюда… Монах его спас! От любви!.. Выели душу из вас, выели… Нету ее!
– Спи, спи, христа ради! – уговаривает матушка.
– Уй-ду! Уйду, то есть вот только до весны!
2
Лестовка – особые четки староверов.
3
«Обучение амбушуру» (амбушюру) – способу сложения губ при игре на духовых инструментах.