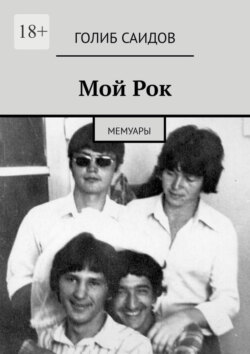Читать книгу Мой Рок. Мемуары - Голиб Саидов - Страница 3
Мой рок
Вместо вступления
ОглавлениеДрузья детства и юности. Из личного фото-архива автора
Так уж вышло, что наш двухэтажный дом, в котором мне довелось прожить детство, отрочество и юность, аккуратно «делил» город на две половинки: с одной стороны оставалась «старая Бухара», с её древними мечетями, медресе, минаретами и глинобитными домами каркасного типа, а по другую сторону – застраивались новые микрорайоны, с однотипными серыми домами-коробками из бетона, с зелеными насаждениями и широкими улицами. Таким образом, мы оказались как бы между двумя мирами: мысленно устремляясь к «светлому будущему», но и в то же время, не порывая нитей с прошлым, со своими корнями. Наш кирпичный дом (и ещё несколько других ему подобных), построенный в хрущёвскую эпоху, являлся исключением: потом, такие дома строить уже будет нерентабельно. Словом, мне везло уже с самого рождения…
Но главное – это обитатели нашего двора, со временем превратившиеся в моем сознании в легендарные личности, с неповторимыми и уникальными чертами характера. Боже мой, смел ли я тогда предполагать, что с возрастом проникнусь такой любовью и нежностью к своему двору, словно к чему-то бесконечно живому, родному, дорогому и близкому, без памяти о котором не имеет смысла жить и существовать в этом мире.
Двадцать шесть квартир составляли единый и спаянный дружный коллектив, являя собою маленькую копию Советского Союза. Это теперь уже, задним числом, я вдруг констатирую тот факт, что оказывается, почти все мы были разных национальностей: таджики, узбеки, татары, русские, немцы, украинцы, евреи, корейцы, арабы и даже цыгане! И ведь, жили душа в душу.
(Нет-нет – я не за восхваление и не возврат к прошлому! Упаси боже: уж кому-кому, а мне-то прекрасно знакомы все плюсы и минусы канувшей в вечность империи, и я об этом нисколечко не жалею. Я просто, констатирую факты, которые каждый волен интерпретировать по-своему, исходя из своего внутреннего культурного багажа, образования, социального статуса и того, чего он добился в жизни.)
И конечно-же, основным стержнем, объединяющим весь этот конгломерат народностей и культур, спаявших нас в одну большую крепкую и дружную семью, были мы – ребятня – являясь сердцем и главным жизненным органом нашего двора. А двор гудел словно улей. С самого утра и до позднего вечера, пока ещё угадывались очертания мяча. Пока, наши мамы, чуть ли не палками и хворостинами, не загоняли нас с улицы домой.
А каких только игр не знал наш двор: футбол, хоккей, волейбол, гандбол, пятнашки, куликашки, айрам шум-шум, акол-дукол, ахрычки-бучуль (кости), чеканки, гальки, гаранги (воздушный змеи), гургурак (волчок), чами, камешки, лянги, ножички, казаки-разбойники, войнуха, танки… всевозможные викторины. Ведь, тогда мы ещё не знали, что всего через несколько лет в мир войдут мобильные телефоны и компьютеры и в корне изменят всю нашу жизнь.
Я не упоминаю про опасные игры: карбид, взрыв-пакеты, путешествие во времени (когда приставляли товарища к дереву /или – стенке/ и давили на грудную клетку в области солнечного сплетения); лук и стрелы, оружие с «венгеркой», рогатка и ещё многое-многое другое, чего мне теперь и не вспомнить.
А в зимнее время, по вечерам, мы иногда собирались у костра и делились «страшными историями». Эдгар По со своими рассказами-страшилками тут, конечно, «отдыхал» далеко в стороне, нервно покуривая… А потом, каждый доставал из кармана стыренную из дома картофелину и бросал её в тлеющий костёр. Всё это аккуратно накрывалось сверху догорающими углями и нам оставалось только, набраться терпения и ждать. И мы, истекая слюнками, мужественно ждали… В явном предвкушении – поедания запечённой картошечки. С сольцом и настоящим хлебом. И хотя, всех дома ожидал вполне приличный ужин (плов, кабоб, курочка, фаршированная рыба…), но разве может какая-то рыбка или кусок жареного мяса сравниться с только что испечённой картошкой, обжигающей твои руки и от которой исходит такой обалденный аромат, что это не под силу описать ни одному писателю!
А потом, долгими длинными зимние ночами мы коротали за чтением книг, коих было прочитано неимоверное количество.
Наконец, когда наступала долгожданная весна, пробуждался и наш двор. Всё вокруг заметно преображалось: теплее начинало греть солнышко, земля покрывалась нежно-изумрудной зеленью, из своих нор и щелей выползали всевозможные насекомые и букашки, и гул, доносящийся со двора, с каждым днём становился всё громче и сильнее, перерастая постепенно в мальчишечьи-девчачьи крики и визги.
Разве такое возможно описать? Правильно: это закрепляется где-то там, в неведомом нам измерении, на уровне сердца. И сохранение в памяти этих детских картинок, делает нас добрее и терпимее, что – собственно – разительно отличает моё поколение от других. Да: мы (слава богу) не застали войну, голод и блокаду, которые пережили наши родители. Но базовые защитные функции организма, где-то на генном уровне, передались в наследство и нам, а потому, наверное, мы более чем кто-либо склонны к осторожности и компромиссам.
Как тут на днях, один молодой коллега по работе, любящий юмор и умеющий подтрутнивать над «отсталым» поколением, признался мне в порыве откровения: «Вы ведь, продукты советской формации, а потому такие терпимые и лояльные ко всему, что даже не в состоянии „откусать“ своё, что по праву принадлежит вам». И хотя мне сложно согласиться с подобным утверждением (ведь, он даже не жил в советскую эпоху), вынужден признаться, что в определенном смысле я с ним согласен. Мы и в самом деле, в отличие от нынешних детей, жили как «у Христа за пазухой»: бегали по земле босиком, не боясь ящериц, змей и скорпионов, бесстрашно шерудили палками осиные и шмелиные гнёзда, держали на руках божью коровку, ловили бабочек и стрекоз, гладили гусениц и паучков. Мы просто, беззаботно жили, слившись с самой Природой и были защищены социально от всякого рода нехороших людей и прочих конкурентов. А потому, так и не научились «бегать по головам» и «откусывать своё».