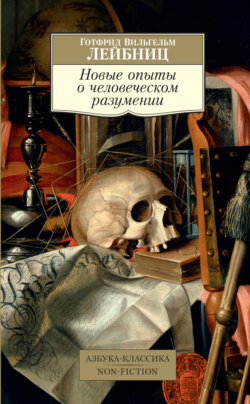Читать книгу Новые опыты о человеческом разумении - Готфрид Вильгельм Лейбниц, Павел Соломонович Юшкевич - Страница 2
Предисловие
ОглавлениеТак как «Опыт о человеческом разумении»[1], выпущенный одним знаменитым англичанином, принадлежит к числу лучших и наиболее ценимых произведений настоящего времени, то я решил написать к нему свои замечания. Я долго размышлял на ту же тему и о большинстве рассматриваемых в этой книге вопросов и думаю, что выход ее является удобным поводом опубликовать кое-что из моих соображений под заглавием «Новые опыты о человеческом разумении» и обеспечить этим более благоприятный прием для моих взглядов, которые оказались бы в таком хорошем сообществе. Я счел также возможным воспользоваться трудом другого автора не только для того, чтобы облегчить себе свою собственную работу (так как проще, конечно, следовать по стопам хорошего писателя, чем все заново вырабатывать своими силами), но также и для того, чтобы прибавить кое-что к тому, что он дал (ибо это всегда гораздо легче, чем начать совершенно новый труд), так как мне кажется, что я разрешил некоторые трудности, которые он оставил неразрешенными. Таким образом, его репутация в моих интересах, а ввиду того, что я вообще склонен отдавать ему должное и вовсе не желаю уменьшать то уважение, каким пользуется его труд, я со своей стороны увеличу его, если только мое одобрение имеет какой-нибудь вес. Правда, я часто придерживаюсь других взглядов, чем этот автор; но мы нисколько не отрицаем заслуг знаменитых писателей, а, наоборот, воздаем им должное, показывая, в чем и почему мы расходимся с ними, когда считаем необходимым помешать тому, чтобы их авторитет не взял в некоторых имеющих существенное значение пунктах верх над доводами разума. Кроме того, воздавая должное замечательным людям, мы оказываем услугу истине, а мы полагаем, что она является главной целью их стараний.
Действительно, хотя автор «Опыта…» высказывает множество прекрасных вещей, которые я вполне одобряю, тем не менее наши системы сильно отличаются друг от друга. Его система ближе к Аристотелю, а моя – к Платону, хотя каждый из нас во многих вопросах отклоняется от учений этих двух древних мыслителей. Он пишет более популярно, я же вынужден выражаться более научно и абстрактно, что не является для меня преимуществом, особенно ввиду того, что я пишу на живом языке. Однако я думаю, что диалогическая форма изложения, при которой один из собеседников высказывает взгляды, заимствованные из «Опыта…» этого автора, а другой сопровождает их моими соображениями, должна более понравиться читателю, чем сухие замечания, чтение которых прерывалось бы на каждом шагу необходимостью обращаться к его книге, чтобы понять мою. Тем не менее небесполезно будет все же сличать иногда наши сочинения и судить о его взглядах лишь на основании его собственного изложения, хотя обычно я сохраняю его подлинные выражения. Правда, из-за необходимости следовать в своих замечаниях ходу мысли другого автора я не мог использовать всех положительных сторон диалогической формы изложения, но я надеюсь, что содержание книги возместит недостатки формы.
Наши разногласия касаются довольно важных вопросов. Речь идет о том, действительно ли душа сама по себе совершенно чиста, подобно доске, на которой еще ничего не написали (tabula rasa), как это думают Аристотель и наш автор, и действительно ли все то, что начертано на ней, происходит исключительно из чувств и опыта или же душа содержит изначально принципы различных понятий и теорий, для пробуждения которых внешние предметы являются только поводом, как это думаю я вместе с Платоном, а также со схоластиками и со всеми теми, которые толкуют соответствующим образом известное место в послании св. Павла к римлянам (II 15), где он говорит, что Закон Божий написан в сердцах. Стоики называли эти принципы prolepseis[2], т. е. основными допущениями, или тем, что принимают за заранее признанное. Математики называют их общими понятиями (ϰοιυαì ἒυυοιὰι). Современные философы дают им другие красивые названия, а Юлий Скалигер, в частности, называл их semina aeternitatis или же Zopyra[3], как бы желая сказать, что это живые огни, вспышки света, которые скрыты внутри нас и обнаруживаются при столкновении с чувствами, подобно искрам, появляющимся при защелкивании ружья. Не без основания думают, что эти искры означают нечто божественное и вечное, обнаруживающееся особенно в необходимых истинах. Это приводит к другому вопросу, а именно к вопросу о том, все ли истины зависят от опыта, т. е. от индукции и примеров, или же имеются истины, покоящиеся на другой основе. Действительно, если некоторые явления можно предвидеть до всякого опыта по отношению к ним, то ясно, что мы привносим сюда нечто от себя. Хотя чувства необходимы для всех наших действительных знаний, но они недостаточны для того, чтобы сообщить их нам полностью, так как чувства дают всегда лишь примеры, т. е. частные или индивидуальные истины. Но как бы многочисленны ни были примеры, подтверждающие какую-нибудь общую истину, их недостаточно, чтобы установить всеобщую необходимость этой самой истины; ведь из того, что нечто произошло, не следует вовсе, что оно всегда будет происходить таким же образом. Например, греки и римляне и все другие народы, известные древности, всегда замечали, что до истечения 24 часов день сменяется ночью, а ночь – днем, но было бы ошибочно думать, что это же правило наблюдается повсюду, так как во время пребывания на Новой Земле наблюдали как раз обратное. Ошибся бы и тот, кто решил бы, что это является необходимой и вечной истиной, по крайней мере под нашими широтами, так как мы должны допустить, что Земля и даже Солнце не существуют необходимым образом и что, может быть, настанет когда-нибудь время, когда этого прекрасного светила и всей его системы не будет, по крайней мере в их теперешнем виде. Отсюда следует, что необходимые истины – вроде тех, которые встречаются в чистой математике, и в особенности в арифметике и геометрии, – должны покоиться на принципах, доказательство которых не зависит от примеров, а следовательно, и от свидетельства чувств, хотя, не будь чувств, нам никогда не пришло бы в голову задумываться над ними. Эти вещи следует тщательно отличать друг от друга, и Евклид отлично понял это, доказывая с помощью разума то, что достаточно ясно на основании опыта и чувственных образов. Точно так же логика вместе с метафизикой и моралью, из которых одна дает начало естественному богословию, а другая – естественной науке о праве, полны подобных истин; следовательно, их доказательство можно получить лишь с помощью внутренних принципов, называемых врожденными. Правда, не следует думать, будто эти вечные законы разума можно прочесть в душе прямо, без всякого труда, подобно тому как читается эдикт претора на его таблице, но достаточно, если их можно открыть в нас, направив на это свое внимание, поводы к чему доставляют нам чувства. Успех опыта служит для нас подтверждением разума примерно так, как в арифметике мы пользуемся проверкой, чтобы лучше избежать ошибок при длинных выкладках. В этом заключается также различие между человеческим знанием и знанием у животных. Животные – чистые эмпирики и руководствуются только примерами, так как, насколько можно судить об этом, никогда не доходят до образования необходимых предложений; люди же способны к наукам, покоящимся на логических доказательствах. Способность животных делать выводы есть нечто низшее по сравнению с человеческим разумом. Выводы, делаемые животными, в точности такие же, как выводы чистых эмпириков, уверяющих, будто то, что произошло несколько раз, произойдет снова в случае, представляющем сходные – как им кажется – обстоятельства, хотя они не могут судить, имеются ли налицо те же самые условия. Благодаря этому люди так легко ловят животных, а чистые эмпирики так легко впадают в ошибки. От этого не избавлены даже лица, умудренные возрастом и опытом, когда они слишком полагаются на свой прошлый опыт, как это не раз случалось в гражданских и военных делах, поскольку не обращают достаточно внимания на то, что мир изменяется и что люди становятся более искусными, находя тысячи новых уловок, между тем как олени или зайцы нашего времени не более хитры, чем олени или зайцы прошлых времен. Выводы, делаемые животными, всего лишь тень рассуждения, т. е. это лишь продиктованная воображением связь и переход от одного образа к другому, так как при некоторой новой комбинации, кажущейся похожей на предыдущую, они снова ожидают встретить то, что они нашли здесь раньше, словно вещи связаны между собой в действительности, коль скоро их образы связаны памятью. Правда, и основываясь на разуме, мы обыкновенно ожидаем встретить в будущем то, что соответствует длительному опыту прошлого, но это вовсе не необходимая и непогрешимая истина, и мы можем обмануться в своих расчетах, когда мы меньше всего этого ожидаем, если изменятся условия, приведшие раньше к успеху. Поэтому более умные люди не полагаются только на факт успеха, а пытаются, если это возможно, проникнуть хоть отчасти в причины его, чтобы узнать, когда придется сделать исключение. Ведь только разум способен установить надежные правила и дополнить то, чего недостает правилам ненадежным, внося в них исключения, и найти наконец достоверные связи в силу необходимых выводов. Часто это дает возможность предвидеть известное событие, не обращаясь к опыту по отношению к чувственным связям образов, как это вынуждены делать животные. Таким образом, то, что оправдывает внутренние принципы необходимых истин, отличает вместе с тем человека от животного.
Возможно, что наш ученый автор не совсем расходится с моими взглядами. В самом деле, если вся его первая книга посвящена опровержению врожденных знаний, понимаемых в определенном смысле, то в начале второй книги и в дальнейшем он признает, однако, что идеи, которые происходят не из ощущения, берут свое начало в рефлексии. Но рефлексия есть не что иное, как внимание, направленное на то, что заключается в нас, и чувства не дают нам вовсе того, что мы приносим уже с собой. Если это так, то можно ли отрицать, что в нашем духе имеется много врожденного, мы, так сказать, врождены самим себе, и что в нас имеются бытие, единство, субстанция, длительность, изменение, деятельность, восприятие, удовольствие и тысячи других предметов наших интеллектуальных идей? Так как эти предметы непосредственно и всегда имеются в нашем разуме (хотя мы, отвлеченные своими делами и поглощенные своими нуждами, не всегда сознаем их), то нечего удивляться, если мы говорим, что эти идеи вместе со всем тем, что зависит от них, врождены нам. Я предпочел бы поэтому сравнение с глыбой мрамора с прожилками сравнению с гладким куском мрамора или с чистой доской – тем, что философы называют tabula rasa. В самом деле, если бы душа походила на такую чистую доску, то и истины заключались бы в нас так, как фигура Геркулеса заключается в глыбе мрамора, когда она абсолютно безразлична к тому, чтобы принять форму данной фигуры или какой-нибудь иной. Но если бы в этой глыбе имелись прожилки, которые намечали бы фигуру Геркулеса предпочтительно перед другими фигурами, то она была бы более предопределена к этому и Геркулес был бы некоторым образом как бы врожден ей, хотя потребовался бы труд, чтобы открыть эти прожилки и отполировать их, удалив все то, что мешает им выступить наружу. Таким же образом идеи и истины врождены нам подобно склонностям, предрасположениям, привычкам или естественным потенциям, а не подобно действиям, хотя эти потенции всегда сопровождаются соответствующими, часто незаметными действиями.
Наш ученый автор, по-видимому, убежден, что в нас нет ничего потенциального и даже нет ничего такого, чего бы мы всегда не сознавали актуально. Но он не может строго придерживаться этого, в противном случае его суждение было бы парадоксальным. В самом деле, приобретенные привычки и накопленные в памяти впечатления не всегда осознаются нами и даже не всегда являются нам на помощь при нужде, хотя часто они легко приходят нам в голову по какому-нибудь ничтожному поводу, вызывающему их в памяти, подобно тому как для нас достаточно начала песни, чтобы вспомнить ее продолжение. В других местах он также ограничивает свой тезис, утверждая, что в нас нет ничего такого, чего бы мы не осознавали по крайней мере когда-либо прежде. Но независимо от того, что никто не может сказать на основании одного только разума, как далеко может простираться наше прошлое сознание (aperceptions), о котором мы могли забыть, особенно если следовать учению платоников о воспоминании[4], которое при всей своей фантастичности вовсе не противоречит, хотя бы отчасти, чистому разуму, – независимо от этого, говорю я, почему мы должны приобретать все лишь с помощью восприятий внешних вещей и не можем добыть ничего в самих себе? Неужели наша душа сама по себе столь пуста, что без заимствованных извне образов не представляет ровно ничего? Не думаю, чтобы наш рассудительный автор мог одобрить подобный взгляд. И где мы найдем доску, которая сама по себе не представляла бы некоторого разнообразия? Никто никогда не видел совершенно однородной и однообразной плоскости. Почему же и мы не могли бы добыть себе каких-нибудь объектов мышления из своего собственного существа, если бы захотели углубиться в него? Поэтому я склонен думать, что по существу взгляд нашего автора на этот вопрос не отличается от моих взглядов, или, вернее, от общепринятых взглядов, коль скоро он признаёт два источника наших знаний – чувства и рефлексию.
Не знаю, так ли легко будет примирить с нашими взглядами и со взглядами картезианцев утверждение этого автора, что дух не всегда мыслит и, в частности, что он лишен восприятий во сне без сновидений. Он говорит, что раз тела могут быть без движения, то и души могут быть без мыслей. На это я даю несколько необычный ответ. Я утверждаю, что ни одна субстанция не может естественным образом быть в бездействии и что тела также никогда не могут быть без движения. Уже опыт говорит в мою пользу, и достаточно обратиться к книге знаменитого Бойля, направленной против учения об абсолютном покое[5], чтобы убедиться в этом. Но я думаю, что на моей стороне и разум, и это один из моих аргументов против атомистики.
Впрочем, есть тысячи признаков, говорящих за то, что в каждый момент в нас имеется бесконечное множество восприятий, но без сознания и рефлексии, т. е. имеются к самой душе изменения, которых мы не сознаем, так как эти впечатления либо слишком слабы и многочисленны, либо слишком однородны, так что в них нет ничего отличающего их друг от друга; но в соединении с другими восприятиями они оказывают свое действие и ощущаются – по крайней мере неотчетливо – в своей совокупности. Так, под влиянием привычки мы не обращаем внимания на движение какой-нибудь мельницы или водопада, если мы некоторое время прожили совсем близко около них. Не следует думать, будто это движение не действует постоянно на наши органы чувств и что в душе не происходит ничего соответствующего этому благодаря гармонии души и тела; но находящиеся в душе и в теле впечатления, лишенные прелести новизны, недостаточно сильны, чтобы привлечь к себе наше внимание и нашу память, устремляющиеся на более занимательные предметы. Всякое внимание требует памяти, и если мы не получаем, так сказать, предупреждения обратить внимание на некоторые из наших наличных восприятий, то мы их часто пропускаем, не задумываясь над ними и даже не намечая их; но если кто-нибудь немедленно укажет нам на них и обратит, например, наше внимание на только что пронесшийся шум, то мы вспоминаем об этом и сознаем, что испытали тогда некоторое ощущение. Таким образом, то были восприятия, которых мы не осознали немедленно; осознание их появилось лишь тогда, когда на них обратили наше внимание через некоторый, пусть совсем ничтожный, промежуток времени. Чтобы еще лучше пояснить мою мысль о малых восприятиях, которых мы не можем различить в массе, я обычно пользуюсь примером шума моря, который мы слышим, находясь на берегу. Шум этот можно услышать, лишь услышав составляющие это целое части, т. е. услышав шум каждой волны, хотя каждый из этих малых шумов воспринимается лишь неотчетливо в совокупности всех прочих шумов, т. е. в самом этом рокоте, хотя каждый из них не был бы замечен, если бы издающая его волна была одна. В самом деле, если бы на нас не действовало слабое движение этой волны и если бы мы не имели какого-то восприятия каждого из этих шумов, как бы малы они ни были, то мы не имели бы восприятия шума ста тысяч волн, так как сто тысяч ничто не могут составить нечто. Точно так же нет столь глубокого сна, при котором не было бы некоторого слабого и неотчетливого ощущения; и никогда нельзя было бы проснуться от самого страшного шума в мире, если бы мы не имели некоторого восприятия начала его, хотя бы самого незначительного, подобно тому как нельзя было бы никогда разорвать веревки при помощи величайшего в мире усилия, если бы меньшие усилия не удлиняли ее немного, хотя это производимое ими небольшое растяжение и незаметно.
Таким образом, действие этих малых восприятий гораздо более значительно, чем это думают. Именно они образуют те не поддающиеся определению вкусы, те образы чувственных качеств, ясных в совокупности, но неотчетливых в своих частях, те впечатления, которые производят на нас окружающие нас тела и которые заключают в себе бесконечность, – ту связь, в которой находится каждое существо со всей остальной вселенной. Можно даже сказать, что в силу этих малых восприятий настоящее чревато будущим и обременено прошедшим, что все находится во взаимном согласии (συµπνοια πάντα, как говорил Гиппократ) и что в ничтожнейшей из субстанций взор, столь же проницательный, как взор божества, мог бы прочесть всю историю вселенной, quae sint, quae fuerint, quae mox venture trahantur[6].
Эти же незаметные восприятия отмечают и составляют тождество индивида, характеризуемое следами, или впечатлениями, которые сохраняются от предыдущих состояний этого индивида, связывая их с его теперешним состоянием. Какой-нибудь высший дух мог бы познать их, хотя бы даже сам индивид их не ощущал, т. е. хотя бы и не было определенного воспоминания о них. Но они, эти восприятия, дают возможность восстановить при нужде данное воспоминание путем периодических преобразований, могущих некогда произойти. Благодаря этим восприятиям смерть может быть лишь сном, однако не может всегда оставаться им, так как восприятия перестают быть только достаточно отчетливыми и у животных переходят в смутное состояние, не допускающее сознания, но такое состояние не может длиться постоянно, не говоря уже о человеке, который в этом отношении должен обладать бóльшими преимуществами, чтобы сохранить свою индивидуальность.
Именно с помощью незаметных восприятий объясняется изумительная предустановленная гармония души и тела и даже всех монад, или простых субстанций, – учение, которое заменяет несостоятельную теорию об их взаимодействии и которое, по мнению автора лучшего из словарей[7], превозносит величие божественного совершенства выше всего, что люди когда-нибудь себе представляли. После этого я вряд ли скажу что-либо новое, добавив, что эти же малые восприятия определяют наши поступки во многих случаях без нашего размышления, обманывая толпу мнимым равновесием безразличия, как если бы нам было совершенно все равно, пойти ли направо или налево. Нет необходимости, чтобы я, кроме того, отметил здесь (как я это сделал в самой книге), что они вызывают то беспокойство, которое, как я показываю, отличается от страдания так, как малое отличается от большого, и составляет, однако, часто наше желание и даже наше удовольствие, придавая им своеобразную остроту. Благодаря этим же незаметным частям наших чувственных восприятий существует связь (rapport) между восприятием цвета, теплоты и других чувственных качеств и соответствующими им движениями в телах; картезианцы же, все равно как и наш автор, при всей своей проницательности признают наши восприятия этих качеств чем-то произвольным, точно Бог сообщил их душе, как ему заблагорассудилось, без всякого существенного отношения между восприятиями и их предметами, – поразительное учение, кажущееся мне малодостойным мудрости творца, не делающего ничего лишенного гармонии и разумного основания.
Одним словом, незаметные восприятия имеют такое же большое значение в пневматике[8], какое незаметные корпускулы имеют в физике, и одинаково неразумно отвергать как те, так и другие под тем предлогом, что они недоступны нашим чувствам. Ничто не происходит сразу, и одно из моих основных и достоверных положений – это то, что природа никогда не делает скачков. Я назвал это законом непрерывности, когда я писал об этом некогда в «Nouvelles de la République des Lettres»[9]. Значение этого закона в физике очень велико: в силу этого закона всякий переход от малого к большому и наоборот совершается через промежуточные величины как по отношению к степеням, так и по отношению к частям. Точно так же никогда движение не возникает непосредственно из покоя, и оно переходит в состояние покоя лишь путем меньшего движения, подобно тому как никогда нельзя пройти некоторого пути или длины, не пройдя предварительно меньшей длины. Между тем до сих пор те, кто устанавливал законы движения, не считались с этим законом, полагая, что известное тело может мгновенно приобрести движение, противоположное предшествующему. Все это заставляет думать, что заметные восприятия также получаются из восприятий слишком малых, чтобы быть замеченными. Придерживаться другого взгляда – значит не понимать безграничной тонкости вещей, заключающей в себе всегда и повсюду актуальную бесконечность.
Я указал также, что в силу незаметных различий две индивидуальные вещи не могут быть совершенно тождественными и что они должны всегда отличаться друг от друга не только нумерически. Эта теория опровергает учение о душе – чистой доске, душе без мышления, субстанции без деятельности, о пустом пространстве, об атомах и даже учение о неразделенных актуально частицах материи, об абсолютном покое, о полном единообразии какой-нибудь части времени, места или материи, о совершенных шарах второго элемента, возникших из изначальных совершенных кубов, и тысячи других выдумок философов, вытекающих из их несовершенных понятий. Природа вещей не допускает этого, и только вследствие нашего невежества и невнимательного отношения к незаметному могут возникать подобные учения, которые совершенно неприемлемы, если только не заявляют определенно, что это не более как умственные абстракции, вовсе не отрицающие того, что оставляют в стороне и что не считают необходимым принимать в соображение в том или ином случае. Если же мы примем все это за чистую монету и станем думать, что вещи, которых мы не осознаем, не находятся в душе или в теле, то мы совершим такую же ошибку в философии, какую делают в политике, пренебрегая τò µιϰρóν[10] – незаметным прогрессом; между тем абстракция сама по себе не является ошибкой, лишь бы только помнили, что то, от чего отвлекаются, все же существует. Так поступают математики, когда они говорят о совершенных линиях или описывают нам равномерные движения и другие подчиняющиеся правилам действия, хотя материя (т. е. соединение действий окружающей нас бесконечности) всегда обнаруживает какое-нибудь исключение. Так поступают, чтобы разграничить проблемы, чтобы свести действия к их основаниям, насколько это возможно, и предвидеть некоторые их последствия; действительно, чем внимательнее мы к тому, чтобы не пренебрегать ничем в доступном нам рассмотрении, тем более практика соответствует теории. Но только высший Разум, от которого ничто не ускользает, способен отчетливо понять всю бесконечность, все основания и все следствия. Все, на что мы способны по отношению к бесконечностям, – это неотчетливое познание их, а отчетливо мы знаем по крайней мере, что они существуют; в противном случае мы очень неверно судили бы о красоте и величии вселенной и не имели бы также удовлетворительной физики, которая объяснила бы природу вещей вообще, а тем более удовлетворительной пневматики, включающей в себя познание Бога, душ и вообще простых субстанций.
Это учение о незаметных восприятиях объясняет также, почему и каким образом две человеческие души или две вещи одного и того же вида никогда не выходят совершенно тождественными из рук творца и обладают каждая своим изначальным отношением к тому положению, которое им предстоит занять во вселенной. Но это следует уже из того, что я сказал о двух индивидах, а именно что различие между ними не только нумерическое. Есть еще другой важный пункт, по которому я должен разойтись не только со взглядами нашего автора, но также и со взглядами большинства современных писателей, а именно – я думаю, в согласии с большинством древних авторов, что все духи, все души, все сотворенные простые субстанции всегда соединены с каким-нибудь телом и что не существует душ, которые были бы совершенно отделены от них. В пользу этого взгляда у меня имеются априорные доводы. Но у этой теории еще то преимущество, что она разрешает все философские трудности по вопросу о состоянии душ, об их вечном сохранении, об их бессмертии и их деятельности. Действительно, различие между состояниями душ оказывается и оказывалось всегда лишь различием между большей или меньшей чувствительностью, между более совершенным и менее совершенным и обратно, а это делает их прошедшее и будущее состояние столь же доступным объяснению, как и их настоящее состояние. Достаточно немного поразмыслить, чтобы убедиться в разумности этой теории и в том, что скачок от одного состояния к другому, бесконечно разнящемуся от первого, не может быть естественным. Меня удивляет школьная философия, которая, отвернувшись без всяких оснований от природы, создала этим огромные трудности и дала повод для мнимого торжества вольнодумцев, все аргументы которых сразу опровергаются предлагаемым нами объяснением вещей, согласно которому представить себе сохранение душ (или правильнее, по-моему, живых существ) не труднее, чем представить себе превращение гусеницы в бабочку или сохранение мысли во сне, с которым Иисус Христос столь божественно прекрасно сравнил смерть. Как я уже сказал, никакой сон не может длиться вечно; и он будет короче или его почти совсем не будет у разумных душ, которым предназначено навеки сохранить личность, а стало быть, и память, данные им в Царстве Божием: это сделает их более восприимчивыми к наградам и наказаниям. Прибавлю к этому еще, что вообще никакое расстройство видимых органов не способно внести полный хаос в живое существо или разрушить все его органы и лишить душу всего ее органического тела и неизгладимых остатков всех ее прежних состояний. Но легкость, с которой отказались от старого учения о тончайших телах, присоединенных к ангелам (которое смешивали с учением о телесности самих ангелов), принятие учения о мнимых сотворенных бестелесных духах (чему сильно содействовало учение Аристотеля о духах, вращающих небесные сферы) и, наконец, ошибочный взгляд, будто нельзя придерживаться учения о сохранении душ животных, не впадая в теорию метемпсихоза[11] и не заставляя души переходить из тела в тело, и связанные с этим затруднения, из которых не видели выхода, – все это, по-моему, имело своим результатом то, что оставили в пренебрежении естественный способ объяснения сохранения души. Это причинило много вреда естественной религии и заставило многих думать, будто наше бессмертие есть лишь чудесный дар Божьей благодати, о чем наш знаменитый автор высказывается, как я вскоре покажу, с некоторым сомнением. Впрочем, было бы желательно, чтобы все те, кто придерживается этого взгляда, высказали его с такими же искренностью и благоразумием, как и он, ибо я боюсь, что некоторые высказывающиеся в пользу учения о бессмертии на основании благодати придерживаются его лишь на словах, а в действительности близки к тем аверроистам и заблуждающимся квиетистам[12], которые измышляют соединение души с океаном божества и поглощение ее им, – теория, невозможность которой убедительно доказывается, может быть, только моей системой.
Между нами имеются, по-видимому, еще разногласия по вопросу о материи, поскольку наш автор думает, что для движения необходима пустота, полагая, что небольшие частицы материи тверды. Я согласен, что если бы материя состояла из таких частиц, то движение в наполненном пространстве было бы невозможно, как оно невозможно в комнате, наполненной множеством мелких камешков так, что не остается ни малейшего пустого места. Но мы не признаем этого допущения, в пользу которого, кажется, нет никаких оснований, хотя наш ученый автор решается даже утверждать, что твердость или сцепление небольших частиц составляют сущность тела. Скорее следует представить себе пространство заполненным изначально жидкой материей, способной всячески делиться и действительно подверженной бесконечным и разнообразным делениям (divisions et subdivisions). Но к этому надо прибавить, что в различных местах она делима и разделена неодинаковым образом по причине имеющихся уже в ней более или менее согласованных между собой движений; благодаря этому она повсюду до известной степени тверда и вместе с тем жидка и нет ни одного тела, которое было бы в максимальной степени жидко или твердо, иначе говоря, в материи нельзя найти ни одного атома, обладающего непреодолимой твердостью, и никакой массы, абсолютно безразличной к делению. Миропорядок и, в частности, закон непрерывности делают одинаково невозможным и то и другое.
Я показал также, что сцепление, которое не было бы само по себе результатом толчка или движения, должно было бы вызвать притяжение в буквальном смысле слова. Ведь если бы существовало изначально твердое тело, как, например, атом Эпикура, который обладал бы выступающей частью в виде крючка (так как можно представить себе атомы любой формы), то крючок этот, если его толкнуть, потащил бы за собой остальную часть этого атома, т. е. ту часть его, которую не толкают и которая не расположена по линии толчка. Однако наш ученый автор сам не согласен с этими философскими теориями притяжения, как их принимали некогда под влиянием боязни пустоты, и он сводит притяжение к толчкам, утверждая вместе с современными мыслителями, что какая-нибудь часть материи может воздействовать на другую ее часть, лишь непосредственно толкая ее; в этом отношении они, по моему мнению, правы, так как в противном случае это действие было бы совершенно непонятным.
Я не могу, однако, скрыть того, что по этому вопросу наш уважаемый автор как бы отрекается от своих взглядов, и я не могу при этом не воздать должного его скромному чистосердечию, точно так как в других случаях я восхищался его проницательным гением. Я имею в виду его ответ на второе письмо покойного епископа Ворчестерского[13], напечатанное в 1699 г. [2, 457][14], в котором, желая оправдать защищаемый им против этого ученого прелата взгляд, а именно что материя может мыслить, он говорит, между прочим, следующее: «Признаюсь, я сказал (кн. II „Опыта о человеческом разумении“, гл. VIII, § 11), что тела воздействуют через толчок, и никак иначе. Так я думал, когда писал это, и все еще не могу представить себе какого-либо иного способа их воздействия. Но с тех пор несравненная книга рассудительного г-на Ньютона[15] убедила меня в том, что ограничивать силу Бога в этом вопросе моими узкими понятиями было бы слишком дерзкой самонадеянностью. Притяжение материи к материи, осуществляемое непостижимыми для меня путями, есть не только доказательство того, что Бог при желании может вложить в тела силы и способы воздействия, превышающие те, которые могут быть выведены из нашей идеи тела или объяснены из того, что мы знаем о материи, но также неоспоримый и повсюду очевидный пример того, что он уже сделал так. Поэтому в следующем издании моей книги я позабочусь об исправлении указанного места». Я нахожу, что во французском переводе этой книги, сделанном, несомненно, на основании последних изданий, это место в § 11 изложено следующим образом: «Ясно по крайней мере настолько, насколько это доступно нашему пониманию, что тела действуют друг на друга не иначе как при помощи толчка; в самом деле, мы не в состоянии понять, как тело может действовать на то, чего оно не касается, так как это было бы все равно что вообразить, будто оно может действовать там, где его нет».
Я могу лишь воздать хвалу этому скромному благочестию нашего знаменитого автора, признающего, что Бог может сделать более того, что мы в состоянии понять, и что, таким образом, в догматах веры могут заключаться непостижимые для нас тайны, но я не желал бы, чтобы в обычном ходе вещей прибегали к чудесам и допускали абсолютно непонятные силы и действия. Ведь в противном случае под предлогом божественного всемогущества мы дадим слишком много воли плохим философам; и если допустить все эти непонятные центростремительные силы или непосредственные притяжения на расстоянии, не будучи, однако, в состоянии понять их, то я не знаю, что может помешать нашим схоластикам говорить, что все происходит просто благодаря «способностям», и защищать свои «интенциональные образы», которые направляются от предметов к нам и находят способ проникнуть в наши души. Если это так, то Omnia iam fient, fieri quae posse negabam[16]. Поэтому мне кажется, что наш автор при всей своей рассудительности впадает здесь из одной крайности в другую. В вопросе о деятельности душ он упорствует, когда приходится только допустить то, что недоступно чувствам, а в данном случае он приписывает телам то, что недоступно даже разуму, допуская у них силы и действия, превосходящие все то, что может, по моему мнению, сделать и понять сотворенный дух, так как он приписывает им притяжение, притом на огромных расстояниях, ничем не ограничивая сферы воздействия; и все это для защиты столь же непонятного утверждения – именно что материя в естественном порядке может мыслить.
Вопрос, по которому он ведет спор с выступившим против него знаменитым прелатом, заключается в том, может ли материя мыслить; и так как это вопрос важный также и для настоящего сочинения, то я не могу не коснуться его и не рассмотреть их разногласия. Я изложу сущность вопроса и позволю себе высказать то, что я думаю по этому поводу. Покойный г-н епископ Ворчестерский, опасаясь (но, по моему мнению, без серьезных оснований), чтобы теория идей нашего автора не повлекла за собой некоторых злоупотреблений, пагубных для христианской веры, решил критически рассмотреть некоторые пункты ее в своей «Защите учения о Троице». Воздав должное этому превосходному писателю, признающему существование духа столь же достоверным, как и существование тела, хотя каждая из этих субстанций столь же мало известна нам, как и другая, он спрашивает, каким образом рефлексия может убедить нас в существовании духа, если, как это думает наш автор (кн. IV, гл. III), Бог может сообщить материи способность мыслить; ведь исследование идей, на основании которого следует различить, что свойственно душе, а что телу, становится, таким образом, бесполезным, между тем как в «Опыте о человеческом разумении» (кн. II, гл. XXIII, § 15, 27, 28) говорится, что деятельность души доставляет нам идею духа и что разум и воля делают для нас эту идею столь же понятной, сколь понятной стала для нас природа тела благодаря плотности и толчку. Вот как отвечает на это наш автор в первом письме [2, 338–339]: «Я думаю, что доказал наличие в нас духовной субстанции», так как «в нас самих мы испытываем процесс мышления; идея этого действия или модуса мышления несовместима с идеей самосуществования, и поэтому она необходимо связана с подпоркой, или субъектом присущности. Идея этой подпорки есть то, что мы называем субстанцией…» Так как общая идея субстанции повсюду одна и та же, то, «если ей сообщить модификацию мышления, или способность мышления, она превращается в духовную субстанцию. При этом мы не принимаем во внимание других присущих ей модификаций, будь то модификация плотности или нет. С другой стороны, субстанция, которой присуща модификация плотности, есть материя, все равно, обладает ли она модификацией мышления или нет. И поэтому, если Ваша милость под духовной субстанцией понимает нематериальную субстанцию, я согласен с Вами, что я не доказал… что в нас заключена нематериальная субстанция, которая мыслит. Хотя я и полагаю, что высказанное мною предположение о системе мыслящей материи (кн. IV, гл. X, § 16) (которое там используется для доказательства нематериальности Бога) доказывает высшую степень вероятности того, что мыслящая в нас субстанция нематериальна… Ибо, хотя (прибавляет наш автор), как я это показал, все великие цели нравственности и религии… достигаются исключительно бессмертием души, без необходимого предположения, что душа нематериальна…» [2, 339].
В своем ответе на это письмо ученый епископ, желая показать, что наш автор придерживался другого взгляда, когда писал вторую книгу своего «Опыта…», приводит из него на с. 309–310 следующий отрывок, где говорится, что с помощью простых идей, выведенных нами из действий нашего духа, «мы можем составить также сложную идею нематериального духа… И таким образом, соединяя вместе идеи мышления, восприятия, свободы и силы двигать себя и другие вещи, мы получаем столь ясные восприятия и понятия нематериальных субстанций, как и восприятие и понятие материальных субстанций». Он приводит еще и другие отрывки, чтобы показать, что наш автор противопоставлял дух телу, и говорит, что цели религии и нравственности обеспечиваются прочнее, если доказано, что душа по своей природе бессмертна, т. е. что она нематериальна. Он приводит еще следующее место о том, что «все наши идеи о частных и отдельных видах субстанций представляют собой не что иное, как различные сочетания простых идей», и что, следовательно, наш автор полагал, что идеи мышления и хотения образуют иную субстанцию, отличную от субстанции, образуемой идеями плотности и толчка, и что в § 17 он указывает, что эти идеи составляют тело в противоположность духу.
Епископ Ворчестерский мог бы прибавить к этому, что из того, что общая субстанция содержится в теле и в духе, не следует вовсе, будто их различия представляют собой модификации одной и той же вещи, как говорит наш автор в приведенном мной отрывке из его первого письма. Следует тщательно различать между собой модификации и атрибуты. Способности обладать восприятием и действовать, протяжение, плотность представляют собой атрибуты, или постоянные и основные свойства; мышление же, стремительность, фигуры, движения представляют собой модификации этих атрибутов. Мало того, следует проводить различие между физическим (или, правильнее, реальным) родом и логическим (или идеальным) родом. Вещи, относящиеся к одному и тому же физическому роду, или однородные, состоят, так сказать, из одной и той же материи и могут часто быть превращены друг в друга путем изменения модификации; таковы круги и квадраты. Но две разнородные вещи могут иметь общий логический род, и тогда их различия не являются простыми случайными модификациями одного и того же субъекта или одной и той же метафизической или физической материи. Так, время и пространство – вещи весьма разнородные, и было бы ошибочно представлять себе какой-то общий реальный субъект, который обладал бы непрерывным количеством вообще и модификации которого образовали бы время и пространство. Быть может, найдутся люди, которые станут издеваться над этими философскими различениями двух родов, одного – чисто логического, другого – реального, и двух материй, одной – физической, материи тел, другой – чисто метафизической, или общей, как если бы сказали, что две части пространства состоят из одной и той же материи или что два часа тоже состоят из одной и той же материи. Однако эти различения не чисто терминологические, а коренятся в самих вещах и, мне кажется, очень уместны в данном вопросе, где смешение их породило ложные выводы. У этих двух родов имеется общее понятие, а понятие реального рода общо обеим материям, так что генеалогия их такова:
Я не видел второго письма нашего автора к епископу. Ответ на него этого прелата не затрагивает вовсе вопроса о мышлении материи. Но возражение нашего автора на этот второй ответ возвращает к этому вопросу. «Бог, – так примерно говорит он [2, 451], – придает сущности материи те качества и совершенства, какие ему угодно: некоторым частям – простое движение, но растениям – произрастание, а животным – ощущение. Те, кто соглашается с этим, возмущаются, однако, когда делают еще шаг вперед и говорят, что Бог может наделить материю мышлением, разумом, волей, словно это уничтожает сущность материи. Для доказательства этого они указывают, что мышление, или разум, не заключено в сущности материи; но это ровно ничего не значит, так как движение и жизнь в ней так же точно не заключены. Они указывают также на непонятность того, что материя мыслит. Но наше понимание не есть мера всемогущества Божия». Затем он приводит в пример притяжение материи [453], но особенно важно то место [457], где он говорит о тяготении материи к материи, которое приписывается Ньютону в вышеприведенных выражениях, признавая, что никогда не удастся понять, как это происходит. Действительно, принять это – значит вернуться к скрытым, или, правильнее, необъяснимым, качествам. Он прибавляет к этому [448], что ничто так не благоприятствует скептицизму, как отрицание того, чего не понимаешь, и [451] что мы не понимаем также и того, каким образом мыслит душа. Он утверждает [454], что так как обе субстанции, материальная и нематериальная, могут быть поняты в своей чистой сущности без всякой активности, то от Бога зависит наделить ту или другую субстанцию способностью мышления. При этом он пытается использовать утверждение своего противника, признающего у животных ощущение, но не признающего у них никакой нематериальной субстанции. Он уверяет, что свобода, сознательность [458] и способность к абстракциям [459] могут быть сообщены материи, но не просто как таковой, а обогащенной божественным всемогуществом. Наконец, он приводит замечание столь выдающегося и рассудительного путешественника, как де ла Лубер[17], утверждающего, что живущие на Востоке язычники признают бессмертие души, но не могут понять ее нематериальность.
Прежде чем высказать свой собственный взгляд, я замечу на все это, что, разумеется, материя столь же мало способна породить механически ощущения, как и разум, как признает и наш автор; что действительно нельзя отрицать того, чего не понимаешь, но я прибавлю к этому, что мы имеем право отрицать (по крайней мере в естественном порядке) то, что абсолютно непонятно и необъяснимо. Я утверждаю также, что нельзя понять субстанций (материальных или нематериальных) в их сущности без всякой активности, что активность свойственна сущности субстанции вообще и, наконец, что понимание сотворенных существ не есть мера всемогущества Божьего, но что их понятливость, или способность понимания, есть мера могущества природы, так как все, что соответствует естественному порядку, может быть понято каким-нибудь сотворенным существом.
Тот, кто познакомится с моей системой, убедится, что я не могу во всем согласиться ни с одним из этих превосходных авторов, разногласия которых очень поучительны. Но чтобы отчетливо объяснить свою точку зрения, я должен прежде всего заметить, что модификации, могущие возникнуть естественным образом, или без чуда, у одного и того же субъекта, должны произойти в нем от ограничений или изменений некоторого реального рода или некоторой изначальной и абсолютной природы, ибо таким именно образом философы отличают модусы какого-нибудь абсолютного существа от самого этого существа. Так, мы знаем, что величина, фигура и движение суть, очевидно, ограничения и изменения телесной природы. Ясно, что ограниченное протяжение дает фигуры, а происходящее в нем изменение есть не что иное, как движение. И всякий раз, когда мы встречаем некоторое качество у какого-нибудь субъекта, мы вправе думать, что если бы мы знали природу этого субъекта и этого качества, то мы поняли бы, каким образом это качество может произойти из этого субъекта. Таким образом, в естественном порядке (оставляя в стороне чудеса) Бог непроизвольно придает субстанциям те или иные качества, и он всегда будет придавать им лишь такие качества, которые естественны для них, т. е. могут быть выведены из их природы как доступные объяснению модификации. Поэтому мы вправе думать, что материя не обладает естественным образом вышеупомянутым притяжением и не станет двигаться сама собой по кривой линии, так как невозможно понять, каким образом это происходит, т. е. невозможно объяснить это механически, между тем то, что естественно, должно быть доступным отчетливому пониманию, если бы мы проникли в тайны вещей. Это различие между тем, что естественно и объяснимо, и тем, что необъяснимо и чудесно, устраняет все затруднения. Отвергнув его, мы стали бы защищать нечто худшее, чем скрытые качества, и мы отказались бы в этом вопросе от философии и разума, открыв убежище невежеству и лености мысли благодаря смутной системе, допускающей не только существование качеств, которых мы не понимаем, – а их и без того имеется слишком много, – но также существование качеств, которых не мог бы понять и величайший дух, если бы Бог дал ему полноту разумения, т. е. качеств, которые были бы или чудесными, или нелепыми и бессмысленными. Впрочем, нелепым и бессмысленным было бы также, чтобы Бог повседневно творил чудеса. Таким образом, эта праздная гипотеза противоречит как нашей философии, доискивающейся оснований, так и божественной мудрости, дающей эти основания.
Что же касается мышления, то несомненно – как это не раз признает и наш автор, – что оно не может быть доступной пониманию модификацией материи. Иначе говоря, ощущающее или мыслящее существо не есть какая-то машина (chose machinale) вроде часов или мельницы, так чтобы можно было представить себе величины, фигуры и движения, механическое сочетание которых могло бы породить нечто целое (chose), мыслящее и ощущающее, чего не было в отдельных его частях, причем мышление и ощущение тотчас прекратились бы в случае порчи этого механизма. Таким образом, ощущение и мышление не есть нечто естественное для материи, и они могут возникнуть в ней лишь двояким способом. Один из них заключается в том, что Бог присоединяет к материи некоторую субстанцию, которой по природе свойственно мыслить; а другой – в том, что Бог чудесным образом вкладывает в материю мышление. Так что в этом вопросе я целиком на стороне картезианцев, за исключением того, что я распространяю это и на животных и думаю, что они обладают ощущением и нематериальными (в строгом смысле слова) душами, столь же нетленными, как атомы у Демокрита и Гассенди. Между тем картезианцы, безосновательно запутавшись в вопросе о душах животных и не зная, что с ними делать, если они сохраняются (так как они не обратили внимания на сохранение живого существа в редуцированном виде), были вынуждены вопреки всякой очевидности и вопреки мнению всего света отрицать у животных даже ощущения. Но если бы кто-нибудь сказал, что Бог может во всяком случае наделить способностью мышления приспособленную к этому машину, то я бы ответил, что если бы это произошло и Бог наделил бы материю этой способностью, не придав ей в то же время субстанции в качестве субъекта, которому присуща эта способность, как я это понимаю, т. е. не присоединив к ней нематериальной души, то оставалось бы допустить, что материя чудесным образом одухотворена (exaltée), чтобы получить свойство, на которое она неспособна естественным образом, подобно тому как некоторые схоластики утверждают, что Бог одухотворяет огонь, чтобы сообщить ему способность непосредственно сжигать отделенных от тела духов, что является настоящим чудом. Достаточно того, что невозможно утверждать, что материя мыслит, не вкладывая в нее нетленной души и не допуская чуда; таким образом, бессмертие наших душ следует из того, что естественно, так как защищать тезис об их исчезновении можно, лишь прибегая к чуду, будь то посредством превознесения материи или посредством уничтожения души, ибо мы отлично знаем, что всемогущество Божие могло бы сделать наши души – при всей их нематериальности (или бессмертии на основании одного только естества) – смертными, потому что оно может их уничтожить.
Это утверждение о нематериальности души имеет, без сомнения, большое значение, так как для религии и нравственности, особенно в наше время (когда так много людей, относящихся без всякого уважения к самому откровению и чудесам), несравненно выгоднее показать, что души бессмертны естественным образом и что было бы чудом, если бы они не были бессмертными, чем утверждать, что наши души должны умирать естественным образом, но они не умирают только в силу чудесной благодати, основанной на одном лишь обещании Бога. Ведь давно уже известно, что те, кто желал уничтожить естественную религию и свести все к религии откровения – как будто разум тут ничему не может научить, – считались, и не всегда без основания, людьми подозрительными. Но наш автор не относится к их числу. Он признает возможность доказательства бытия Божия и приписывает нематериальности души высокую степень вероятности, которую можно поэтому принять за моральную достоверность. Поэтому я думаю, что при его простосердечии и проницательности он мог бы согласиться с изложенным мной учением, имеющим первостепенное значение для всякой разумной философии. В противном случае я не вижу, как можно уберечься, чтобы не стать жертвой либо фанатической философии, какова, например, моисеева философия Фладда[18], спасающая все явления тем, что приписывает их непосредственно Богу при помощи чуда, либо варварской философии некоторых философов и врачей прошлого, которая носила еще на себе печать варварства того времени и которую теперь презирают с полным основанием, – философии, которая спасала явления тем, что выдумывала для них специально скрытые качества или способности, считавшиеся похожими на небольших демонов или домовых, способных выполнять беспрекословно все то, что от них требуют, вроде того как если бы карманные часы указывали время благодаря некоторой часопоказывающей способности, не нуждаясь ни в каких колесиках, или как если бы мельницы мололи зерна благодаря некоторой размалывающей способности, не нуждаясь в таких вещах, как жернова. Что касается указания на трудность для некоторых народов представить себе нематериальную субстанцию, то ее все-таки легко устранить (в значительной мере), перестав говорить о субстанциях, отделенных от материи, которые, по моему мнению, нигде и не существуют естественным образом среди сотворенных существ.
1
Имеется в виду «Опыт о человеческом разумении» (1690) Д. Локка; труд Лейбница создавался как ответ на это сочинение в 1703–1704 гг. – Здесь и далее примеч. ред.
2
Prolepseis – термин в теории познания стоиков, означавший «естественные» общие понятия. Некоторые стоики считали эти понятия врожденными.
3
Semina aeternitatis (лат.) – семена вечности. Zopyra (греч. ζωπυϱον) – догорающий огонь, жар, таящийся в пепле, из которого можно снова раздуть пламя.
4
Речь идет о диалоге Платона «Менон» (81b – 86b).
5
Речь идет о сочинении Р. Бойля «Dissertatio de intestinis motibus particularum solidorum quiescentium, in qua absoluta corporum quies in disquisitionem vocatur» (Genevae, 1680).
6
«Что есть, что было и что должно быть» (Вергилий. Георгики IV, 394).
7
Речь о статье «Рорарий» в «Историческом и критическом словаре» П. Бейля. Иероним Рорарий (1485–1556) – папский нунций при дворе Фердинанда Венгерского, автор сочинения (1547) о разуме животных; он считал, что звери лучше используют разум, чем люди.
8
Пневматикой вплоть до конца XVII в. называли науку о душе.
9
«Новости из республики ученых» – журнал, издавался П. Бейлем в Амстердаме в 1684–1687 гг.
10
Тем, что мало (греч.).
11
Метемпсихоз – переселение душ из одного существа в другое.
12
Под аверроистами подразумевается, видимо, Сигер Брабантский (ок. 1240–1284) и его последователи. Квиетисты (от лат. quies – покой) – мистико-аскетическое течение в католицизме; оно уповало на слияние человеческих душ с Богом посредством пассивного созерцания.
13
Имеется в виду Эдвард Стиллингфлит (1635–1699), который в трактате «Discource in vindication of the doctrine of the Trinity» (1696) обрушился с критикой на философию Локка; за этим последовала дискуссия между ними, длившаяся в течение двух лет.
14
Здесь и далее ссылки на сочинения Локка даются по изданию: Д. Локк. Избранные философские произведения в двух томах. М., 1960. В квадратных скобках вначале указан номер тома, а затем – страницы.
15
«Математические начала натуральной философии» (Philosophia naturalis principia mathematica); книга опубликована в 1687 г.
16
Сбудется все, возможность чего отрицал (лат.). – Овидий. Скорби (Скорбные элегии) I, VIII, 7.
17
Симон де ла Лубер (1642–1729) – писатель и путешественник, по возвращении из Сиама в Париж выпустил книгу «О сиамском королевстве» (1691).
18
Роберт Фладд (1574–1637) – английский врач, натурфилософ и мистик, выпустивший в свет в 1638 г. трактат «Philosophia moysaica in qua sapientia et scientia…».