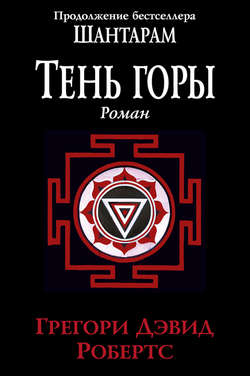Читать книгу Тень горы - Грегори Дэвид Робертс - Страница 15
Часть 2
Глава 12
ОглавлениеВернувшись домой, я обнаружил на кухонном столе записку от Лизы. Она меня не дождалась и уехала по разным делам с нашим общим другом Викрамом. Надеялась по возвращении застать меня дома.
Расслабившись впервые с того момента, когда меня взяли в оборот люди Вишну, я запер дверь и прислонился спиной к стене. Так я простоял недолго. Колени подогнулись, я сполз по стенке и остался сидеть на полу.
Было всего два часа пополудни, но с начала дня я уже успел изготовить три фальшивых паспорта, пережить похищение, пытки и последующий тяжелый разговор с мафиозным боссом.
Я знавал друзей, которые, оправившись после побоев, продолжали жить как ни в чем не бывало. У меня так никогда не получалось. На людях я мог сдерживаться и сохранять внешнее спокойствие, но стоило только остаться в одиночестве, за надежно запертой дверью, как эмоции лавиной прорывались наружу. В этот раз мне потребовалось немало времени на то, чтобы восстановить самоконтроль и унять мелкую дрожь в руках.
Я принял душ, потер лицо и шею мочалкой, смоченной сильным дезинфицирующим средством. Раны были чистыми, что немаловажно в тропическом климате, но они снова начали кровоточить. Залил их лосьоном после бритья. Возникшая при этом жгучая – до белых крупинок в глазах – боль побудила меня сделать заметку на будущее: когда наступит час расплаты с тонкоусым гаденышем Дандой, хорошо будет иметь под рукой такой же лосьон.
Кровоподтеки и рубцы были во всех местах, до которых добралась бамбуковая тросточка Данды. Точно такие же отметины я находил на своем теле во время заключения и видел на телах других зэков в тюремной душевой.
Я отвернулся от зеркала, заставляя себя думать о чем-нибудь другом, – еще один метод успокоения нервов, освоенный мною в тюрьме. А через двадцать минут я снова был на мотоцикле, одетый во все чистое: джинсы, туфли, красная майка и жилет с карманами.
Я направлялся в трущобы через новый район на берегу Колабской бухты. Эту территорию люди годами отвоевывали у моря – метр за метром, камень за камнем. Теперь она была застроена высокими зданиями из стекла и бетона, накрывавшими драгоценной тенью широкие, обсаженные деревьями улицы.
Это был дорогой и престижный район, с пятизвездочным отелем «Президент» на стыке улиц, подобным фигуре на носу корабля, глубоко врезавшегося в береговую полосу. Шеренги магазинчиков, протянувшихся вдоль трех главных бульваров, щеголяли свежей покраской. Во многих витринах и окнах виднелись цветы. Слуги, сновавшие между жилыми апартаментами и магазинами, были одеты в свои лучшие сари и отбеленные рубашки.
Но когда главная дорога свернула влево, а затем вправо, огибая комплекс Всемирного торгового центра, картина изменилась. Деревья на обочинах попадались все реже и наконец исчезли совсем. Тени отступали, пока последняя тень от высотки не осталась позади.
А впереди солнечный жар, пробиваясь сквозь тучи, накрывал пыльно-серое море трущоб, где низкие крыши катились к рваному горизонту подобно волнам, порожденным тревогами и страданием.
Я припарковался, достал из кофров медикаменты и бросил монетку одному из крутившихся поблизости сорванцов, чтобы он присмотрел за мотоциклом. Настоящей необходимости в этом не было. Здесь никто ничего не крал.
Как только я углубился в трущобы по широкой песчаной тропе, в ноздри ударила вонь от открытых уборных, побудив меня дышать ртом – и по возможности неглубоко. За этим случился первый позыв к рвоте.
Последствия побоев также давали о себе знать. Солнце. Раны. Жара была слишком сильной. Покачнувшись, я сошел с тропы. Еще один рвотный позыв – и я, сложившись пополам и уперев руки в колени, изверг на заросли сорняков все, что еще оставалось в желудке.
Именно этот момент выбрали дети трущоб, чтобы с приветственными криками высыпать ко мне из боковых проходов. Столпившись вокруг, пока я продолжал конвульсивно корчиться над сорняками, они начали дергать меня за рубашку и выкрикивать мое имя:
– Линбаба! Линбаба! Линбаба!
Оправившись, я позволил детям вести меня вглубь трущоб. Мы двигались по неровным дорожкам, петлявшим меж лачуг из листов пластмассы, плетеных ковриков и бамбуковых шестов. За восемь месяцев сухого сезона лачуги покрылись таким толстым слоем песка и пыли, что походили на дюны в пустыне.
В дверных проемах виднелись ряды блестящих кастрюль и сковородок, развешенные гирляндами изображения богов и гладкие, утоптанные земляные полы, свидетельствуя об аккуратности и упорядоченной жизни их обитателей.
Дети привели меня прямиком к дому Джонни Сигара, неподалеку от морского берега. Джонни, ныне являвшийся главным человеком в трущобах, родился и вырос на городских улицах. Его отцом был военный моряк, получивший временное назначение в Бомбей. Он бросил мать Джонни, когда узнал, что она забеременела, а вскоре покинул город на корабле, направлявшемся в Аден. С тех пор о нем не было никаких известий.
Отвергнутая своей семьей, мать Джонни перебралась в уличное поселение, построенное из пластиковых щитов вдоль тротуара близ Кроуфордского рынка. Джонни появился на свет среди шума, гама и суеты одного из крупнейших крытых рынков в Азии. С раннего утра до поздней ночи он слышал пронзительные вопли уличных торговцев и владельцев ларьков. Всю жизнь он провел на улицах или в тесноте трущоб и по-настоящему чувствовал себя в своей тарелке, только находясь среди шумной людской круговерти. В немногих случаях, когда я заставал его одиноко бродящим по берегу или сидящим за столиком чайной в период послеобеденного затишья, он выглядел каким-то потерянным, словно не знал, что делать, оказавшись наедине с собой. Зато в толпе он сразу становился центром всеобщего притяжения.
– Боже мой! – воскликнул он при виде моего лица. – Что с тобой приключилось, дружище?
– Это слишком долгая история. Как поживаешь, Джонни?
– Но, черт возьми, тебя же натурально измочалили!
Я нахмурился, и Джонни прекратил расспросы. Он хорошо меня изучил: мы полтора года прожили рядом в трущобах и с той поры оставались добрыми друзьями.
– О’кей, о’кей, баба. Присаживайся. Выпьем чаю. Сунил, неси чай! Фатафат![37]
Я сел на ящик из-под крупы, наблюдая за тем, как Джонни инструктирует группу молодых людей, которые занимались последними приготовлениями перед назревавшим ливнем.
Когда прежний глава трущобного сообщества решил вернуться в свою родную деревню, он назначил Джонни Сигара своим преемником. Некоторые сомневались в том, что Джонни подходит на эту роль, но любовь и доверие к уходящему главе перевесили их возражения.
Это была работа на общественных началах, не дававшая человеку никакой власти, кроме той, которой он располагал в силу своего авторитета. За два года на этом посту Джонни показал себя справедливым судьей при разрешении всевозможных конфликтов и достаточно сильным лидером, чтобы пробуждать в людях древний инстинкт: стремление к лучшему.
Со своей стороны Джонни получал удовольствие от лидерства, а в тех случаях, когда спор казался неразрешимым, прибегал к радикальной мере: объявлял в трущобах праздничный день и закатывал вечеринку.
Эта система отлично работала и пользовалась популярностью. Немало людей перебралось в эти трущобы только потому, что здесь чуть не каждую неделю устраивались славные гуляния, дабы решить миром очередной конфликт. Жители других бедняцких кварталов также обращались к Джонни с просьбами выступить судьей в их спорах. И понемногу из рожденного на улице мальчишки вырос всеми уважаемый мудрец, этакий трущобный Соломон.
– Арун! Идите с Дипаком на берег! – кричал он. – Там вчера обрушилась часть дамбы. Восстановите ее, и побыстрее! А ты, Раджу, возьми ребят и двигай к дому Бапу. Его соседки-старухи остались без крыши – проклятые коты разодрали клеенку. У Бапу есть лишние щиты, помогите ему закрепить их на крыше. Всем остальным – расчищать сточные канавы. Джалди![38]
Нам подали чай, и Джонни сел рядом со мной.
– Коты… – простонал он. – Можешь мне объяснить, зачем в этом мире существует кошачье племя?
– Отвечу одним словом: мыши. Коты управляются с ними за милую душу.
– Да, с этим не поспоришь… Кстати, ты разминулся с Лизой и Викрамом, они недавно были здесь. Лиза уже видела тебя с таким лицом?
– Нет.
– Черт побери, дружище, как бы ее удар не хватил, йаар. Ты выглядишь так, словно по тебе проехался грузовик.
– Спасибо на добром слове, Джонни.
– На здоровье, – ответил он. – Да и Викрам тоже выглядит неважнецки. Должно быть, у него проблемы со сном.
Я знал, отчего Викрам неважно выглядит. Но обсуждать это мне не хотелось.
– Когда начнется, как по-твоему? – спросил я, глядя на темные, насыщенные влагой тучи.
Всем своим телом, до кончиков волос, я чувствовал близость дождя, который, однако, никак не желал начинаться, – первый дождь, прекраснейшее дитя муссона.
– Я думал, он пойдет сегодня, – ответил он, прихлебывая чай. – Я был в этом уверен.
Я тоже попробовал чай. Он был очень сладким, с добавлением имбиря, который помогал переносить духоту, сверх меры давившую на всех нас в эти последние дни лета. Имбирь смягчил боль от рассечений в полости рта, и я облегченно вздохнул.
– Хороший чай, Джонни, – сказал я.
– Да, хороший чай, – согласился он.
– Это индийский пенициллин.
– Но… в этом чае нет пенициллина, баба, – возразил Джонни.
– Нет, я имел в виду…
– Мы никогда не кладем пенициллин в чай, – заявил он с оскорбленным видом.
– Я не о том, – сказал я и попытался объяснить, хотя по прежнему опыту знал, что такая попытка безнадежна. – Это намек на старую шутку про куриный бульон – его называют «еврейским пенициллином».
Джонни с подозрением принюхался к своему чаю:
– Ты и впрямь… ты учуял в нем запах курятины?
– Да нет же, это шутка такая. В детстве я жил в еврейском квартале нашего городка, его называли Маленьким Израилем. И эту шутку там повторяли часто. Якобы евреи считают куриный бульон лучшим средством от всех болезней и травм. Скрутило живот? Покушай куриного бульончика. Болит голова? Покушай куриного бульончика. Получил пулю в грудь? Покушай куриного бульончика. А в Индии чай играет ту же роль, что для евреев куриный бульон. Что бы с тобой ни случилось, тебе предлагают крепкий чай как лечебное средство. Понимаешь?
Озадаченное выражение на его лице сменилось полуулыбкой.
– Тут неподалеку есть один еврейский человек, – сказал он. – Живет в колонии парсов в Кафф-Парейде, хотя он сам не парс. Кажется, его зовут Исаак. Позвать его сюда?
– Да-да! – воскликнул я с преувеличенным энтузиазмом. – Найди и приведи еврейского человека немедленно!
Джонни поднялся со стула.
– Ты подождешь его здесь? – спросил он, готовясь уходить.
– Нет! – выдохнул я с отчаянием. – Я ведь просто шутил, Джонни. Это была шутка! Конечно же, я не хочу, чтобы ты тащил сюда еврейского человека.
– Мне это не составит труда, – заверил он, озадаченно переминаясь с ноги на ногу и пытаясь понять, нужен ли мне на самом деле этот еврейский человек Исаак.
– Так когда, ты считаешь, начнется? – сменил я тему, снова глядя вверх.
Джонни расслабился и также посмотрел на тучи, наползавшие со стороны моря.
– Я думал, дождь пойдет сегодня, – ответил он. – Я был в этом уверен.
– Ну, если не сегодня, то завтра уж наверняка, – сказал я. – Перейдем к нашим делам, Джонни?
– Джарур. – И он направился к низкому входу в свое жилище.
Я вошел туда следом, прикрыв за собой фанерную дверь. Хижина представляла собой каркас из бамбуковых шестов, к которым крепились тонкие соломенные циновки, а земляной пол покрывали разноцветные плитки, образуя мозаичную картину: павлин с распущенным хвостом на фоне цветов и деревьев.
Шкафы были под завязку набиты продуктами. Металлический платяной шкаф, недоступный для крыс, считался в трущобах очень ценным предметом мебели. На верху кухонного шкафчика, также металлического, стояла аудиосистема, работавшая от батареек. Главной гордостью жилища, безусловно, являлась трехмерная картина с изображением распятого Христа. Новые матрасы в цветочек были скатаны и убраны в угол.
Эти признаки относительной роскоши указывали на статус Джонни и на его финансовое благополучие. В качестве свадебного подарка я дал ему деньги на покупку небольшой квартиры в соседнем районе Нейви-Нагар, чтобы он стал законным владельцем жилья и смог избавиться от неопределенности и всяческих треволнений, связанных с нелегальным статусом.
Джонни поступил иначе. При содействии своей предприимчивой супруги Зиты, дочери владельца чайной, он использовал новую квартиру в качестве обеспечения по кредиту, а потом сдал ее в аренду на выгодных условиях. Кредит был потрачен на покупку трех лачуг, которые он также сдавал в аренду по рыночной цене, а сам жил припеваючи в том же самом трущобном проулке, где мы с ним когда-то познакомились.
Джонни начал перекладывать разные предметы, освобождая мне место для сидения, но я его остановил:
– Спасибо, брат. Спасибо, но у меня нет времени. Надо найти Лизу. Я сегодня весь день оказываюсь на шаг позади нее.
– Лин, брат мой, ты всегда на шаг позади этой девушки.
– Наверно, ты прав. Вот, держи.
Я вручил ему сумку с медикаментами, ранее переданную мне Лизой, а также – от себя лично – свернутые в тугой рулон и перехваченные резинкой купюры. Этих денег должно было с лихвой хватить на двухмесячное содержание пары молодых фельдшеров, работавших в бесплатной трущобной клинике. Излишек предназначался для покупки новых бинтов и лекарств.
– Есть еще просьбы? – спросил я.
– Ну, вообще-то… – неуверенно начал он.
– Выкладывай.
– Анджали, дочка Дилипа, сдала экзамены.
– Что ж, она способная девочка. И каков результат?
– Самый лучший. Причем лучший не только в ее классе, но и во всем штате Махараштра.
– Это же здорово!
Я знавал Анджали еще двенадцатилетней девчонкой, когда она временами помогала мне в клинике. Уже в том возрасте она выказывала феноменальную память и коммуникабельность: держала в голове имена всех наших пациентов – а это сотни людей – и с каждым из них подружилась. Впоследствии, периодически посещая трущобы, я видел, как она растет и как быстро всему учится.
– Но одного только ума недостаточно для успеха здесь, в Индии, – вздохнул Джонни. – Секретарь в университете требует бакшиш, двадцать тысяч рупий.
Он произнес это просто, без раздражения. Таковы были обстоятельства жизни, точно так же как снижающиеся уловы местных рыбаков или постоянно растущее число машин и мотоциклов на когда-то спокойных улицах.
– Сколько у вас есть?
– Пятнадцать тысяч, – сказал он. – Мы собирали деньги всем миром, от разных каст и религий. Лично я дал пять тысяч.
Это был существенный вклад. Я знал, что Джонни не получит эти деньги обратно раньше чем через три года.
Я вытащил из кармана рулон долларов. В ту пору бешеного спроса на валюту я всегда имел при себе наличные как минимум пяти стран: немецкие марки, швейцарские франки, фунты стерлингов, доллары и риалы. На сей раз в рулоне было триста пятьдесят баксов. По курсу черного рынка их как раз хватало, чтобы покрыть недостачу в «университетской взятке» для Анджали.
– Лин, а ты не думаешь… – начал Джонни, рассеянно похлопывая купюрами по своей ладони.
– Нет.
– Я знаю твои правила, Линбаба, но это нехорошо: давать деньги, не сообщая об этом людям. Они должны знать, кто им помогает. Я, конечно, понимаю, что анонимный дар, без похвалы и благодарности, вдесятеро ценнее в глазах Бога. Однако Бог – да простит Он меня за мое ничтожное мнение – не всегда спешит отблагодарить человека за доброе дело.
Джонни Сигар был примерно одного роста и веса со мной, и в его манере держаться присутствовал некий вызов, что характерно для человека, частенько и основательно ставящего на место глупцов. С вытянутым, всегда серьезным лицом и седой щетиной на подбородке, он выглядел несколько старше своих тридцати пяти лет. Песочного цвета глаза глядели на мир вдумчиво и настороженно.
Он был заядлым читателем, особенно налегая на труды по нравственному совершенствованию. Каждую неделю он поглощал как минимум одну такую книгу, которую затем безуспешно навязывал друзьям и соседям.
Я им искренне восхищался. Джонни был одним из тех людей – из тех друзей, – сам факт знакомства с которыми возвышает тебя в собственных глазах. Странно и нелепо, но что-то мешало мне прямо сказать ему об этом. Я не раз хотел это сделать. Бывало, уже начинал, но так и не смог произнести нужные слова.
Мое сердце изгоя в то время было полно сомнений, неуверенности и скептицизма. Я всей душой привязался к Кадербхаю, но тот использовал меня как пешку в своей игре. Я отдал свое сердце Карле, единственной женщине, которую по-настоящему любил, но та воспользовалась этой любовью, чтобы втянуть меня в орбиту влияния того же Кадербхая, которого она, как и я, называла отцом. Я провел два года на улицах этого города и видел, как он превращается в цирк под открытым небом, где богачи порой унижаются перед нищими, а преступление подлаживается под наказание. Душой я был старше, чем следовало, и слишком отдалился от людей, меня любивших. Лишь очень немногих я подпустил к себе близко, но и с ними никогда не мог быть столь же открытым, какими они бывали со мной. Я не привязывался к ним так сильно, как они ко мне, потому что знал: рано или поздно мне придется их покинуть.
– Не будем об этом, Джонни, – сказал я негромко.
Он снова вздохнул, спрятал деньги в карман и вместе со мной вышел наружу.
– А почему еврейские люди кладут пенициллин в свой куриный бульон? – спросил он, разглядывая тучи.
– Это была шутка, Джонни.
– Я к тому, что эти еврейские люди чертовски умны, йаар. Если они кладут пенициллин в куриный бульон, у них для этого должна быть очень важная…
– Джонни, – прервал я его, – я тебя люблю.
– И я тебя люблю, дружище, – сказал он, ухмыляясь. И обнял меня так крепко, что заныли свежие раны на плечах и руках.
Покидая трущобы, я все еще чувствовал силу его объятий и запах кокосового масла от его волос. Тяжелые тучи накрыли преждевременной вечерней тенью усталые лица рыбаков и прачек, возвращавшихся домой после трудового дня. Но белки их глаз излучали мягкий золотисто-розовый свет, когда они мне улыбались. А улыбались при встрече все без исключения, каждый из них, и капли пота на их лбах сверкали, подобно драгоценным коронам.
37
Мигом! (хинди)
38
Быстро! (хинди)