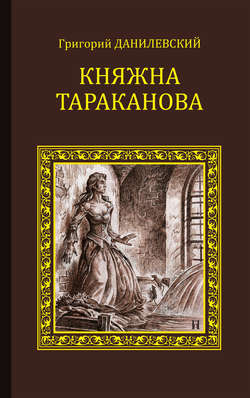Читать книгу Княжна Тараканова (сборник) - Григорий Данилевский, Николай Данилевский, Григорий Петрович Данилевский - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Княжна Тараканова
Часть вторая. Алексеевский равелин
XXIV
ОглавлениеМир с Турцией был торжественно отпразднован в Москве тринадцатого июля.
При этом вспомнили Голицына и прислали ему в Петербург за очищение Молдавии от турок брильянтовую шпагу. Орлов получил похвальную грамоту, столовый богатый сервиз, императорскую дачу близ Петербурга и прозвание Чесменского.
«Сдан в архив, окончательно сдан!» – мыслил при этом Алексей Григорьевич. В Петербург, вслед за двором, его уже, действительно, не пустили. С тех пор ему было указано местожительство в Москве, в числе других поселившихся там первых пособников императрицы.
Отрадно и безмятежно, казалось, потекли с этого времени дни Чесменского на вольном московском покое. Домочадцы графа, между тем, подмечали, что порой на него находили припадки нешуточной острой хандры, что он нередко совершенно невзначай служил то панихиды, то молебны с акафистами, прибегал к гадальщикам-цыганам и втихомолку брюзжал, как бы жалуясь на изменницу, некогда так его баловавшую судьбу.
Ехал ли граф Алехан в морозный ясный вечер по улице, из-под осыпанной инеем шапки вглядываясь в прохожих и в мерный бег своего легконогого рысака, его мысли уносились к иным теплым небесам, к голубым прибрежьям Мореи и Адриатики, к мраморным венецианским и римским дворцам.
Моросил ли мелкий осенний дождь и была чудная охота по чернотропу, граф, в окрестностях Отрады или Нескучного, подняв в березовом срубе матерого беляка и спуская на него любимых борзых, бешено скакал за ним на кабардинце, но мгновенно останавливался. Дождь продолжал шелестеть в мокром березняке, конь шлепал по лужам и глине, а граф думал о другом, о далекой той же Италии, о Риме, Ливорно и сманенной, погубленной им Таракановой.
«Где она и что сталось с нею? – рассуждал он. – Жива ли она после родов, там ли еще, или ее куда вновь упрятали?»
С падением фавора брата, князя Григория, граф Алексей Чесменский так быстро отдалился от двора, что не только положительно не знал, но и не смел допытываться о дальнейшей судьбе соблазненной им и похищенной красавицы.
Осенью того же года в Москве кем-то был пущен слух, будто из Петербурга в Новоспасский женский монастырь привезли некую таинственную особу, что ее здесь постригли и, дав ей имя Досифеи, поместили в особой, никому не доступной келье. Москвичи тихомолком шушукались, что инокиня Досифея – незаконная дочь покойной царицы Елисаветы и ее мужа в тайном браке, Разумовского.
Что перечувствовал при этих толках граф Алексей, о том знали только его собственные помыслы. «Она, она! – говорил он себе, в волнении, не зная, что жертва, княжна Тараканова, по-прежнему безнадежно томится в той же крепости. – Некому быть, как не ей; отреклась от всего, покорилась, приняла постриг…»
Мысли о новоприбывшей пленнице не покидали графа. Они так его смущали, что он даже стал избегать езды по улице, где был Новоспасский монастырь, а когда не мог его миновать и ехал возле, то отворачивался от его окон.
«Предатель, убийца!» – раздавалось в его ушах при воспоминании о последней встрече с княжной в крепости. И он мучительно перебирал в уме это свидание, когда она осыпала его проклятиями, топая на него, плюя ему в лицо и бешено швыряя в него чем попало.
Чесменский вздумал было однажды разговориться о ней с московским главнокомандующим, князем Волконским, заехавшим к нему запросто – полюбоваться его конюшнями и лошадьми. Они возвратились с прогулки на конский двор и сидели за вечерним чаем. Граф-хозяин начал издалека – о заграничных и родных вестях и толках и, будто мимоходом, осведомился, что за особа, которую, по слухам, привезли в Новоспасский монастырь.
– Да вы, граф, куда это клоните? – вдруг перебил его князь Михаил Никитич.
– А что? – спросил озадаченный Чесменский.
– Ничего, – ответил Волконский, отвернувшись и как бы рассеянно глядя в окно, – вспомнилась, видите ли, одна прошлогодняя питерская оказия о дворе…
– Какая оказия? Удостойте, батюшка князь?! – с улыбкой и поклоном произнес граф. – Ведь я недавний ваш гость и многого не знаю из новых, столь любопытных и ныне нам не доступных, дворских палестин.
– Извольте, – начал Волконский, покашливая и по-прежнему глядя в окно, – дело, если хотите, не важное, и скорее забавное… Генерал-майоршу Кожину знаете?.. Марья Дмитриевна… бойкая такая, красивая и говорунья?
– Как не знать! Часто ее видел до отъезда в чужие края.
– Ну-с, сболтнула она, говорят, где-то будто бы такие-то, положим, Аболешевы там, или не помню кто, решили покровительствовать новому счастливцу, Петру Мордвинову… тоже, верно, знаете?
Орлов молча кивнул головой.
– Покровительствовать… Ну, понимаете, чтоб подставить ногу…
– Кому? – спросил Орлов.
– Да будто самому, батюшка, Григорию Александровичу Потемкину.
– И что же?
– А вот что, – проговорил главнокомандующий, – в собственные покои немедленно был позван Степан Иванович Шешковский и ему сказано: «Езжай, батюшка, сию минуту в маскарад и найди там генеральшу Кожину; а найдя, возьми ее в тайную экспедицию, слегка там на память телесно отстегай и потом, туда же, в маскарад, оную барыньку с благопристойностью и доставь обратно».
– И Шешковский? – спросил Орлов.
– Взял барыньку, исправно посек и опять, как велено, доставил в маскарад; а она, чтобы не заметили бывшего с нею случая, промолчала и преисправно кончила все танцы, на кои была звана, все до одного – и менуэт, и монимаску, и котильон.
Орлов понял горечь намека и с тех пор о Досифее более не расспрашивал.
Не радовали графа и беседы с его управляющим Терентьичем Кабановым, наезжавшим в Нескучное из Хренового. Терентьич был из грамотных крепостных и являлся одетый по моде, в «перленевый» кафтан и камзол, в «просметальные» башмаки с оловянными пряжками, в манжеты и с черным шелковым кошельком на пучке пудреной косы.
Граф наливал ему чарку заморского, дорогого вина, говоря:
– Попробуй, братец, не вино… я тебе человечьего веку рюмочку налил…
Терентьич отказывался.
– Полно, милый! – угощал граф. – Ужли забыл поговорку: день мой – век мой? Веселись, в том только и счастье… да, увы, не для всех.
– Верно, батюшка граф! – говорил Кабанов, выпивая предлагаемую чарку. – Мы что? Рабы… Но вам ли воздыхать, не жить в сладости-холе, в собственных, распрекрасных вотчинах? Места в них сухие и веселые, поля скатистые, хлебородные, воды ключевые, лесов и рощ тьма, крестьяне все хлебопашцы, не бобыли, благодаря вашей милости. Вы же, сударь, что-то как бы скучны, а слыхом слыхать, иногда даже сумнительны.
– Сумнительств и подозрениев, братец, на веку не обраться! – отвечал граф. – Вот ты прошлую осень писал за море, хвалил всходы и каков был рост всякого злака; а что вышло? Сказано: не по рости, а по зерни.
– Верно говорить изволите, – отвечал, вздыхая, Терентьич.
– Вот хоть бы и о прочих делах, – продолжал граф. – Много у меня всякого разъезду и ко мне приезду; а веришь ли, ничего, как прежде, не знаю. Был Филя в силе, все в други к нему валили… а теперь…
Граф смолкал и задумывался.
«Ишь ты, – мыслил, глядя на него, Кабанов, – при этакой силе и богатстве – обходят».
– Да, братец, – говорил Орлов. – Тяжкие пришли времена, разом попал промеж двух жерновов; служба кончена, более в ней не нуждаются, а дома… скука…
– Золото, граф, огнем искушается, – отвечал Терентьич, – человек – напастями. И не вспыхнуть дровам без подтопки… а я вам подтопочку могу подыскать…
– Какую?
– Женитесь, ваше сиятельство.
– Ну, это ты, Кабанов, ври другим, а не мне, – отвечал Чесменский, вспоминая недавний совет о том же предмете Концова.