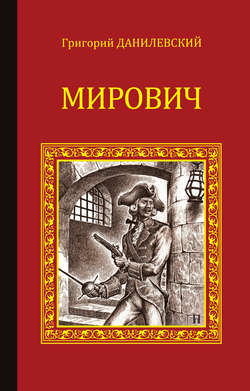Читать книгу Мирович - Григорий Данилевский, Николай Данилевский, Григорий Петрович Данилевский - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая. Царственный узник
II. Прошлое Мировича
ОглавлениеПредок Мировича во время казни гетмана Остраницы был в Варшаве, с другими пленными казацкими сотниками, прибит гвоздями к осмоленным доскам и сожжен медленным огнем.
Его прадед, Иван Мирович, переяславский полковник, был бешеной храбрости человек. Гетман Мазепа выдал за него, вторым браком, выписанную из Польши свою сестру, Янелю. Разгромив татар у Перекопа и Очакова, Иван Мирович возил в Москву пленников и пушки и, возвратясь оттуда со щедрыми подарками, начал строить каменный переяславский Покровский собор, но вскоре скончался. Здесь, по его заказу, на большом запрестольном образе, весьма схоже, был изображен Петр I, возле него гетман Мазепа и духовенство, поодаль придворные дамы, народ и казацкое войско, а над всеми, в облаках, покров эллинской Божьей Матери. У этой еще не оконченной церкви, по преданию, гетман Мазепа, поскользнувшись, упал с конем.
– Не к добру, – сказал народ и вспомнил это после Полтавского боя.
Сын Ивана от первого брака, Федор Мирович, был генеральным есаулом Орлика. Посланный вельможным дядей-гетманом в Польшу, под команду Паткуля, завзятый рубака, Федор Мирович не вынес «муштры» немца, бившего казаков палками, и возвратился с данным ему полком в Украйну. Мазепа отплатил племяннику. В 1706 г. огромные силы шведов осадили Мировича в Ляховичах. Мазепа, сославшись на половодье, не доставил ему помощи. Брошенный своими, теснимый врагом, полковник Федор Мирович сдался с отрядом и был увезен в цепях в Стокгольм. Церковь в Переяславле, заложенную его отцом, достроила впоследствии его жена, племянница гетмана Самойловича, Пелагея Захаровна, урожденная Голубина. Освободившись из плена, Федор Мирович жил некоторое время в Турции, потом в Варшаве у Вишневецкого, где и умер. За сношения Федора Иваныча с угнетенной родиной Петр I сослал его жену и сыновей в Сибирь и отобрал в казну имения не только виноватого перед ним Федора Мировича, но и ни в чем неповинной его жены.
Юных сыновей Федора Иваныча государь спустя некоторое время помиловал. Мировичей отпустили из Сибири в Чернигов, к их дяде, знаменитому Павлу Полуботку, который в 1723 году отвез их в Петербург и поместил, для прохождения наук, в академическую гимназию. Здесь они были недолго. Полуботок кончил жизнь в крепости, племянники остались без средств и от бедности бросили науку. Старший из них, Петр, получил место секретаря при дворе великой княжны Елисаветы Петровны; младшего, Якова, взял к себе из милости польский посланник, граф Потоцкий, с которым тот побывал и в Польше. Но было вскоре перехвачено письмо Петра Мировича в Варшаву к отцу, с копией указа о Полуботке и с известием о притеснениях малороссийского народа. Братьев опять арестовали и перевезли в Москву, потом в 1732 году снова выслали, под видом боярских детей, в Сибирь, где Петр Мирович дослужился до места управителя заводской Исетской конторы, а впоследствии даже был назначен воеводой Енисейской провинции.
Во время коронации Елисаветы в Москве бывший еще недавно певчий цесаревны, Алешка, теперь же всесильный и вельможный граф Алексей Григорьевич Разумовский, напомнил императрице о судьбе своих забытых земляков, Мировичей. Государыня лично в сенате, в 1742 году, объявила именной указ, которым обоим братьям Мировичам, после вторичной десятилетней ссылки в Сибирь, даровалось прощение и предоставлялось служить, где они захотят. Они пожелали докончить век на покое, на родине, куда, после некоторого пребывания в Москве, и переехали.
Старая «Мировичка», мать Петра и Якова Федорычей, Пелагея Захаровна, была отпущена из Сибири в Малороссию двумя годами позже сыновей. Тщетно она подавала из ссылки и из Малороссии прошения царицам Анне и Елисавете, умоляя их о возвращении ей если не мужниных, то хотя бы части ее собственных приданных и благоприобретенных имений. На все ее прошения были получены отказы. Некогда вельможная пани есаульша, родня по мужу Полуботкам, Мокиевским, Забелло и Ломиковским и жена гетманского племянника, Пелагея Захаровна умерла по возвращении на родину в бедности. Богатая и знатная, также ограбленная ее родня не туда смотрела, сыновья пособлять не могли, а что получала она от немногих старых друзей, употребляла на доделки не оконченного свекром и мужем собора.
Отставной енисейский воевода, Петр Федорыч Мирович, был нрава буйного, заносчивого и дикого. В Сибири он, между прочим, был одно время под следствием за то, что в качестве управителя Енисейской провинции явился в воеводскую канцелярию в халате и в колпаке и там перед зерцалом обругал первостатейных купцов самыми непотребными словами. Следователи, впрочем, его оправдали. Возвратясь из Сибири в Москву, а потом на родину, он не укротил своего нрава. Будучи беден и горд и доживая век где-то в глухом местечке, на небольшом пособии от какого-то соседнего магната, он никому не уступал и умер от запоя, изрубив перед кончиной полицейского офицера за то, что тот перед ним не снял шляпы.
Брат Петра, Яков Мирович, был нрава кроткого и тихого, притом с детства слабый здоровьем. Наука ему плохо далась. Петербурга, где он некоторое время был в академической гимназии, как и нахождения у Потоцкого, он почти не помнил. Во время первой ссылки, в Тобольске, он обучался в школе у некоего «несчастливца» Сильвестровича, который хорошо играл на скрипице, но по-русски почти не говорил. Женившись на небогатой купеческой дочке Акишевой, во время пребывания в Москве, Яков Федорыч, при жизни матери и брата, кое-как еще содержал семью. По смерти же их он впал в окончательную нищету, овдовел, огрубел и, одичав от бедности, уж мало чем отличался от любого простолюдина-батрака: ходил в сермяге и в дегтярных сапогах и нанимался у соседей-помещиков то в ключники, то в объездные, торговал некоторое время водкой, гонял на продажу гурты скота, а состарившись и не видя себе ни в чем удачи и успеха, сел у хуторянина – кума Данилы Майстрюка, в лесу на пасеке, глядеть пчел. Кум Данило держал от какого-то графа на аренде клочок той самой земли, которая была отнята у отца Мировича.
– Тут и умру! – сказал себе Яков Федорыч, сидя у старого омшаника, в заповедной, медвяной яворщине кума. – Сложу здесь кости! Земля все-таки наша…
– А сын? А дочери? – спрашивал себя старик.
У Якова Федорыча Мировича от рано умершей и такой же, как он, плохой здоровьем жены остались четверо детей: три дочери, Прасковья, Аграфена и Александра, и сын Василий. Дочек разобрали по рукам добрые люди. Мальчик подрастал при отце.
Зимой Вася учился на хуторе у дьячка, летом помогал отцу у пчел, носил ему в лес обедать и ужинать, плел корзинки, строгал бабам ложки и веретена, играл на дудке и торбане. Кто-то забросил в реку серого щенка; Вася с плачем кинулся, чуть не утонул, но успел его спасти и вырастил.
Раз услыхал отец, как его десятилетний Василь в церкви поет и читает Апостола, и задумался.
«Нет, ему жить не в лесу, не на селе! – сказал себе Яков Федорыч. – Другим удается – попытаюсь и я о нем! Все же он дворянской крови… Предки знатные были и не под тыном валялись… А царица Лизавета Петровна до Украйны милостей своих еще не замуровала в стену…»
Думал он долго и решился наконец устроить судьбу сына.
Это случилось восемь лет назад, а именно в 1754 году.
Был жаркий летний день.
Из Малороссии в Петербург, на паре волов и на простом мужицком возу, приехал путник – высокий, костлявый, лет за пятьдесят. Он был в долгополой черной свите и в серой барашковой шапке. Сам сед, а черные глаза, как угли, светились из-под насупленных бровей. На возу у него сидел мальчик, лет тринадцати с небольшим. У воза шла серая лохматая собака. Ехали они проселками, продовольствовали волов на подножном корму, сами питались сухарями. Отправились из дому в середине апреля, прибыли в Петербург в начале июня. В дороге, следовательно, находились почти два месяца. То были Яков Федорыч Мирович и его сын Василий.
Остановились они на отдых на обширном, поросшем густою зеленою травой, Адмиралтейском лугу (нынешняя Исаакиевская площадь с новым садом). Выпрягли волов, умылись в Неве, Богу помолились и закусили. Мальчик, болтая босыми ногами в реке, приметил под бастионами крепости (на месте нынешнего Адмиралтейского бульвара) стадо пасшихся на траве придворных коров и подогнал к ним своих круторогих. Старик вынул из-за пазухи бумагу, долго думал над ней, сунул ее опять на место и, с кнутом в руке, пошел кого-то отыскивать по Невской першпективе.
Мальчик тем временем вышел с собакой на площадь и стал разглядывать город. Все его занимало: красота и обширность зданий, пушки на бастионах, шум уличной езды и суета рабочих, с криками и песнями выгружавших в то время с канала, у нынешней разводной дворцовой площадки, последний камень, кирпич, громадные бревна и доски для постройки тогда заложенного Растреллием нынешнего Зимнего дворца. Залюбовался мальчик и золотыми, ярко горевшими на солнце, шпицами Адмиралтейства, Петропавловского собора и прежней Исаакиевской церкви, стоявшей близ того места, где теперь памятник Петру. Обернулся мальчик назад; перед ним, в бесконечную даль, тянулась, вся в яркой зелени густых, в четыре ряда, высоких лип, Невская першпектива. А по ней шли нарядные господа, скакали верхом военные, мчались цугом раззолоченные кареты.
Яков Федорыч, со словами: «А будьте ласковы, скажите, где тут?» – снимал шапку чуть не перед каждым прохожим. Все дивились на него, на его речь, одежду и на почернелое от зноя, с седыми усами, лицо. Прохожие пожимали плечами и шли далее. Горожанам было не до него; да украинца редко кто и понимал.
Понял и выслушал Якова Федорыча случайно встреченный им у тогдашнего деревянного Аничкова моста некий важный и с виду гордый человек. С двойным подбородком и объемистым животом, этот господин, отдуваясь и еле передвигая ноги, шел в вощанковой зеленой шляпе, в голубом камзоле и в красных башмаках.
День был душный. Незнакомец, несмотря на свой наряд, нес с живейного рынка, бывшего за мостом, на Литейной, в одной руке – пук зелени, а в другой – пару перевернутых вверх ногами живых каплунов. Мирович с поклонами передал и ему, в чем дело. Пузан оказался его земляком.
– Так тебе, землячок, графа Разумовского? – сказал он, поморщившись и крякнув.
– Его ж, его ж… Розума нашего и кормильца!..
– Квартирует он в самом царском дворце, а с месяц, за переделками там, вот где проживает! – гордо ткнул пучком зелени важный господин, указывая, через поросший травой берег Фонтанки, на жестяные куполы Аничкова дворца. – То будет его хижина… Царица ему подаровала… Что, хорошо?
– Фить-фить! – засвистал удивленно старый Мирович. – А вы ж, ваше сиятельство, чем будете? И как вас титуловать?
– Кофи-шёнком у графа! – еще важнее пыхнул сквозь зубы толстяк. – И я тебе, землячок, подозволь, так и быть, в чем нужно, помогу…
– Как же это кофи-шенк? В каком будет ранге?
– А то же, почитай, что гоф-диннер, – пускал пыли в глаза толстяк, – мало чем меньше тафельдекера, а то и больше того…
Мирович снял шапку и уж ее не надевал.
Земляк привел его к Аничкову саду, занимавшему в то время все место, где теперь площадь с Александринским театром, памятником Екатерины и Публичной библиотекой. Они обогнули этот сад со стороны Гостиного Двора и от заводей Фонтанки и Чернышовских прудов, бывших на месте нынешних министерств народного просвещения и внутренних дел, подошли к небольшой садовой калитке. Вожатый, на расставанье, дал Мировичу несколько наставлений и обещал, если понадобится, пристроить его на квартире.
– Вот, малый, крыльцо, – указал он в калитку на один из летних павильонов дворца, – ступай прямо туда… Из прихожей будет тебе, братец, светличка – в ней граф завел теперь принимать просителей… Там, коли не опоздал сегодня, и дожидайся…
Мирович, тенистыми, пахучими аллеями, прошел к указанному павильону, заглянул в прихожую – ни души; заглянул в приемную – тоже никого; постоял у порога, раза два кашлянул и, как был, в черной свите и смазанных дегтем сапогах, поджав ноги, присел на голубую, штофную, с золотыми точеными ножками софу.
Долго он дожидался. Никто не приходил и не подавал голоса. Прием, очевидно, кончился. Но, раз попав так легко к высокому графу, о котором он, как о благодетеле своей семьи, столько наслышался и про которого такая слава и такой говор стояли на родине, – Мирович решился, во что бы то ни стало, ждать.
«А как выгонят?.. Ну, дворянина, пожалуй, и не посмеют…»
В комнате было еще жарче, чем на дворе.
Мухи то и дело садились на потное, обросшее за дорогу, лицо украинца. Мирович то дремал от усталости, то, с досадой и бранью отмахиваясь от мух, ловил их на лету и давил. Одна особенно назойливо и долго приставала к нему. Он ее согнал с шеи – она укусила его за щеку и пересела ему на колено.
Стиснув зубы, он прицелился на нее, хлопнул по ноге, но промахнулся: муха увильнула, посновала по комнате и опустилась на большую японскую вазу. Задремал в тишине Мирович.
Солнечные лучи, врываясь сквозь ветви тихо трепетавших лип, яркими, извилистыми просветами играли по паркету, бронзе и зеркалам. Муха опять села на щеку Мировича, жужжа и путаясь в усах, укусила его и вновь улетела на вазу.
– А, каторжная! – проворчал Мирович. – Постой же! Шкода! Теперь не уйдешь!
Он встал и тихо, на цыпочках, начал подкрадываться к обидчице; изловчился, размахнулся, но муха снова мимо, а ваза с громом рухнула с поставца и разлетелась вдребезги.
Резная лаковая дверка отворилась в углу комнаты. За нею показалась пола бархатного вишневого халата, звезда на лацкане и румяное, удивленное, а вместе смеющееся лицо: густые черные брови, карие, с поволокой и краснинкой, глаза и вздрагивавшие от позывов к смеху, крупные и влажные, добрые губы…
– А що, земляче, пиймав? – раздался голос пышущего здоровьем, сорокалетнего вельможи, узнавшего в госте земляка.
Яков Федорыч упал перед ним на колени. Граф Алексей Григорьевич Разумовский милостиво ободрил растерявшегося просителя, ласково ввел его в свой кабинет, усадил в кресло и стал расспрашивать, кто он и как сюда попал?
– Знаю, знаю, сердце… Но неужто на волах? – спросил, удивленно подняв брови, Разумовский. – Не шутишь? Так-таки, голубе сизый, на воликах, да еще, может, и на серых?..
– На сирых, ваша графская светлость, на сирых…
– И погоныча, хлопчика, верно взял?
– Сына… подросточка…
– Давай же его, голубоньку, сюда, может, и песни играет? Где он?
– На лугу, у нового дворца, скотину с собакою пасет.
– Как? Где?..
Мирович объяснил. Граф окончательно покатился со смеху…
– Вот так придумал! – бархатным певучим горлом выводил Разумовский. – Кто ж тебя ко мне направил?
Мирович рассказал о своей встрече с кофи-шенком графа, который и на квартире, у тещи своей, обещал его пристроить.
– Какой кофи-шенк? И что ты, диду, городишь? – опять зашевелил поднятыми бровями граф. – Земляк? И толстый? А!.. Так вот оно кто… Юрченко Абрашка! Ну, назвался же, собачий сын, каким титулом… А он у меня за подручного в поварне на людской… Кофи-шенком же, друже, у меня француз Бриошь, и такая, скажу тебе, шельма искусная да гордая, что Абрашку еще за вихры отдубасит, как узнает о его самозванстве… Так, так, он самый и есть! И у его тещи, Бавыкинши, свой дом на Острову… И отлично…
Разумовский позвонил.
– Езжай же ты, сердце, к ней, – сказал он, – а завтра в эту же пору – или нет, постой, – лучше к вечеру, – будь ты опять у меня, да непременно с сыном и на волах… Тогда и о деле твоем потолкуем. А теперь некогда – еду во дворец.
За стеной послышалась суета. Поспешно вошел разодетый в золотую ливрею слуга, за ним – другой.
– Торох, торох, посыпался горох!.. Эка, пентюхи… Вы спите там, – сказал Разумовский, – а тут, чтоб черт так и эдак побил вашего батька, добрый человек дожидается… Позвать повара Абрашку.
Вошел Абрам. Мирович глазам своим не верил: куда делась важность мнимого кофи-шенка, – и живот осунулся, и куда-то в камзол спрятался двойной, вспотевший подбородок.
– Не пьян сегодня? – спросил, строго хмуря брови, граф. – Ну, и отлично! Редко с вами, архибестии, бывает… Так вот же что… Бери ты, Абрашка, вот сего сизого голубя к своей теще на постой, да береги его, слышишь, пуще глазу… Угости там, успокой и покажи ему и его хлопцу столицу… А это ему пока на расход.
Граф бросил повару кошелек.
На другой день государыня Елисавета Петровна пила у графа, в Аничковом саду, вечерний чай. Прибыла она из Летнего дворца, где теперь Инженерный замок, на катере с гребцами и с роговою музыкою. Катер въехал из Фонтанки прямо в пруд, бывший тогда среди Аничкова двора.
Государыне в саду графом были представлены Яков Федорыч и его сын Василий. Мальчик играл императрице на торбане, пел «Горлицу», «Гриця», плясал «трепака» и декламировал хвалебный, в честь царицы сложенный в то время киевскими бурсаками, кант. Государыня прослезилась. Но спустя недели три, когда ей от сената доставили справку о том, за что ее покойный родитель отобрал в казну имения Мировичей, она не нашла возможным исполнить просьбу Якова Федорыча.
– Чудасия, мосыпане, да и полно! – воскликнул, топорща брови, не успевший в своей протекции Разумовский. – Не все, братику, по-нашему! – Пивень каже куд-кудак, а курочка – не так! Но дело твое, не унывай, еще выгорит… Докажи, чуешь, что в отобранных у вас поместьях были родовые, собственные маетности твоей матери. А без того – чтоб им болячка – не можно… убей бог, не можно… Посуди… сенат в твою пользу не доложит… Сказано: москали! Лыком вязано, в лыках ходит, под лыком спит… Видишь, сердце, какие у них прицепки да щупы на три аршина, собаки, под землей щупают. Нельзя… финанции, казенный интерес!..
Слезы прошибли Мировича. Он не ожидал отказа и неуспеха, когда добился свидания не только с графом, но и с царицей, подбирал, что бы еще сказать, и не находил слов.
– А о хлопчике твоем, о сыне, и не думай! – сказал тронутый его горем граф. – Государыня, до его великовозрастия, возьмет его под свою опеку и милость. И такой-сякой я буду, слышишь, коли вру! Наплюй тогда в глаза… Завтра же велит его записать в кадеты, в шляхетный здешний корпус, – бо он у тебя, братику, все-таки дворянин, нельзя! Э! Того нельзя!.. Да еще вон какой до черта письменный… стихи важно дует – и дискант преизрядный… Без камертона, сразу верхние ноты, собачий сын, берет… «Горлицу», «Не ходи, Грицю» как отчекрыжил!.. Херувимскую московскую тоже вон знатно спел, без ошибок; да, полагаю, и по придворному, концертному, скоро насобачится… А волов своего кума, сердце, знаешь, лучше оставь тут – продай их хоть и мне… Славные волы! И жалко их, диду, опять гнать бес его знает и куда… Я бы, слышишь, послал их на дачу тут свою, в Гостилицы… У меня, сердце, там дворец; а какие луга! Нехай бы ходили, шановались да радовались по паше… Гей, гей, родина, хуторы наши, раздолье… Эхма! А впрочем, как знаешь. Брат Кирило в Батурин новоманерную мебель посылает себе на днях в гетманский дворец… Так и ты бы, может, поехал с его хлопцами…
Яков Федорыч поблагодарил, но, пристроив сына в корпус, поехал с лохматым Серком домой на волах.
По возвращении на родину старик протянул недолго: простудился осенью на пасеке и умер. Об этом написали молодому Мировичу сестры, жившие по людям в Москве. Зять Бавыкиной, Юрченко, потеряв от преждевременных родов жену, запил с горя на графской кухне и также в том году скончался.
Настасья Филатовна, на своем сиротстве, незаметно и крепко привязалась к Васе Мировичу; брала неуклюжего и на первых порах медведеобразного, а потом резвого и шустрого, миловидного кадетика к себе по праздникам, ласкала его, журила и нянчила, как родного. Из кадетика вышел вскоре кадет, из тощего заморыша-мальчонки – рослый и полный здоровья юноша, который не знал, куда деть вытянувшиеся руки и ноги; не по дням, а, казалось, по часам, так и выпирало его из казенного узкого кафтанишки.
– И куда ты это, Васенька, лезешь в гору, так растешь? – говорила старуха. – Ин скоро, уж, пожалуй, и рукой не досягну до твоего вихра!
Сперва Вася лазил во дворе у Настасьи Филатовны по крышам, по яблоням и березам, гонял голубей, в свайку да в бабки играл с уличными мальчишками. Ссадины не сходили у Васи с носа, синяки с висков. Филатовна то и дело чинила его камзольчики и штанишки, штопала ему чулки. Но вот Вася окончательно вытянулся и остепенился. Сухощавый, скулистый, плечистый, будто увалень, а в черных глазенках так и бегают огоньки. Ландшафты рисует красками и миниатюрой, хитрые виньеты к нотам Разумовскому чертит и ему носит. Ходит с книжкой по саду Бавыкиной, вслух читает какие-то стихи; говорит, что твердит роль для кадетского театра. Зеленый ученический кафтан на нем чист, русая коса в завитках и припомажена; шляпа на три угла, как с иголочки, белые манжеты и чулки отнюдь не примараны. Ему исполнилось восемнадцать лет. В корпусе он был уже шестой год.
– Кто же вас там ахтерству этому обучает? – спрашивала его Филатовна.
– Сам Александр Петрович, сам господин Сумароков! – отвечал Вася Мирович. – И мы играли намедни, на домашнем нашем театре, его комедию «Чудовищи», а вскорости при дворе, в собственных внутренних апартаментах государыни, будем играть его же тражеди «Гамлета»… Ах! Какие стихи, какие!
…Люблю Офелию, но сердце благородно
Быть должно праведно, хоть пленно, хоть свободно…
Сердце кадета Мировича, на самом деле, вскоре было пленно. Он нашел свою Офелию и сразу влюбился в нее страстно, без ума, о чем признался товарищу, уроженцу Харьковского наместничества.
Случилось это в 1759 году, незадолго до выпуска старшего курса из корпуса. В Петербурге и в окрестных дачах вельмож, по случаю приезда принца Карла Саксонского, шли непрерывные празднества и торжества – с качелями, каруселями, катаньем с гор, рыбными ловлями, стрельбой в цель и театрами.
В Гостилицах, на даче Разумовского, давали переведенную с французского пьесу: «Пастух и прегордая пастушка». Кадет старшего курса Мирович, кончивший геометрию и фортификацию с атакой и изучавший в том году у корпусного ученого адъютанта Флюга гражданскую юриспруденцию, натуральное право и немецкий штиль, играл роль пастуха. Роль пастушки исполняла одна из хорошеньких и веселых камер-медхен императрицы Елисаветы, Поликсена Ивановна Пчёлкина, – не помнящий родства подкидыш. Свою фамилию она получила вследствие того, что государыня, встретив в коридорах дворца кудрявую, с серыми глазками, с золотистыми волосами, девочку, остановилась и сказала:
– Вот распевает, жужжит, точно пчелка…
С той поры она и осталась Пчёлкиной.
Влюбленный в неприступную и гордую пастушку на сцене пастух-Мирович поймал ее врасплох за кулисами, обнял за талию, и страстно припадая к ее розовым, с ямочками, набеленным и облепленным мушками щекам, нежно прошептал из своей роли:
Когда ж бедняжку пастуха —
Когда полюбишь ты, пастушка?..
Пчёлкина вырвалась от него, оправила смятые блонды и ленты и, сделав вздыхателю реверанс, с насмешливой важностью ответила также стихами разыгранной пасторали:
Когда ты будешь богачом,
Вельможей, а не пастухом, —
Чтоб не в убогой жить нам хате,
А в раззолоченной палате…
Тень всякого спокойствия с той поры покинула влюбленного кадета. Гражданская юриспруденция, немецкий штиль и натуральное право Флюга была заброшены. Их заменили бессонные ночи, вздохи, писание страстных и нежных мадригалов, а в промежутках, с горя, – попойки с городскими кутилами и карты.
– Хохленок сдурел! – говорили товарищи.
И точно: Мирович стал раздражителен, мрачен, ушел в глубь себя. Бавыкина собиралась не раз вызвать на голову завертевшегося своего любимца громы и молнии со стороны Разумовского. Но всесильный граф давно забыл и думать о юноше, который когда-то пел кант и плясал «журавля» в его саду, хотя при встречах с ним обыкновенно шутил:
– Виньеты славно чертишь, и херувимов, и гербы… А постой, одначе, постой! Хочешь, куконочка, вареников? И когда на волах до дому?
Днем, повидав украдкой Пчёлкину, Мирович вписывал в свой дневник стансы к милой.
Лишен любовных разговоров,
Я вижу тень твою с собой…
И, ах! Твоих не зрю хоть взоров,
Но мысль всегда, везде с тобой…
Вечером, в корпусном дортуаре или в душном служительском чулане, он резался с богатыми из товарищей в ля-муш и в фараон. Жажда выиграть, разбогатеть тянула его к себе, и он, к собственному удивлению, выигрывал. Сперва серебро, а потом и золото завелись у кадета. Нередко полные карманы рублевиков таскал он к Настасье Филатовне.
– Откуда берешь, пострел? – допрашивала она.
– Спрячьте, голубушка, спрячьте бережнее, а то опять спущу!.. – отвечал он. – Это для Поленьки! Все ей… Как выйду в офицеры, посватаюсь и женюсь…
Молва о счастливой игре Мировича дошла и до начальника корпуса, богатого и знатного князя Юсупова. Строгий распорядитель и любимец вверенных ему питомцев, он тоже был страстный игрок.
– А играешь ли в рокамболь? – спросил его однажды князь.
Мирович в это время готовился к окончанию экзаменов.
– Во что угод но-с…
– И в вист-руаяль?
– И в вист…
– Почем робер?
– Хоть по десять рублев.
– Вот как! А в пикет знаешь?
– Знаю.
– Ну, приходи ко мне: завтра Сретенье, праздник, – сыграем во что-нибудь…
Мирович за два дня перед тем виделся с Поликсеной у знакомой Настасьи Филатовны, у поручицы Птицыной, и все время после встречи с обожаемой, неприступной красавицей был как в чаду. Он усердно помолился об успешной игре, даже обещал поставить свечку у Исаакия, если выиграет, и, вопреки советам товарища-харьковца, пошел на квартиру к Юсупову.
– Ну, сядем в бириби, – сказал вельможный начальник, кладя карты на стол. – Огурчики, огурцы, пошли в дело молодцы!.. Так ли? Ну-ка, сивая, пойдем в поход!.. Деньги есть?
Кадет показал дукаты. Юсупов поставил возле себя ларец. Они стали играть.
«Мать Пресвятая, Владычица Казанская, помоги! – думал Мирович. – Что, если выиграю у него не то что сотню, полтысячи, тысячу рублев?.. Он богач, в игре, слышно, зарывается, неотходчив… Тогда… О! Тогда Поленька моя…»
И он действительно стал выигрывать.
Когда стемнело и подали свечи, серебро, а потом и золото из ларца Юсупова наполовину перешли в шляпу кадета. Руки князя дрожали, брови удивленно шевелились, старческое, апоплексически красное лицо покрылось белыми пятнами. Он не переставал сыпать любимыми поговорками.
– И начала она сомневаться!.. И начала! – возглашал он, судорожно хлопая картой по карте. – Ура, сивая, не отставай!.. Окунулся по уши, валяй и по маковку туда ж…
Ларец Юсупова опустел.
– Эй, вина! Венгерского! Выпьем, брат! – забывшись, крикнул начальник. – Что-то душно…
– Не пью-с! – пролепетал бледный, взволнованный успехом Мирович.
– Вздор, приложимся! У меня, брат, старое…
Подали бутылки и рюмки. Князь выпил, налил и партнеру, выпил и еще; труня над своей неудачей, распахнул окно в оранжерею, а дверь запер на ключ, достал из пузатого, выложенного бронзой бюро горсть кораллов и несколько ювелирных вещиц и начал удваивать ставки.
– А вы, Сашки-канашки мои, куда дели подтяжки мои? – шутил он, щелкая картами по столу.
К полночи Юсупов выбился из сил и откинулся на спинку кресла. Все вынутое было вновь проиграно. Глаза князя лихорадочно сверкали, на углах губ проступила пена.
– Ты маг, кудесник! – прохрипел он, в охмелении глядя на кадета и срывая с горла обшитый пуан-дешпанами платок. – Не вывезла, сивая, усомнилася!.. Отстала?.. Уходи теперь, братец, как есть, будто не играл… Иначе, – прибавил вдруг Юсупов, – я тебя за карточную игру под суд…
Мирович помертвел.
– Ваше сиятельство, князь! Вы шутите? – проговорил он, заикаясь.
– Не шучу, не шучу… Иди подобру-поздорову… Не то я тебя, каналья, выпровожу… нечисто, знать, играешь…
– Как смеете! – вскрикнул, вскакивая, Мирович. – Вы забылись… Такие слова природному дворянину… Мои предки не меньше ваших вельможами были…
На Мировиче не стало лица. Руки и подбородок его дрожали. Он как пьяный шатался, стоя через стол в угрожающем положении против князя. Глаза его застилало пеленой.
– Вон, молокосос, вон! – закричал Юсупов, также поднимаясь с кресла и толстыми прыгающими пальцами загребая снова в ларец лежавшие на столе деньги, кораллы и ювелирные вещицы. – Я тебя, сударь, только пытал!.. Аль не догадался? Вижу ноне, какова ты птица… Юсупова, брат, князя не проведешь…
Свет окончательно померк в глазах Мировича.
Он опрокинул стол с картами и с вином, рванулся к князю, выбил у него ларец и ухватил его за руки. Борьба между сильным, тучным стариком и ловким дерзким юношей началась отчаянная. Огромный парик князя слетел под софу, часы были обронены в схватке и растоптаны под ногами, рубаха и манжеты изорваны в клочки. Сильно досталось и кадету. С отхваченным лацканом кафтана, лопнувшим по швам камзолом и с развитой косой он в рукопашном бою нечаянно дал выскользнуть сопевшему в его объятиях князю, получил от него меткий удар чем-то тяжелым в голову, но изловчился, опять поймал его за камином в углу и, с криком: «Молись! Теперь тебе, изверг, капут!» – тонкими пальцами изо всех сил ухватил его за жирное горло.
Мирович задушил бы князя Юсупова, но из прихожей к кабинету, на возгласы их и возню, сбежались слуги.
В двери стали стучать. Мирович опомнился, выпустил князя. Юсупов, задыхаясь, молча указал ему окно в теплицу, оттуда был особый выход в сад. Тот медлил. Князь, злобно хрипя и потирая горло, отвесил ему низкий поклон. Мирович схватил шляпу и выскочил.
Юсупов пришел в себя. Не отворяя двери, он крикнул, что никого не звал и чтоб его оставили в покое, привел в порядок свою одежду, мебель и вещи и закрыл окно. Опустив гардины, он выпил целый графин воды, крестясь и охая, прошелся несколько раз по комнате и сел писать к фавориту государыни, Ивану Иванычу Шувалову, длинное письмо.
Через неделю после этого казуса кадет Мирович за леность, а также за продерзостное и кутежное поведение, не кончив курса, был отослан солдатом в пехоту, в заграничную армию, где в два года дослужился до подпоручика.
Юсупова разбил паралич. После долговременного управления кадетским корпусом он был уволен от этой должности и вскоре скончался. Он словесно перед смертью пожелал выслать за границу исключенному кадету крупную сумму денег. Но ближние его посмотрели на это, как на излишнюю поблажку, и приказа его не исполнили.