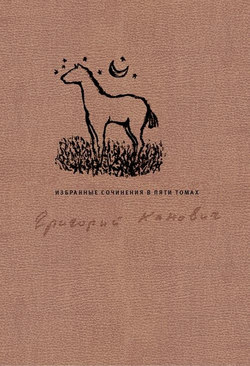Читать книгу Избранные сочинения в пяти томах. Том 2 - Григорий Канович - Страница 3
Слезы и молитвы дураков
роман
ОглавлениеI
– Душа больна, – пожаловался рабби Ури, и его любимый ученик Ицик Магид вздрогнул.
– Больное время – больные души, – мягко, почти льстиво возразил учителю Ицик. – Надо, ребе, лечить время.
– Надо лечить себя, – тихо сказал рабби Ури. Он поднялся со стула и подошел к окну, как бы пытаясь на тусклой поверхности стекла разглядеть и себя, и Ицика, и время, и что-то еще такое, неподвластное его старому, но еще цепкому взору. Боже праведный, сколько их было – лекарей времени, сколько их прошло по земле и мимо его окна! А чем все кончилось? Кандалами, плахой, безумием. Нет, время неизлечимо. Каждый должен лечить себя, и, может, только тогда выздоровеет и время.
Рабби Ури стоял у окна и смотрел на пустынную улицу местечка. Все спят. Во сне время меняет лик. Во сне нет ни царей, ни урядников, ни безумцев. Нет. Пока не придут и не разбудят.
– Послушай, Ицик! Ты можешь мне ответить, почему все спят, а мы не спим? – спросил рабби Ури и погладил бороду. Прикосновение к ней всегда дарило ему что-то похожее на просветленность. Он как бы подбрасывал в огонь полено, и искры освещали мрак его души и жилища. – Почему мы не спим? – повторил он и уставился на своего ученика.
– Не спится, ребе, – уклончиво ответил Ицик и тут же спохватился: негоже отвечать на вопросы учителя с такой легкомысленной поспешностью, ответ должен вызревать дольше, чем вопрос.
– Подумай, сын мой, подумай, – процедил рабби Ури и снова погладил бороду.
Чем думать, лучше лечь и заснуть. Они и так допоздна засиделись. И чай остыл в кружках, и глаза у него, у Ицика, слипаются. Хорошо еще – жены нет, никто дома не ждет, супружеская постель – не чай, остынет – не согреешь.
Ицику Магиду жалко рабби Ури. Если бы не эта жалость, он бы сюда приходил только на праздники. Рабби Ури скоро умрет, еще в позапрошлом году ему перевалило за восемьдесят, успокоится его душа, исцелится. Могильные черви – лучшие лекари.
– Ну, что придумал? – перебил его учитель. – Почему мы с тобой не спим?
– Не знаю, – чистосердечно признался Ицик. Он не спит из жалости, а рабби Ури – от старости. Для старого ночь – шаг к смерти, для молодого – шаг к утру.
– Кто-то должен, сын мой, бодрствовать. Кто-то должен, когда все спят.
– Сторож Рахмиэл бодрствует. Слышите, ребе, как он стучит колотушкой?
– Не слышу.
– Он же под окном ходит, – удивился Ицик. Неужели рабби Ури оглох? Слова слышит, а колотушку – нет.
– Тот, кому платят, не бодрствует, а работает, – сказал учитель.
– Какая разница? – опешил Магид.
– Тот, кому платят, слышит звон монет, а не крик души, – не повышая голоса, ответил рабби Ури. – Он сторожит богатство, а не боль.
– А зачем… зачем, ребе, ее сторожить?
– Чтобы не родила.
Старик спятил, подумал Ицик Магид и устыдился своих мыслей. Как-никак рабби Ури не чужой ему человек. Он столько для него, сироты, сделал. Можно сказать, на ноги губошлепа поставил. Если бы не рабби Ури, быть бы ему, Ицику Магиду, вором, бродягой, перекати-полем. Старик его и от рекрутчины спас, позолотил уряднику руку, а то забрили бы…
– Кого родила? – спросил Ицик не столько из любопытства, сколько из почтения.
– А кого, по-твоему, она рожает?
Ицик Магид не станет ломать голову, кого рожает боль. Рабби Ури сейчас попотчует его каким-нибудь изречением из Библии, сошлется на непогрешимого Моисея или мудрого царя Соломона, расскажет на сон грядущий притчу собственного сочинения, погладит бороду – в ней вся отгадка.
– Боль, да будет тебе известно, рожает смерть… безумие… ненависть, – только и бросил учитель, глянул на Ицика и добавил: – Утомленный мозг подобен верстовому столбу: дерево, но не плодоносит. Ты, я вижу, сын мой, устал. Ступай домой.
– А вы?
– Я дома, – усмехнулся рабби Ури.
– И вам пора ложиться.
– Лягу, лягу, – заверил старик. – Это дело нехитрое. Не то что встать. Иди, сын мой, иди.
Но Ицик почему-то медлил. Он смотрел на рабби Ури и ждал еще каких-то слов. Каких – он сам не знал, только не этих пресных «иди, сын мой, иди». Эти слова были такими же невнятными, как весь дом учителя, как обшарпанные стены, как керосиновая лампа с нелепым колпаком. За этими словами, как за яичной скорлупой, стояло еще что-то, и это угнетало Ицика. Он чувствовал: истинный их смысл вылупится позже и не даст до утра уснуть. С ним такое не раз случалось: придет домой, разденется, плюхнется на кровать, и вдруг слова рабби Ури обступят его, как щенята, и давай лаять и кусаться. А иногда слова учителя багровели в темноте ягодами калины, и от этой красноты становилось невмоготу и до тошноты першило в горле. В такие минуты Ицику казалось, что любимый его учитель имеет дело не только с Торой, но и с нечистым, хотя рабби Ури и клялся, что у евреев есть всё, кроме леших и вурдалаков.
– Они не обрезанные, – уверял он, как будто мылся с ними в одной бане.
– А ведьмы? – съязвил тогда Ицик.
– Ведьмы есть. Жена моя, царствие ей небесное, была чистокровная ведьма. Проснусь, бывало, и за пилу. Ночью спилишь рога, а утром они у нее отрастают. Если не веришь, приходи, я покажу тебе опилки. Мой совет: задумаешь жениться – смотри не на волосы, не на стан, а рожки ищи. Сперва они незаметны… маленькие, как ноготь. А потом… Потом сам увидишь.
Под окном неистово, стращая больше собственную дремоту, чем воров, стучал колотушкой местечковый сторож Рахмиэл.
Ицик прислушался к мерному стуку колотушки и вдруг сказал:
– Ребе! У нас объявился какой-то странный тип. Он говорит, что он посланец Бога.
– Все мы посланцы Бога, – равнодушно обронил рабби Ури. – И я, и ты.
Дернул же черт меня за язык, посетовал Ицик. Мало ли чего в корчме болтают. Подумаешь – посланец Бога! Каких только сумасшедших не видело местечко! В позапрошлом году, перед Пасхой, потешил честной народ какой-то Наполеон Четвертый в странной треугольной шляпе на голове и с каким-то красным поясом. Он по-военному размахивал руками, щелкал рваными ботинками и клялся и божился, что – если его накормят – он отменит черту оседлости, разрешит евреям сперва проживать во всех столицах мира, а потом – если его накормят – он предоставит им полную свободу и даже возглавит первое еврейское государство. Добрые люди накормили Четвертого, напоили, но черту оседлости он так и не отменил. А еще раньше в местечко забрел Человек-птица! Этот не обещал отменить черту оседлости и в главари первого еврейского государства не метил. Он грозился на виду у всех улететь.
– Пусть летит, – сказал корчмарь Ешуа.
Просто улететь Человек-птица не соглашался. Он требовал, чтобы евреи составили и подписали прошение к Богу, он его, мол, передаст. Поскольку никто такого прошения не хотел составлять, сумасшедший проклял корчмаря Ешуа и все местечко и отправился, кажется, в Вильно.
А теперь вот – посланец Бога. Правда, он, как рассказывал Ицику сын корчмаря Ешуа – прыщавый Семен, ничего не требовал – ни прошений, ни подписей, ни хлеба. Когда прыщавый Семен подошел к нему в отцовском заведении и спросил: «Чего тебе угодно?» – посланец Бога якобы ответил: «Мне угодно, чтобы ты перестал таскать из отцовской мошны деньги!» Прыщавый Семен выгнал его из корчмы, но тот как ни в чем но бывало стоял под окном и громко, на все местечко возглашал:
– Вор! Вор! Вор! Бог покарает тебя! Трястись тебе от лихоманки.
И надо же – наутро прыщавый Семен слег. Корчмарь Ешуа привез из Германии доктора, усатого пруссака в пенсне. Доктор осмотрел больного и что-то буркнул по-немецки: не то лихоманка, не то брюшной тиф.
– Где он остановился? – полюбопытствовал рабби Ури. Сейчас начнутся расспросы, и, пока любимый учитель не насытится, Ицику не уйти.
– Нигде.
– Если увидишь его, сын мой, приведи ко мне, – сказал рабби Ури, странно оживившись.
– К вам? – У Ицика свело дыханье, и он долго стоял перед учителем, как клен на ветру: ветер треплет его, а он только огрызается – шумит листвой. – Вы что, сумасшедших не видели?
– А откуда ты, сын мой, взял, что он сумасшедший? Тот, кого послало небо, не может быть сумасшедшим. Не богохульствуй, Ицик.
– А если… если вы, ребе, не угодите ему… если он и вас лихоманкой покарает?
– Что такое лихоманка по сравнению с больной душой? – спросил рабби Ури, но спросил на сей раз не у своего ученика Ицика Магида, а, скорее, у керосиновой лампы с нелепым колпаком, у тусклого оконного стекла, на котором нет-нет да мелькал силуэт ночного сторожа Рахмиэла. – Я слишком стар, чтобы сам его искать.
– А если он не пойдет? – очнулся Ицик.
– Если не пойдет, значит, и ему все равно.
Ицик Магид не понял, о чем говорит его любимый учитель, но по его голосу, но взгляду, обращенному на тлеющий фитиль керосиновой лампы, он догадался, что рабби Ури намекает на свою больную душу. Никакой странник, тем паче сумасшедший, но исцелит ее. Рабби Ури стар, и душа его стара и немощна. Ничего не поделаешь – горек закат, горек. Пора смириться, пора собирать, а не перетряхивать пожитки.
– Иди, сын мой, иди, – сказал старик. – И позови мне Рахмиэла. Пусть зайдет. Мы с ним чайку попьем.
– Хорошо, – ответил Ицик. Он поклонился рабби Ури и вышел в ночь.
Старик проводил его до двери, но не закрыл ее: скоро придет Рахмиэл.
Рабби Ури сел за стол, обхватил руками закопченную лампу, и жар ее перелился в его высохшие, как табачные стебли, суставы. Перелился и пополз, продираясь сквозь сухостой вен, наверх, к согбенным плечам, к шее, похожей на зачитанный свиток, а оттуда спустился вниз, к сердцу, к больной душе, и больная душа отогрелась и, подобно бабочке с помятым крылом, встрепенулась и взлетела на подоконник. Высоко, ох как высоко.
Без стука вошел Рахмиэл, закутанный в бабий платок, вернее в подобие платка, пропахшего чужими волосами.
– Вы звали меня, рабби?
– Да.
– Но я только на минуточку.
– А что такое, Рахмиэл, вся жизнь? Что такое восемьдесят два года?
– По-моему, восемьдесят два года – это восемьдесят два года.
– Нет, Рахмиэл. Это только долгая минута.
– Может быть, – буркнул Рахмиэл, не понимая, зачем его позвали.
– Сейчас мы с вами чайку попьем.
– От чая я никогда не отказывался.
Рабби Ури подогрел чай, разлил в оловянные кружки.
– А от чего вы отказывались, Рахмиэл?
– Не помню, – сказал сторож, прихлебывая.
– А я помню…
– У вас хорошая память, – невпопад похвалил рабби Ури Рахмиэл.
Оба прихлебывали чай и исподлобья глядели друг на друга.
– Говорят, в местечке какой-то странник объявился, – сказал рабби Ури. – Выдает себя за посланца Бога. Вы о нем не слышали, Рахмиэл?
– Не слышал. Я жду Арона, а не посланцев Бога.
– Сколько лет он в рекрутах?
– Долго, ох как долго.
– Должен бы скоро вернуться.
– Если вернется.
– А почему же не вернется?
– Всякое за столько лет бывает, – вздохнул сторож. – Вот к Шмуэлю Пятницкому сын вернулся, так я вам, рабби, скажу: большего несчастья и не придумаешь.
– Почему?
– Почему-почему, – чуть ли не обиделся Рахмиэл. – Николаем вернулся.
– Каким Николаем?
– Да что это с вами сегодня, рабби Ури? – удивился гость. – Русским Николаем. Николаем Пятницким. Крестился он там в Сибири, вот что.
– А домой он зачем приехал?
– Дом делить. У Шмуэля Пятницкого в Мишкине двухэтажный дом. Не дай бог, если и мой Николаем вернется. Одно утешение – дома у меня нет. Это все мое богатство, – и Рахмиэл ткнул короткопалой рукой в колотушку.
– Можно? – рабби Ури протянул к колотушке руку.
– Колотушка как колотушка, – сказал сторож.
Рабби Ури взял колотушку и вдруг что есть мочи застучал.
– Что вы делаете? – воскликнул Рахмиэл.
– Стучу, – просто ответил хозяин. – Смерть бужу.
– Чью?
– А разве смерть чья-нибудь? Смерть – всех и ничья. Понимаете, Рахмиэл?
– Понимаю, понимаю, – залопотал сторож. – Спасибо вам, рабби Ури, за чай. А мне пора туда… на улицу…
– С улицей ничего не случится, – осадил его рабби Ури. – Посидите… Ночью в нашем местечке никто ни у кого не крадет. Только днем. Но днем же вы, Рахмиэл, свободны…
– Свободен.
– Днем же вы спите.
– Как когда. Иногда шью.
– Шьете?
– Шью. Лишний грош не помешает. Я все, рабби, для Арона откладываю… Вернется гол как сокол.
– Сколько было вашему Арону?.. – рабби Ури запнулся.
– Может, пятнадцать… Может, шестнадцать…
– Пятнадцать, шестнадцать, – вдруг забормотал рабби Ури. Зря он не спросил у Ицика, сколько тому… посланцу Бога… лет… Наверно, тридцать пять, сорок. В тридцать пять – сорок больше всего сходят с ума. Возраст сумасшедших. Возраст лекарей, пытающихся – какая тщета! – излечить время. А вдруг сын Рахмиэла Арон и есть тот самый посланец Бога? А вдруг… он, рабби Ури, конечно бы, не узнал его… прошло столько лет… В голове рабби Ури что-то складывалось, обрывалось, снова складывалось и рассыпалось в прах: слова, даты, имена. Он сверлил Рахмиэла взглядом, а тот, поникший, растерянный, оглядывался на дверь и не мог дождаться, когда рабби Ури вернет ему колотушку.
И вдруг Рахмиэл с пронзительной ясностью осознал, что без колотушки он – никто, жалкий старик в бабьем платке, бедняк и горемыка.
– Рабби, отдайте мою колотушку, – взмолился он. – Отдайте!
– Пожалуйста, – смутился старик. – Кажется, с ней ничего не случилось.
Рахмиэл схватил протянутую колотушку и, не доверяя себе и рабби Ури, застучал.
– Стучит, стучит, – приговаривал он, пятясь к двери. – Слава богу.
Когда он вышел, рабби Ури подошел к окну и опустил засиженную мухами занавеску. Господи, сколько лет ее не стирали! Да и зачем? Рабби Ури никого больше не хочет видеть. Никого! Ни любимого ученика… ни посланца Бога… ни сторожа… никого. Его глаза, его кладовые, переполнены, набиты доверху. Он видел мор и глад, он пережил три войны. Он встречался с уймой людей и людишек. Все они, не отряхивая со своих одежд и со своей обуви грязь, кровь, блевотину, входили в его глаза. Хватит! С сегодняшнего дня он закрывает свои кладовые. Навсегда. Можно смотреть и не видеть. Можно слушать и не слышать. Можно просто достать из чулана пузырек для мышей… налить восемьдесят две капли… по капле на каждый прожитый год, и – здравствуйте, мои лекари, могильные черви. Но достойно ли человека умереть как мышь? Человек должен уйти как человек.
– Когда же? – спросил он у лампы. – Когда же?
В лампе зябко дрожал огонек.
– Когда нас задуют?
За окном – из конца в конец улицы – ходил Рахмиэл, стучал колотушкой и, видно, думал об Ароне.
А ему, рабби Ури, о ком думать по ночам? О ком?
II
Ночь для Ицика Магида начиналась с первой звезды, проклюнувшей, как цыпленок, бархатную скорлупу небосвода. Проклюнется один, за ним, глядишь, и целый выводок высыпал, разбежались по небу, как по двору, только пушок светит. Рабби Ури говорит, что у каждого человека своя звезда. Может быть, и у него, у Ицика Магида, есть какая-нибудь паршивая звездочка, недоносок. Светит где-нибудь, но что толку? Нет одинаковых звезд, и нет одинаковых судеб. Есть звезды-богатеи и звезды-нищие, есть звезды – кровь с молоком и звезды-калеки. Не дай бог родиться под такой звездой-калекой, какая светила его матери в день ее рождения. Своих родителей он, Ицик Магид, почти не помнит. Отец вроде был из-под Житомира, после погрома порешил местечкового урядника – господи, сколько урядников в России, – бежал, скрывался, добрел до Литвы, пошел в лесорубы и до самой своей смерти валил не урядников, а лес. Его звали Габриэль – во всяком случае так он себя называл. Мать служила у лесоторговца Фрадкина сперва нянькой, а потом кормилицей. Каждый год она рожала по мертвому ребенку – пока не родила его, Ицика, а через пять лет умерла вместе с тем, кто мог бы стать его братом. Похоронили их в одной могиле. Ицик Магид помнит, как он стоял с отцом над отрытой ямой и смотрел вниз и ничего, кроме большого майского жука, ползавшего по отвесной стенке могилы, не видел, и ему было очень жалко жука, жук был живой и даже с крыльями, которые он то и дело расправлял, бедняга.
Через год после смерти матери нашли мертвым в лесу отца. Никто не знал, от чего он умер. В руке у него был зажат топор, да так крепко, что покойника с ним и зарыли.
– Если он попадет в рай, – буркнул на кладбище водонос Эзер Блюм, – он там все кущи снесет.
В шесть лет он, Ицик Магид, остался круглым сиротой. По каким только домам не скитался, у кого только не жил! Даже у водоноса. Блюм приютил сироту, и они вместе день-деньской таскали из реки воду и развозили по местечку. Колодцы были не у всех – у корчмаря Ешуа, казенного раввина Шлёмо Гольдина, портного Довид-Бера и конечно же у господина урядника. Других дешево и аккуратно поил Блюм. Быть бы Ицику водоносом, если бы в один прекрасный день Эзер не продал свою сивку и бочку и не отправился пешком в Иерусалим, в Землю обетованную. Когда еврею втемяшится какая-нибудь блажь, то у него на плечах не голова, а лохматый пучок бредней. Все местечко, – а жарче всех бесколодезные, – уговаривало Эзера отказаться от своей затеи, да куда там! Вышел ни свет ни заря с котомкой за плечами и даже не оглянулся. А на что оглядываться? На избу-развалюху, на лошадь? Блюм звал и его, сироту, но вмешался рабби Ури.
– Эзер, – сказал он. – Если Бог даст и ты не помрешь по дороге, то станешь первым водоносом, испившим из реки праотцев. А мальчишку не трогай. У него еще ноги слабоваты. Пусть окрепнут.
– Ноги крепнут в дороге, рабби, – ответил Эзер Блюм. Вышел и пошел. И с тех пор как в воду канул.
А его, Ицика, пригрела семья рабби. По правде говоря, никакой семьи там не было: жена Рахель, дородная, с двойным подбородком и отроческими усами, и кошка. Когда Рахель злилась, усы у нее топорщились, и Ицику хотелось ощипать ее.
Ицик вспоминал прошлое только когда болел. Здоровому человеку некогда заниматься воспоминаниями. Потому-то и сами воспоминания казались Ицику чем-то вроде недуга, какой-то немужской хворью. Неужели он заболел? Лежит, не спит и вспоминает чьи-то слова, усы Рахели, круп Эзеровой лошади и майского жука на стенке вырытой могилы.
Что это со мной, спросил он себя и, не найдя ответа, встал с кровати и распахнул окно. Тишина. Ни живой души. Местечко словно вымерло. Колотушка Рахмиэла и та замолкла. Видно, сторож сел на крыльцо москательно-скобяной лавки братьев Спиваков и уснул.
– Рахмиэл! – крикнул в распахнутое окно Ицик.
Крик его упал в тишину, как лист на воду, даже круги не пошли.
– Рахмиэл! – с беспомощной обидой повторил он, и опять ни звука.
И вдруг ему показалось, будто возле лавки братьев Спиваков метнулась чья-то тень.
Ицик напряг глаза и вгляделся в густую и вязкую, как смола, темень.
Он, почему-то подумал Ицик, и у него заколотилось сердце. Посланец Бога!
Странно, Ицик сделал два-три судорожных глотка, как бы пытаясь протолкнуть вниз застрявшее в горле сердце, почему я о нем все время думаю? Почему?
Ицик нашарил в темноте спички и зажег коптилку. С улицы на огонь слетались ночные бабочки. Их была целая прорва. Они кружились над коптилкой, и Ицик не прогонял их. Он был им даже рад. Рабби Ури прав: все мы посланцы Бога – и я, и он, и Рахмиэл, и эти бабочки, которые напоминают ему, Ицику, его собственные мысли, такие же слепые и случайные. И им, его мыслям, нужен чужой огонь. Тогда они оживают, сбрасывают с себя коросту лени и воспаряют ввысь. Тогда в них появляется не отчаяние, а страсть, жажда полета и самоотречения. Но разве рабби Ури – огонь? Разве прыщавый Семен – огонь?
Есть в местечке огонь – дочь лесоторговца Фрадкина Зельда, но он, этот огонь, Ицику не светит. Ему светят эта паршивая звездочка-недоносок и эта вонючая коптилка!
Ицик снова выглянул в окно, но возле лавки Спиваков никого не было.
А вдруг? Вдруг тот, кто уложил в постель прыщавого Семена, и впрямь посланец? Откуда он, впервые попавший в местечко, знает о пагубной страсти сына корчмаря? Правда, о том, что Семен тащит у отца деньги, знают все. Но разве это знание когда-нибудь укладывало его в постель? Никогда. А тому самозванцу это за день удалось. Стало быть, у него есть какая-то сила. Стало быть, он не простой сумасшедший. В нем полыхает огонь. Безумие и есть огонь. Чаще всего он опаляет самого безумца, но бывают же, наверно, исключения.
А может, болезнь прыщавого Семена только совпадение?
Мало ли кого в местечке можно и даже нужно покарать! У каждого отыщется какой-нибудь грех. Даже у рабби Ури. На что рабби святой человек, но и он, видно, прожил не безгрешную жизнь. Долгая жизнь не может быть безгрешной.
Подождем, пока они встретятся, решил Ицик и почувствовал странное облегчение. Но тотчас снова нахмурился. Если после прыщавого Семена следующим будет рабби Ури, если он за свою долгую жизнь сокрыл какой-нибудь грешок или провинность, то какова же будет кара? Чем же еще можно покарать того, у кого Господь Бог отнял все, кроме разума, – пытает слепотой глаза, высушил конечности, засыпал могильной глиной уши? Смертью, что ли? Но смерть для рабби Ури милость, а не кара. И разве все это у него отнял Бог? Бог, а не больное время? Кто же из них безжалостней?
Ицик ужаснулся. Как он смеет так думать о Всевышнем? Да еще вслух, при открытом окне, в такой поздний час, когда только небеса и слышат!
Он быстро захлопнул окно и потушил коптилку. Спать, спать, спать, ни о чем не думать, ни о чем. Сегодня – пятница. Единственный день, когда можно выспаться. Завтра он пойдет в синагогу и помолится и попросит прощения за свои ночные мысли. Может, он встретит в синагоге и его… посланца… Но как он узнает его, если ни разу в глаза не видел? Семен до болезни рассказывал, будто он маленький, с жиденькой бородкой, с глазами-пуговками, в бархатной ермолке, приколотой не то прищепкой, не то булавкой к редким волосам, чтобы ветер не сдул.
Жиденькая бородка и глазки-пуговки, будь они хоть с царского мундира, – не примета, а вот прищепка или булавка!..
Ицик лежал на кровати, раскинув тяжелые руки, и слушал, как в подполье скребутся мыши. Их шорох всегда успокаивал его. Вдова Голда, у которой он снимал угол, травила их всякими зельями и порошками, закупленными впрок в Вильно, но мыши были сильней всякой отравы.
– Ты чего не спишь? – раздалось за стеной.
– Сплю, – ответил Ицик и съежился.
– Ходишь, свет жжешь, ворочаешься, меня баламутишь, – отчитала его из-за стены Голда.
Только бы не пришла, только бы оставила в покое, подумал Ицик и натянул на голову одеяло. Если припрется, не впущу. У, ненасытная! У нее что в будни, что в праздники – одна забава на уме. Эта забава и мужа в могилу свела. Голда еще и била его по ночам! Била и приговаривала:
– Будь я мужик, я бы тебя, Ошер, научила!
Чего только он, Ицик, не наслушался, пока Ошер был жив. Начнут честить друг друга – хоть из дому беги. А куда убежишь? В лес, что ли? Летом и в лесу можно. Воздух чистый, птицы поют. Зароешься в мох и дрыхнешь. Утром встал и – за работу. Взял топор и руби. Кроме Ицика, на лесоповале – ни одного еврея, литовцы да двое православных: Афиноген и Гурий Андроновы, братья родные. Подтрунивают над ним: чего, мол, в лесу ночуешь, забрался бы к какой-нибудь вдовушке в постель, и теплей, и желудку польза, еще накормит за ласку. А то смотри, Ицик, тут в лесу волк у тебя по ошибке пилку отгрызет, кому ты без пилки нужен?
Проклятая пилка, выругался про себя Ицик и натянул на голову одеяло.
Голда вошла и села на край кровати. От ее тела, едва прикрытого рваной сорочкой, пахло разогретой постелью и бесстыдством. Она откинула одеяло, погладила Ицика по всклокоченным волосам и тихо сказала:
– Тебе стричься пора. Хочешь, я тебя постригу?
Ицик молчал, а Голда продолжала гладить его голову, шею, пока наконец неуемная взбесившаяся рука не нашарила сосок на его полосатой шершавой, как кора, груди и не застыла.
– Сейчас я принесу ножницы, – прошептала она. – Чик-чик, и готово.
– Отстань, – сказал он, но не оттолкнул ее руку. – Завтра суббота.
– Ну и что? – удивилась Голда, нагнулась, и голова ее повисла над ним, как огромный спелый плод, готовый упасть от первого дуновения. – Разве по субботам нельзя?
– Нельзя, – бросил Ицик.
– Это где написано?
– В Торе.
– А я Тору не читала, – сказала Голда, и плод закачался, еще минута, и он упадет вниз. – Подвинься!
Ицик не двигался.
– Подвинься, – повторила Голда. – Мне холодно. Мне всегда холодно, когда ты рядом, но не со мной.
Голос ее звучал тихо, настороженно, как у ночной птицы, потерявшей свое гнездо.
– В последний раз! – согласился он. – Слышишь!
– Слышу! В последний раз… по субботам.
Голда забралась под одеяло, и ноги у них переплелись, как ветки дерева.
Они не слышали, как скребутся мыши, как стучит колотушкой проснувшийся Рахмиэл, как скрипит непритворенная дверь. Мир лишился звуков, и ничего в нем не было, кроме темноты и семени.
– Ты не боишься, Голда? – спросил он, очнувшись.
– А чего мне бояться? – выдохнула она.
– Сама знаешь.
– А ты… ты боишься?
– Да, – сказал он.
– Напрасно.
– Ты никогда не была сиротой, – сказал он, освобождаясь из ее объятий.
– Я сирота, – сказала Голда.
– Неправда, – возразил он. – У тебя есть сестры… и брат в Гомеле… и мать…
– Бабы всегда сироты, – вздохнула Голда и лизнула его сосок.
– Перестань, – рассердился он. – Стыда у тебя нет.
– Если счастья нет, зачем мне стыд?
– Бог нас покарает, – тихо произнес Ицик. – Ты, наверно, слышала: в местечке объявился какой-то человек. Говорят, что он посланец Бога.
– Ты мой посланец, – жарко прошептала Голда и снова прильнула к нему. – На других мне наплевать. Ты мой бог.
– Ступай к себе, Голда. Мне хочется побыть одному. Ступай.
– Хорошо, хорошо, – уступила она. – Но ты не бойся. У нас никого не будет. Я не хочу тебя ни с кем делить. Даже с детьми. Пока ты мой – не хочу.
Голда встала, поправила сорочку и бросила:
– Все на мне рвется. Тело у меня такое. Спи!
В дверях она обернулась:
– А как он выглядит?
– Кто? – не понял Ицик.
– Ну тот… человек…
– Маленький вроде… в бархатной ермолке, приколотой к волосам булавкой… Или прищепкой.
– Наверно, какой-нибудь сумасшедший… в ермолке с прищепкой. Надо его накормить и проводить с миром. Я не люблю сумасшедших… хоть и сама сумасшедшая… В детстве – мы тогда жили в Гомеле – ко мне подошел один такой… правда, без ермолки, посмотрел в глаза и сказал: «Шлюха!» Мне было десять лет. Он гнался за мной… почти до самого Сожа и вопил: «Шлюха! Шлюха! Шлюха!» Меня потом только Ошер так называл – царство ему небесное!
– Чего это ты вдруг вспомнила?
– Не знаю. Спи!
И Голда вышла на цыпочках, как будто там внизу спал ее муж, Ошер, который мог проснуться и уличить ее в измене. Она всегда так уходила – на цыпочках, и это поражало Ицика. Столько лет прошло после смерти Ошера, и надо же – в собственном доме как воровка.
Наконец сон смилостивился и смежил ему веки. Ицику снилось, будто он стоит по пояс в воде, а водонос Эзер Блюм кричит ему с берега реки праотцев Иордана: «Ты чего, негодник, ведро потопил! Такое ведро потопил!» И он ныряет на дно, лихорадочно ищет и ничего не находит. Вынырнув из Иордана, он и проснулся. Солнце только позолотило небосвод, и его, как пасхальный пирог, залило глазурью: хоть бери и нарезай каждому.
Ицик приоделся и, не позавтракав, зашагал в синагогу. Какой же на сытый желудок молебен? Бог сытых слушает, но не слышит.
У собственного колодца умывался раздетый по пояс урядник Нестерович, высокий мужчина, старавшийся во всем походить на царя: и осанкой, и роскошными, лихо закрученными усами, и даже прической. Местечковый парикмахер Берштанский стриг его, как он выразился, «под императора», глядя то в зеркало, то на портрет царя, висевший по этому случаю на грязной стене парикмахерской.
– Премного благодарен, – говорил урядник Нестерович.
А Берштанский подобострастно отвечал:
– Рад стараться, ваше величество.
– Какое я тебе величество, дурак?
В голове бедного Берштанского путались и «дурак», и «ваше величество», и «ваше высокоблагородие». Денег с Нестеровича Берштанский не брал, стриг его с большим рвением, а ежели орудовал бритвой, то подносил ее к лицу урядника, как взятку.
Нестерович был незлой человек – не чета прежнему. Тот считал, что Господь Бог за всю свою службу сделал один промах – создал евреев. От этого, уверял прежний урядник, на земле все беды.
– Самое большое несчастье России, – сказал он как-то лесоторговцу Фрадкину, – это вы.
– Я? – У Фрадкина глаза на лоб полезли.
– Не вы, господин Фрадкин, а ваше племя, – охотно объяснил лесоторговцу прежний урядник, рвение которого было замечено: его перевели не то в Гродно, не то в Молодечно.
Ицик шагал по позолоченной солнцем улице, и мысли его вертелись вокруг Голды, урядника, отскакивали от них и, как воробьи на хлебные крошки, набрасывались на пришельца в ермолке.
Теперь Ицику почему-то не хотелось, чтобы чужак исчез. Если он и впрямь послан Богом, может, Ицик дождется от него ответа на вопрос, томивший его долгие годы: кто убил отца? Такие здоровяки, как Габриэль Магид, просто не умирают.
В чем Ицик не сомневался, так это в том, что в синагогу пришелец наверняка придет. Не может же посланец Бога пропустить утреннюю молитву.
Но того, кого Ицик ждал, в синагоге не было. Внизу, на мужской половине, толпились старые знакомые: парикмахер Берштанский, портной Давид-Бер, старший сын мельника Бравермана Пинхос, не женатый, болезненный, с заячьей губой, лавочники Нафтали и Хаим Спиваки. Даже рабби Ури, и тот явился: сел в коляску и прикатил. А того… в ермолке… не было.
Ицик, как чужой, оглядывался по сторонам, и синагогальный староста Нафтали Спивак съязвил:
– Если ты, любезный, ищешь дверь, то она прямо и налево.
Пришла и Зельда Фрадкина.
Ицику было стыдно смотреть ей в глаза. Ему казалось, что Зельда знает все его тайны – дневные и ночные, и не осуждает, а жалеет его. Иногда Ицик сам терялся в догадках, чего в младшей дочери Фрадкина больше – красоты или жалости. Сама ее красота была какая-то жалостливая – лицо бледное, вытянутое, почти прозрачное, носик крохотный, чувствовавший себя неуютно под надзором черных задумчивых глаз, брови вразлет, как след шелкопряда на листе, и длинные темно-каштановые волосы, струившиеся легко и свободно даже под платком. Грех признаваться, но Ицик приходил в синагогу главным образом из-за нее. Конечно, бывали у него и другие интересы – разузнать про то, что творится на белом свете (а где об этом узнаешь, если не в молельне), посмаковать с прыщавым Семеном какую-нибудь местечковую сплетню и просто высказать свою преданность Богу, чтобы никто не подумал, будто он, Ицик, совсем одичал в лесу. И все же его манили сюда не мировые новости, доходившие в местечко почти с годичным опозданием, не сплетни – сегодня говорят о Хаиме, завтра – о тебе, не добродетельные кивки и взгляды богомолок, ценящих усердие более, чем сам Всевышний, а она – Зельда. Зельда притягивала его как магнит, и у него не было сил противиться этой изнурительной и сладостной тяге. Вдова Голда, его хозяйка и наперсница, всегда устраивалась возле Зельды, подпирала подбородок своими греховными руками, и когда Ицик поднимал на верхний ярус глаза, то и ей перепадало нежности и обожания.
Сегодня Зельда была особенно хороша. Она вся светилась и трепетала, как субботняя свеча, и от ее блеска и трепета у Ицика кружилась голова.
Господи, думал он, какое счастье видеть ее, дышать с ней одним воздухом, молиться одному Богу.
Однажды после вечерней молитвы прыщавый Семен взял его под руку и сказал:
– Гони три червонца, и я тебе устрою с ней свиданье.
– С кем?
– Не притворяйся дурачком. Зельда стоит трех червонцев.
Ицик отдернул руку.
– Можно в рассрочку, – предложил Семен.
– Пошел вон, – зло бросил Ицик.
– Не хочешь – не надо, – прыщавый Семен и ухом не повел. – Голда, конечно, обходится дешевле. Сама, видать, приплачивает тебе. – И рассмеялся, оскалив свои тусклые, кривые, смахивающие на дольки чеснока зубы.
Ицику хотелось схватить его за грудки и разок-другой тряхнуть. Но он сдержался, только сплюнул и растер сапогом плевок: негоже поганить порог божьего дома.
И все же слова прыщавого Семена застряли у него в памяти. Три червонца – почти полгода работы, и не какой-нибудь, не с иглой и не с бритвой, а с топором и пилой, под дождем, а то и в снегу. Но на Зельду ни полгода, ни года, ни десяти лет не жалко. Если разобраться, Ицик и так работает на нее. Она же Фрадкина! Сама Фрадкина! Дочь лесоторговца Маркуса Фрадкина.
А может, Ицика так к ней тянет потому, что она поена молоком его матери?
Вот и корчмарь Ешуа с женой Хавой пришел. Обычно они приходят раньше других. К Богу, как к уряднику Нестеровичу, лучше приходить вовремя – зачем их гневить? Из-за сына, видно, задержались, из-за Семочки.
Сейчас начнется молебен. Молодой рабби Гилель, праведник и оратор, взошел на амвон и раскрыл свиток – ставни в небеса.
А его нет. Ицик еще раз оглянулся на дверь. Нет.
Рабби Ури подкатил к самому амвону, и колеса его коляски прошуршали в наступившей тишине, как крылья ангела.
Синагога старая, деревянная. Она дважды горела. В шестьдесят третьем ее подожгли солдаты. Искали какого-то Мицкевичюса или Мацкявичюса, бунтаря и государственного преступника. В чем заключалось его преступление, никто в местечке не знал. Испокон веков в нем не было ни одного бунтаря и преступника, если не считать мужа вдовы Голды Ошера, пытавшегося среди бела дня повеситься на местечковой каланче. Кто-то донес генералу Муравьеву, что оный Мицкевичюс или Мацкявичюс скрывается в жидовской церкви. Жидовскую церковь спалили, а бунтаря не нашли. Долго не было в местечке синагоги – люди молились в наспех прибранном гумне, снятом в аренду, – но после, когда все успокоилось, Маркус Фрадкин расщедрился и пожертвовал на строительство молельни леса. Его хватило с лихвой и на синагогу, и на дом для раввина, и даже на отхожее место. В самом деле – не бегать же почтенным богомольцам по нужде за версту! С тех пор божий дом называли именем благодетеля – синагогой Маркуса Фрадкина. Сгорит она – сгорит и его имя, как ни дорога Фрадкину честь, но сотки дороже.
– Ребейношелейлом! – упивался собственным голосом молодой рабби Гилель, а старый рабби Ури положил высохшие руки на края коляски, закрыл глаза и своими увядшими ушами слушал молитву – он знал ее наизусть, как все молитвы, которые когда-либо евреи обращали к Господу Богу, рабби Ури слушал то, что никто, кроме него, в молельне не слышал, – шаги смерти. В последнее время он слышал их так отчетливо и ясно, как поступь возлюбленной в молодости, когда уши напоминают ущелье: каждому звуку вторит стозвонное эхо. Смерть шла за ним по местечку, как когда-то его жена Рахель, и шаги у нее были точно такие – неровные, вприпрыжку. Иногда она забегала к кому-нибудь и оставляла его посреди дороги, по вскоре возвращалась, и они оба снова были вместе.
Вот и сейчас она стоит и молится у него за спиной. Рабби Ури до сих пор не задумывался – за кого же молится смерть? За живых? За мертвых? За живых ей вроде бы не подобает молиться, а за мертвых – за мертвых живые молятся. Она молится за самое себя, подумал рабби Ури. Глупо, глупо. Он никогда за самого себя не молился. Всегда за других. И сегодня он молится не за себя, а за нее.
Рабби Ури приоткрыл глаза, но у него не было сил обернуться, и он снова закрыл их – захлопнул веками, как табакерку.
Чего, спрашивается, он сюда приехал? Мог бы помолиться дома. Неужто и он поверил в кабацкого мессию? Он – рабби Ури, мудрейший из мудрых, ученейший из ученых. Кто, кто, а он-то знает, что Бог велик, но чудес не совершает. Во всяком случае – Бог евреев. Совершил чудо – создал их и забыл, презрел, бросил на произвол судьбы, отдал на съеденье царям и урядникам. За все время существования иудейского племени – от наших праотцев Авраама и Иакова до ночного сторожа Рахмиэла – Всевышний ни разу не явил ему свою милость. Разве погромы – милость? Разве черта оседлости – милость? Нельзя сказать, что он, Бог евреев, обошел всех. Кого-то он – порой неизвестно за что – все же избрал и одарил своими благами. Но если один счастлив (да счастлив ли он?), значит ли это, что может возрадоваться все племя?
Рабби Ури тяжело дышал. В молельне было душно. Шутка сказать – столько ртов, выдыхающих свои жалобы и надежды. За его спиной молится смерть, а чуть поодаль шевелит губами его ученик Ицик Магид. Чему он его научил? Лес рубить. Рабби Ури имеет в виду не топор лесоруба, а мысли Ицика. Они острее чем топор и валят каждую минуту не дерево, а кого-то. Рабби Ури знает, кого своими мыслями рубит под корень Ицик. Лесоторговца Маркуса Фрадкина. А за что? За мать, поившую его дочь грудным молоком, за своего брата, не успевшего притронуться к соскам матери? А может, за то, что никогда не будет мужем Зельды?
Мир, размышлял рабби Ури под журчание молитвы, вместилище зла и пороков. И уж если Бог их не искоренил, что может сделать какой-то самозванец?
И все же любопытство и ревность снедали рабби Ури. Оказывается, можно и к Богу ревновать. Ревновать, как к женщине.
Рабби Ури не сомневался, что тот, о ком ему вчера рассказывал Ицик, шарлатан и проходимец. Чтобы догадаться о пороках отпрыска корчмаря, не надо быть ясновидцем. У прыщавого Семена все пороки видны на лице, как веснушки. Бросишь взгляд – и заковывай в кандалы, веди в острог, не ошибешься.
Рабби Ури уже жалел, что попросил Ицика свести его со странным пришельцем. Что он может от него услышать? Какое напутствие? Какой приговор?
Как бы угадав мысли учителя, Ицик наклонился над ним и прошептал:
– Странно. В синагоге его нет.
– Для посланца Бога весь мир молельня, – прошамкал рабби Ури и удивился собственному ответу. Только что он клял его, называл проходимцем и шарлатаном, и вдруг такие высокие, такие обязывающие слова, и Всевышний не замкнул ему уста, как делал всегда, когда рабби Ури испытывал его терпение глупостями или кощунством.
Он мог бы сейчас избавить Ицика от лишних хлопот, мог бы без всяких обиняков сказать, чтобы тот не приводил никого, но почему-то этого делать не стал. В конце концов пусть приходит – мало ли сумасшедших прошло через его дом. И сумасшедший может быть отрадой на старости лет, ибо, если хорошенько поразмыслить, что такое старость? Разве не тихое – без мятежей и просветов – сумасшествие? Одиночество и безумие всегда в родстве. Пусть приходит. Двери у рабби Ури открыты для всех.
– Ночью я, кажется, его видел, – снова прошептал Ицик.
А чего он, Ицик, хочет от чужака, подумал рабби Ури. Ему и посланец Бога не поможет. Не Бог стелет постель, а женщина. Кому – Голда, кому – Зельда, и ничего не поделаешь.
– Знаете, рабби, о чем я ночью подумал? – неожиданно сказал Ицик.
– Разве ты по ночам думаешь? – пробормотал рабби Ури.
– Иногда… иногда думаю.
– О чем же, сын мой, ты ночью думал? – снизошел рабби Ури.
Корчмарь Ешуа покосился на него: кто, кто, а рабби Ури должен знать, как себя вести во время молитвы, раскукарекались, как петухи, коли охота языком чесать – милости просим в корчму. Рабби Ури недолюбливал корчмаря. От него всегда несло чужим перегаром, даже от его талеса и ермолки.
– А может, он беглый солдат?
Рабби Ури молчал.
– А может, он беглый солдат? – повторил Ицик.
– Беглые солдаты по корчмам не шатаются, – сердито проворчал рабби Ури. – Молчи. Ты мешаешь реб Ешуа беседовать с Богом.
– А он с ним обо всем договорился. С завтрашнего дня водка на две копейки подорожает, – огрызнулся Ицик.
– Фармазон, – ругнулся Ешуа, иногда употреблявший диковинные ругательства.
Евреи помолились и начали не спеша расходиться. Ицик взглядом гончей собаки проводил Зельду, а та, к великому его удивлению, оглянулась и смутила его не то насмешливой гримасой, не то улыбкой, от которой он на мгновение словно ног лишился – земля подбросила его вверх, и он повис на облаке, как на частоколе.
Ицик наконец спохватился, впрягся в коляску, и она затарахтела по немощеной улице. Рабби Ури щурился от солнца и что-то бормотал под нос, и это бормотание было похоже на хрип и на заклинание одновременно.
Ицик оглянулся и увидел издали у синагоги фигуру человека в ермолке, в дорожном балахоне, какие носят обычно балагулы или плотогоны, и вскрикнул:
– Он! Он!
Он быстро развернул коляску, но рабби Ури остановил его:
– Не стоит за ним гоняться. Если он и впрямь послан Богом, он сам к каждому придет. Отвези меня домой!
И его любимый ученик Ицик не посмел ослушаться.
Человек в ермолке и дорожном балахоне осторожно открыл дверь синагоги и вошел внутрь.
В молельне никого, кроме служки, не было. Служка подметал пол, и пришелец долго смотрел на сутулую спину, на метлу, на крохотную кучку пыли, на совок и снова на сутулую спину. Вдруг служка обернулся, увидел незнакомца и вздрогнул.
– Чего испугался? – спросил у него пришелец. – Разве в храме можно кого-то бояться? Кроме собственных грехов. А грех у тебя один – ты скверно подметаешь.
– Откуда вы знаете… Вы же не здешний…
– Я всюдошний – сказал тот.
Слово-то какое чудное, промелькнуло у служки.
– Если душа подметена, то пыль на полу небольшой грех, – сказал человек в ермолке.
– Молебен кончился, – промямлил служка, сбитый с толку странными речами пришельца.
– Молебны кончатся, когда кончится мир.
– Ваша правда. Молитесь! Я потом подмету. Молитесь!
– Спасибо, – сказал человек в ермолке, приколотой к волосам булавкой, и стал тихо и невнятно молиться.
Служка, затаив дыхание, смотрел на него, наступив на совок и рассыпав пыль, собранную с дощатого скрипучего пола. Речь пришельца не вязалась с его затрапезным видом – холщовым балахоном в дырах и пятнах не то от свечного воска, не то от масла, с бархатной, изрядно поношенной ермолкой, с этой ржавой булавкой, смахивающей на стрекозу, кажется, дунь – и она улетит с головы, с тяжелыми, не для лета, башмаками, завязанными не шнурками, а бечевкой, с жиденькой бородкой – пригоршней седины. Зато глаза были такими же таинственными, лихорадочно горящими, как и его речь. Было что-то в них от приворотного зелья, особенно в белках, каких-то голубоватых, с темными беспокойными прожилками…
Когда пришелец кончил молиться, служка сказал:
– Приходите вечером! Вместе и молиться, и плакать лучше. Так велит Бог.
– А что ты знаешь о Боге?
– Ничего.
– Ничего. А говоришь: велит.
– Я человек маленький… темный, – стал оправдываться служка.
– Человек не бывает маленький. Или он человек, или нечеловек. Бог велит различать плач человека от слез нечеловека. И молитву, и смех, и каждое деянье. Ты, например, плачешь слезами, а ваш корчмарь – помоями.
– Как же так – помоями!..
Служка чувствовал, как пришелец завораживает его, опутывает своими дремучими речами. У него не было сил ни возражать, ни слушать. Он желал только одного – чтобы пришелец скорее убрался, потому что нагрянет молодой рабби Гилель и устроит ему взбучку. Молодой рабби – чистюля, синагога у него должна сверкать как лысина!
– Помоями, – сказал пришелец. – И с ним вместе плакать я не хочу. От его слез воняет.
– Я никогда не видел, как реб Ешуа плачет, – сказал ошарашенный служка.
– И я не видел, – сказал пришелец.
– Откуда же вы знаете?
– Там, – незнакомец воздел палец к небу, – все известно. Мы заставим его заплакать, и ты подойдешь к нему, понюхаешь и убедишься, чем пахнут его слезы.
Вроде бы говорил как нормальный, отметил про себя служка, а кончил как сумасшедший. Господи боже мой, столько времени потратить на сумасшедшего!
– Мы заставим его заплакать, – снова пообещал пришелец и откланялся.
III
Лихоманка трясла прыщавого Семена две недели. Целые две недели – от первой звезды шестого июля до первой звезды двадцатого июля – провалялся он на перине, набитой, казалось, не гусиными перьями, а языками пламени, лизавшими его с утра до ночи. Он метался, сбрасывал с себя одеяло, но приставленная к нему Морта, освобожденная от всех прочих работ по дому – стирки, мойки полов и посуды, – обнимала его своими тяжелыми, натруженными руками, укладывала, как дитя, и круглые сутки не отходила от его постели. Морта кормила его, поила лекарствами, а корчмарь Ешуа и его жена Хава боялись притронуться к сыну: если все заразятся, кто же будет водку разливать? Дважды из Германии приезжал пруссак в пенсне, переправлялся через Неман, осматривал больного, качал птичьей головой, совал, не пересчитывая, в карман новехонькие марки (у Ешуа водились не только рубли) и уезжал. Во второй раз он чуть не утонул, налетела среди бела дня буря, на самом стрежне перевернуло лодку, и служить бы по доктору поминки, если бы не плотогоны, вытащившие его из реки, как рыбу. Мокрый, перепуганный насмерть, он все-таки исполнил свой долг, отправился к больному и долго, нахохленный, сидел за ширмой, пока не высохли вещи и пока Морта не выгладила его подштанники, сорочку и пиджак в клетку. От брюк Ешуа он наотрез отказался – упаси бог от одежды еврея!
Униженный ожиданием, немец торопливо ощупывал белый и упругий живот Семена, скользил пальцами вниз, мимо пупа, без всякого стеснения, и спрашивал:
– Здесь не болит?
– Не-е-е, – вздыхал Семен, содрогаясь от неловкости.
– А здесь?
– Не-е-е.
– А что вы перед болезнью ели?
Прыщавый Семен едва удерживал голову на плечах. Еще движение, и она упадет и расколется, как глиняный кувшин. А тут еще этот немец, эта рыба без чешуи, мучает его своими дурацкими вопросами.
– Рыбу ел, – выдавил больной.
– Какую? – не унимался доктор.
– Речную…
– Я спрашиваю: вареную или жареную?
– Морта, скажи доктору, какую я ел рыбу, – обессиленно пробормотал прыщавый Семен.
– Рыбу он, господин доктор, не ел. Он ел мясо с жареной картошкой, – сообщила Морта. – Он рыбу не любит.
– Так, так. – Немец потрогал брюки – сухие ли? – и продолжал: – Говорите, мясо с жареной картошкой. А на каком жире ее жарили?
– Как всегда. На гусином.
– Гусином, гусином, – повторил немец и снова пощупал мошонку прыщавого Семена.
– Ну чего, дура, уставилась? – поймав взгляд Морты, вскрикнул сын корчмаря. – Отвернись! А вы, доктор, перестаньте, как у нас, у евреев, говорят, крутить мне корень… Меня просто сглазили.
– Что значит «сглазили»?
– Дурной взгляд бросили, – объяснил корчмарь Ешуа, стоявший все время в стороне и прикрывавший большим носовым платком крючковатый нос.
– Ну и что? – повернулся к нему немец.
– Отсюда и хворь, – вежливо заметил корчмарь.
– Это унмёглих! Наш организм не боится никаких взглядов. Нет взглядов, зажаренных на плохом масле. Во всяком случае мне такие не попадались. Есть микробы…
– Вшей у нас нету, – промямлил корчмарь. – Господь свидетель!
Доктор поморщился. Левый глаз у него дрогнул, и пенсне повисло на серебряной цепочке.
– Есть взгляды хуже ваших микробов и вшей! – взъярился прыщавый Семен и даже привстал с кровати. – И слова есть. Я покажу ему, сволочи, лихоманку! Я его из-под земли выкопаю!
Немец повертел в руке пенсне, как бы взвешивая его, и сочувственно процедил:
– Я лечу болезни, а не причуды.
Оседлав нос пенсне, он прописал какую-то микстуру и уехал.
После его отъезда прыщавому Семену стало еще хуже. Он впадал в беспамятство, бредил, что-то кричал, и Морта прикладывала ему ко лбу смоченную в студеной воде тряпицу и шептала:
– Не умирай, Симонас. Не умирай!
Она сбегала к какой-то троюродной бабке, слывшей знахаркой, выпросила у нее настоянное на травах зелье и тайком от корчмаря Ешуа и Хавы насильно вливала больному в его красное, как бы подернутое плевой заката, горло. Прыщавый Семен вгрызался беспамятливыми зубами в Мортину руку, кусал ее, и сиделка вскрикивала от жалости и боли.
Напоив Семена – Симонаса – целебным зельем, Морта садилась в изножье кровати и издали смотрела на него. Пусть болеет, сладко думала она, пусть болеет подольше, только не умирает. Болезнь Симонаса была для нее и мукой, и радостью. Это не то что день-деньской мыть и перемывать горы посуды, ползать на четвереньках по полу и вылизывать каждый плевок, подбирать объедки и блевотину. В этой большой, с двумя высокими окнами, комнате Морта – хоть ненадолго – чувствовала себя хозяйкой. Она подходила к окну, раздвигала занавеску и глядела во двор – на крестьянские повозки, подкатившие к шинку, на легкие дрожки какого-нибудь захмелевшего шляхтича, легкого и воздушного, как сон, на урядника Нестеровича, спешившего в корчму не за стаканом белой, а за своей ежедневной мздой (Ешуа не зря платил ему деньги!), следила за бабами и детишками, оставшимися на возах в ожидании своих загулявших кормильцев. Это было прекрасное, щемящее и до сих пор не изведанное ею чувство. Даже походка у нее изменилась: в ногах появилась какая-то легкость, как у того залетного шляхтича, бедра неожиданно округлились, так не выпирали, как раньше, а груди, впитавшие столько тепла, налились, и под платьем ныло и свербило до замирания сердца.
Девочкой – тринадцатилетней козой – привезли ее родители из деревни и отдали в услужение к Ешуа. Корчмарь платил им за нее водкой и заботой – не обижал Морту, кормил, одевал и оберегал от пьяных жеребцов, норовивших своими неверными руками залезть ей под юбку. После мятежа шестьдесят третьего года родителей Морты, трех сестер и двух братьев-близнецов угнали в Сибирь вроде бы за то, что раза два позволили бунтовщикам выдоить корову. Корова уцелела. Когда пришли солдаты, она паслась на выгоне, вдали от дома, и ее не тронули. Морта пригнала буренку в корчму.
Корчмарь Ешуа поначалу ни за что не соглашался.
– Что если узнают? – напустился он на Морту.
– А что узнают?
– Узнают, что ее доили те самые… Да мы на каторгу угодим! – кипятился Ешуа. – Лучше продать ее и деньги положить на твое имя.
Но тут заупрямилась Морта:
– Раз так, то я ухожу вместе с ней. Корова не виновата.
– С каких пор доить корову – преступление? – неожиданно вмешалась Хава, женщина тихая, как Господь Бог.
И корчмарь Ешуа первый раз в жизни внял голосу своей жены.
Корова осталась, а с ней и Морта.
Пока корова была жива, Морта чувствовала себя не только служанкой. Это было все, что ей принадлежало в этой чужой корчме.
Не прошло и года, как буренка пала. Морта долго оплакивала ее – больше оплакивать было некого…
– Отец отравил ее, – сказал как-то семнадцатилетний Семен. – Если ты не будешь меня слушаться, он и тебя отравит.
Сказал и повалил на солому.
По воскресеньям и праздникам Морту отпускали в костел – помолиться или на исповедь. Она сидела где-нибудь на задней скамье, не сводила глаз с ксендза и с большого позолоченного распятия, на котором беспомощно и картинно склонял голову Иисус-Спаситель, такой же, как уверял корчмарь Ешуа, еврей, как он, – только молодой, никогда не торговавший водкой, с лицом и волосами панича, промотавшего все свое состояние в каком-нибудь придорожном шинке и промчавшегося мимо местечка, где, кроме дешевого хмеля, нет ничего достойного внимания.
Морта съеживалась под застывшим взглядом Спасителя, сжимала махонький крестик, сверкавший прыткой уклейкой в белой и непорочной ложбине между тугими, налитыми тревожной спелостью холмиками грудей, шептала какие-то слова, бессвязные, невразумительные, суеверные, покусывала здоровыми и жадными зубами нижнюю, чуть припухшую от той же неугомонной спелости губу и воровато оглядывалась по сторонам на спины баб и мужиков, ослепленных и обезличенных молитвой. И хотя Морта ни в чем не погрешила против Господа, она все-таки чувствовала себя жалкой и неисправимой грешницей.
– Жидмерге! Жидовская шлюшка! – обжег ее однажды чей-то хрип в притворе.
Люди злы, подумала она. Но стоит ли кому-нибудь, кроме Господа, доказывать свою добродетель? Вседержитель знает все: и про тех, кто чист как слеза, и про тех, кто грешен. Он и только он ее единственный судия.
Жить рядом с грехом – еще не значит жить во грехе. Корчма день-деньской кишит забулдыгами и пьяницами, каждый, выпив, норовит потискать, задрать юбку, особенно сейчас, когда ей, Морте, не тринадцать, когда все в ней, как по осени, поспело и налилось неукротимым, рвущим одежду соком.
Да и Семен наглеет от поста и одиночества – нашел бы себе еврейку и собирал бы с каждой ее грядки, с каждой ее веточки…
Почему, думала она, сидя в изножье широкой хозяйской кровати, одному на свете суждено торговать водкой, а другому ни за что ни про что топать в Сибирь? Какой мерой там, на небесах, Господь меряет наши судьбы? Если мера для всех одна, то почему солдат безгрешнее того, кто позволил мятежникам подоить корову? Подоить корову, и только. Разве у захотевшего испить молока надо прежде, чем налить кружку, спросить: а что у тебя, мил человек, на уме? Ты за царя или против?
Прыщавый Семен продрал больные глаза, похмельно огляделся, увидел Морту, облизал пересохшие губы и спросил:
– Давно сидишь?
– Давно.
– Ух ты, – удивился он и тряхнул тяжелой, как бы отчужденной, головой. – Будто всю отцову водку вылакал.
– Лежи, – сказала Морта, боясь, что он встанет и ей придется вернуться в опостылевшую корчму. – На, попей!
– А что там?
– Зелье такое, – Морта осторожно протянула ему стакан. – Тетка дала.
– Какая еще тетка?
– Антосе… Пусть, говорит, выпьет – назавтра полегчает… А лекарство немца я в помойное ведро вылила…
– Немца?
– Отец в Германию за лекарем ездил.
Прыщавый Семен уставился на Морту, подсек взглядом крестик, потрогал рукой горячий лоб, но от зелья отказался: поверишь такой тетке Антосе, и заказывай поминальный молебен.
– Ступай!.. Отца позови!..
– Господин в городе. Водка кончилась.
– Я здесь подыхаю, а он за водкой разъезжает, – огрызнулся Семен.
– Люди требуют, – защитила хозяина Морта. – Праздники скоро. Успенье. Как же на Успенье без водки?
– До Успенья еще далеко… А ты… ты лучше сядь поближе, – пробормотал Семен и уперся ступней в ее упругую, чуткую, как зверь, ягодицу.
Морта вздрогнула от прикосновения, напряглась вся, одернула толстую домотканую юбку и против воли подвинулась.
– Ближе! Еще ближе! – зачастил Семен и откинул одеяло. Ноги у него были длинные и волосатые.
– Не бойся! – подстегнул он ее. – Не съем.
И осклабился, и снова болезненным пронзительным взглядом, как рыболовным крючком, подсек уклейку-крестик, и засучил голыми ногами.
– Ну?
Морта зажмурилась, подвинулась, тяжко и стыдно задышала. Прыщавый Семен наклонился к ней, сжал крестик до хруста, до тошноты и негромко, каким-то гортанным скорбным голосом сказал:
– Сними ты его!.. Да сними!..
– Никогда! – жарко выдохнула Морта. – Почему вы, евреи, такие?
– Какие?
– Бога не боитесь?
– А чего его, старого, бояться? Он – там, а ты… ты вот… только руку протяни…
– Нет, нет, – встрепенулась она. – Недаром говорят: от вас все беды.
– А от вас? – беззлобно полюбопытствовал Семен, упиваясь ее растерянностью.
– От нас?.. Молоко… хлеб… ягоды… земля…
– Глупости! – улыбнулся он и попытался ее обнять.
– Не надо…
– Дура!.. Для кого себя бережешь?
Прыщавый Семен оттолкнул ее, уронил тяжелую голову на подушку и долго лежал молча, брезгливый, непривычно смирный, великодушный. Лицо его, разрумяненное лихорадкой, обрело вдруг странную притягательность. Только мохнатые брови портили его и придавали ему угрюмую решимость да обметанные белесой плевой губы изнывали не столько от жара, сколько от неодолимого вожделения.
– Все равно ты для всех шлюха, – складно, как библейский стих, произнес прыщавый Семен.
– Нет! – вскрикнула Морта.
– Шлюха! Кто поверит, что ты со мной не спишь?
– Бог! Он все видит и слышит!..
– Вздор! – Прыщавый Семен вскочил, схватил Морту за плечи, привлек к себе и впился в ее мягкие припухлые губы. – Нет Бога, нет… Все мы батрачим у дьявола, – твердил он, целуя ее, как слепой.
Морта вырвалась из его непристойных, истощенных болезнью рук, поправила растрепанные волосы и медленно, как на плаху, зашагала к двери.
Прыщавый Семен слышал, как знакомо щелкнул засов, как Морта, не сказав ни слова, вышла. Она всегда так: уходит молча, стиснув зубы, словно и впрямь идет на смерть. Порой ему казалось, что уйдет и повесится где-нибудь в сарае, где отец держит пустые бутылки и лошадь хрумкает овес, или утопится в реке. В такие минуты прыщавого Семена охватывало какое-то волнение, мерзостное до зуда, и он ловил каждый звук за окном, чтобы убедиться в своей неправоте и мнительности, и, когда откуда-то снова доносился низкий грудной голос Морты, он чувствовал себя до странности опустошенным и даже обманутым. Нет, он вовсе не желал Мортиной смерти – она была единственным человеком в доме, к которому прыщавый Семен испытывал что-то похожее на необременительную и бескорыстную любовь. Морта никогда от него ничего не требовала, ни в чем его не упрекала, не старалась его переделывать или наставлять на путь истинный, как это делал отец, для которого путь истинный – это крохотный отрезок земли от супружеской постели до стойки в затхлом, прокуренном и проспиртованном шинке.
Прыщавый Семен не любил отца. Мать терпел, жалел, а отца не любил. Порой до лютости, до исступления. Ради чего он день-деньской спаивает этих дремучих, этих молчаливых, но буйных во хмелю мужиков, для которых штоф белой – единственная горькая радость? Почему сам не пьет и приходит в ярость, когда сын наливает себе рюмку? Разве у него, у прыщавого Семена, нет повода залить свои глаза, затуманить мозг и взбодрить хмелем сморщенную, озябшую от скуки и достатка душу? «Бог пьяниц» – так прыщавый Семен называл того, кто дал ему жизнь. Жизнь, состоящую из пьяного дня, пьяного вечера и даже пьяной ночи. Пьяной потому, что и по ночам стучатся в ставню и требуют:
– Ешуа, бутылку!
И Ешуа, заспанный, в одном исподнем белье, в шлепанцах на босу ногу, со свечой в руке идет в корчму и выносит на крыльцо водку.
Когда Семен был маленький, ему снились пьяные сны. Один сон он до сих пор помнит: корчма битком набита, гудом гудит, отец потный, настороженный, мать в переднике с кружкой в руке, суетятся, хлопочут, и вдруг входит он, Семен, оглядывает всех и говорит:
– С неба водкой льет!
И все бросаются из корчмы во двор: мужики, отец, мать. Во дворе – лужи, чавкают под ногами. Мужики задирают головы, раскрывают рты, и водка течет по лицам, по бородам, по сермягам. А отец стоит ни жив ни мертв, смотрит на небо, на струи и кричит:
– Хава! Тащи ведра! Чего стоишь?
Порой прыщавому Семену кажется, что он до сих пор еще не проснулся.
Нет, корчмарем он не будет. Он не собирается проторчать всю жизнь за стойкой. Водка, конечно, – золотой дождь, но он себе поищет что-нибудь получше.
– Во всей империи ничего доходнее водки нет, – не раз убеждал его отец. – От хлеба какая радость? Только брюхо набьешь. А выпьешь водки, и горе – радость.
Хитер отец, хитер, но и он, Семен, не лыком шит. Пусть кто-то промышляет водкой, а он выберет себе другое ремесло. Чистое, неприметное, без блевотины и пьяной отрыжки, без заглядывания кому-то в глаза и без стука в ставню: «Ешуа, бутылку!» Кое-что у него уже наклевывается. Отец об этом и не догадывается. Об этом никто не должен догадаться. Ни одна душа на свете. Жаль только – слег не вовремя. А так все вроде складывалось как нельзя лучше. Урядник Нестерович слов на ветер не бросает. Пусть он и не бог весть какой мудрец, но в иных делах смыслит больше, чем премудрый рабби Ури.
Когда-то прыщавый Семен, как и Ицик Магид, учился у рабби Ури. И оба бросили учителя: Семен сел на шею отцу, а Магид ушел в лес, валить деревья. А чему их старик мог научить? Всяким премудростям? Вере в Бога? Сегодня вера в Бога гроша ломаного не стоит, а за любую премудрость платят меньше, чем за стакан белой в корчме. Рабби Ури, конечно, прав, мир и люди несовершенны. Но он, прыщавый Семен, не мир и не люди, а человек. Притом не просто человек, а еврей. Человеку-еврею с таким нелепым прозвищем, как у него, нечего думать о людях и о мире. Пора ему подумать о себе. С какой стати он должен заниматься исправлением чьих-то ошибок и несовершенств?
Если рабби чему-то и научил их, так только трезвому пониманию того, что за все несовершенства и пороки – а им несть числа – рано или поздно приходится расплачиваться муками и терзаниями совести.
А что, если те, кто несовершенны и порочны, будут расплачиваться чистоганом, подумал прыщавый Семен. Что, если открыть лавку пороков? Чужие пороки доходнее, чем водка.
Именно такую лавку и предлагает ему открыть урядник Нестерович. Он, Нестерович, будет их единственным покупателем. И денег у него хватит, потому что эти пороки скупает не он, а империя. Вот он – золотой дождь! Только успевай подставлять под его благодатные струи голову! А какие пороки в цене, прыщавый Семен хорошо знал. Нет более доходного порока, чем вольнодумство и неповиновение. Доходного, конечно, для того, кто им торгует, а не обладает.
– Сам знаешь, – сказал ему при встрече урядник Нестерович, – там, где пьют, там и языками чешут.
Хотя прыщавый Семен и редко заходил в корчму, но сам не раз слышал, как клокочет подогретое брагой недовольство. Тогда, при встрече, он не дал уряднику окончательного ответа.
– Еврей никогда не должен давать окончательного ответа, – учил его отец. – Окончательный ответ как могила: сам роешь и сам себя зарываешь.
– Я подумаю, – услышал от него урядник.
Теперь, лежа в постели и борясь с обрушившимся на него недугом, прыщавый Семен прикидывал, какие выгоды или невыгоды сулит ему предложение урядника. Он вспомнил, как в детстве жандармы схватили в отцовской корчме какого-то мужика, как поволокли его к телеге, как он отплевывался кровью и мать присыпала следы песком. Играя во дворе корчмы, Семен долго еще поглядывал на землю с опаской и непонятной скорбью.
Он прикидывал и так и этак, но все время что-то не сходилось, и мысли его снова, как тень, упали на пришельца. Кто он? Когда-нибудь – когда прыщавый Семен откроет лавку пороков – он до него доберется, тот не уйдет от него. В конце концов он ему какой-нибудь порок придумает. Торговать можно не только существующими, но и придуманными пороками. За придуманные платят не хуже.
Пока я не дал ответа, размышлял прыщавый Семен, урядник Нестерович может мне и не верить. Но стоит мне согласиться – и тому в ермолке несдобровать. Я ему что-нибудь придумаю.
Что же ему придумать?
Беглый солдат или каторжник?
Лучше – солдат. На каторжника он не похож. Каторжник в ермолке!
И прыщавый Семен рассмеялся. Смех прозвучал в пустой комнате зловеще и нелепо, и больной осекся. Куда же девалась Морта? Почему она не несет ему есть? У него как раз аппетит разыгрался.
– Морта! – позвал он.
Совсем распустилась, праведница, подумал Семен. Ее Бог, видишь ли, не позволяет ей лечь с евреем. Да разве у Бога надо спрашивать, с кем лечь в постель? У него надо спрашивать, с кем детей мастерить… Ну уж только не с безродной девкой!.. Безродная девка в матери не годится. Вот Зельда Фрадкина – она и в жены, и… Но ее, как Морту, не заарканишь. Маркус Фрадкин и аркан, и руки обрубит. Но и на него, на Маркуса Фрадкина, можно управу найти… Пусть не очень-то своим богатством кичится. Сорок тысяч саженей леса – это еще не богатство. А вот сорок… тысяч саженей пороков!.. Только нащупай его, Маркуса Фрадкина, порок и снимай урожай – Зельду.
– Морта!
Никто не отзывался.
IV
Был день как день: не пасмурный и не светлый, так, серединка на половинку. С самого утра парило, как всегда в конце июля, когда откуда-то, с того берега реки (из Германии, что ли?) вдруг хлынет духота, смешанная с влагой и испарениями, и деваться некуда, во дворе – ад, да и дома не райские кущи, сидишь и обливаешься потом. Господи милосердный, сколько его, этого пота, в человеке – реки целые!
Ночной сторож Рахмиэл сидел на столе, простоволосый, без рубахи, в одних подштанниках, и латал Казимерасову сермягу. Сермяга была старая, задубевшая, и иголка, понукаемая наперстком, то и дело спотыкалась о сукно, как о камень. После бессонной ночи полагалось бы Рахмиэлу отдохнуть, да разве в такой духоте уснешь? Только ляжешь, закроешь глаза, и – хоть выжимай. Ну откуда его столько, этого пота, в человеке? Отчего потеют в молодости, Рахмиэл, положим, знал – он сам когда-то был молодым. Но старость?
Рахмиэл сидел на столе, заложив ногу на ногу, и думал о том, отчего потеет старость. Он думал о силе и немощи, и мысли его спотыкались о задубевшую кору черепа, как игла о сукно сермяги.
Время от времени Рахмиэл давал своим мыслям передышку – начинал петь какую-нибудь песню, путая слова, но не огорчался, ибо слова никогда не имели для него значения. Слов в человеке больше, чем пота. Но если от пота, особенно на полке в бане, еще какой-то прок, то в словах ни проку, ни корысти. Бог свидетель, всю свою жизнь Рахмиэл обходился без них. Он не рабби Ури, который все еще верит в слова. Господь Бог наговорил столько, и что с того? Кто-нибудь послушался его? Хорошо говорить всякие слова, когда сидишь на облаке и смотришь сверху вниз. А вот когда копошишься внизу, в грязи и дерьме, тогда только эти два слова и знаешь. И тебе хватает их до самой могилы!
Рабби Ури всю жизнь просидел на облаке, на пыльном облаке Торы, а он, Рахмиэл, копошился внизу.
Пока был молод, прокладывал дороги. И эту вот, в Ковно, тоже проложил. Зимой и летом гнул спину на ковенском тракте, там ему и расплющило ногу, как блин. Полгода двигаться не мог. Повернется в постели и криком кричит. Полгода не вставал – брат на руках в нужник носил и усаживал, как куклу. Но Бог смилостивился. Столяр Генех Кац вытесал ему костыль, и он помаленьку да потихоньку стал передвигаться, сперва по дому, потом по двору, а когда окреп, и по местечку, кому – кастрюлю запаяет, кому – дырку на лапсердаке зашьет, кому – дужку к ведру приладит. Никакой работы не чурается, берет сколько дают, пугает костылем собак и девок. Иногда добредет до тракта, сядет на обочину и смотрит, как катят по нему возы или жандарм в пролетке мчится.
В один прекрасный день Рахмиэл исчез из местечка. Появился он снова через четыре года – не один, с женщиной. Она вела за руку чумазого мальчонку в нелепом картузе, надвинутом на преданные собачьи глаза, и в залатанном пиджаке без пуговиц и без подкладки. Поселились они на окраине, в заброшенном овине, от которого уцелели только стены и замшелая крыша. Под этой вот замшелой крышей и родила Рахмиэлова женщина первую девочку. А потом посыпались погодки. Сколько у Рахмиэла их было, никто в местечке не считал. Костлявые, долговязые, неумытые, они носились по округе, таскали в овин все, что попадалось на глаза, и люди, глядя на них, сокрушенно качали головами и приговаривали:
– Он их, видно, костылем делает.
Костылем не костылем, но овин кишел детьми, как пруд мальками.
Сам Рахмиэл кое-как перестроил развалюху, вырубил окна, залатал соломой крышу, настелил из неструганых досок пол, сколотил стол, стулья, кровати – руки-то золотые! – и не столько заботился о числе своих отпрысков, сколько о заработке. Он по-прежнему паял, чинил, вставлял стекла, но больше всего зарабатывал пением – сильным и высоким голосом, прорезавшимся у него еще тогда, когда он с расплющенной ногой лежал в постели. Не было в округе – от Юрбаркаса до Мемеля – ни одного еврейского праздника, ни одной свадьбы, на которых Рахмиэл бы не пел. Евреи слушали и диву давались: что это за птица цвенькает в его голодном горле?
Отправляясь на свадьбу, Рахмиэл брал с собой всю ораву, и, пока тешил своим удивительным пением скучающих молодоженов и застывших от счастья сватов и сватий, она дружно и без разбору уплетала за обе щеки, а потом непотребными звуками отравляла свадебное застолье или бегала по большой нужде во двор.
Так они все жили до тех пор, пока не случилось несчастье и все, кроме самого Рахмиэла и того мальчонки, в картузе и пиджаке без пуговиц и подкладки, вымахавшего почти до отчимова плеча, не слегли и в течение месяца не вымерли как мухи. То ли чем-то отравились на свадьбе, то ли другая неведомая напасть скосила, но Рахмиэл не успевал их хоронить.
Когда он похоронил последнего, к нему явились лесоторговец Фрадкин и урядник, не нынешний, Нестерович, а тот, которого не то в Молодечно, не то в Гродно перевели, и предложили они Рахмиэлу убираться на все четыре стороны, ибо – Господь упаси и помилуй! – зараза еще поползет по местечку, а из местечка – Господь упаси и помилуй – перебросится в уезд, из уезда в другие губернии.
– А как же изба? – только и спросил Рахмиэл.
– Избу чего жалеть? – заметил Фрадкин.
– Жалко, – сказал Рахмиэл.
Он потрепал по голове Арона – так звали мальчонку – и, как бы оправдываясь, выдавил:
– Больше нам не петь на чужих свадьбах.
И шагнул к двери.
– Мальчонку как-нибудь пристроим… – остановил его лесоторговец. – Когда все уладится, и ты сможешь вернуться.
– Да мы уж лучше вдвоем… – пробормотал Рахмиэл.
– Мальчонку оставь, – поддержал лесоторговца урядник. – На господина Фрадкина можно положиться.
Тогда он, дурак, не понял, куда Фрадкин клонит. Тогда поверил, что Арону у Фрадкина будет лучше. Фрадкин устроит куда-нибудь, определит…
Он и устроил, и определил!
– Рабби Ури, где мой Арон?.. Помните – бегал такой в картузе? – спросил Рахмиэл, когда через год вернулся.
– В рекруты сдан, – ответил рабби Ури.
– Фрадкин?
Рабби Ури молчал. Сидел на своем облаке и молчал.
– Фрадкин сдал его вместо своего Зелика?
– Никогда не вини других, – сказал рабби Ури, и изо рта его на Рахмиэла повеяло небесной стужей. – Давай лучше подумаем, в чем мы сами виноваты.
– А в чем я, ребе, виноват? В том, что я Рахмиэл, а не Маркус Фрадкин? В том, что не урядник?
…Рахмиэл тыкал иголкой в сермягу, и с каждым тычком у него в голове что-то вспыхивало, угасало и снова вспыхивало. Нет на свете ничего удушливее, чем мысли, думал он. От духоты хоть тень спасает. А какой тенью спастись от мыслей? Зачем рабби Ури зазвал его к себе – только ли затем, чтобы с ним чайку попить? Какой он, Рахмиэл, собеседник? Рабби Ури зря в стакан сахару не положит. Не потому что скуп, а потому что привык, чтобы с ним не сладость делили, а горечь. Интересно знать, что это за посланец Бога, о котором он допытывался, а потом перевел разговор на Арона, которого он, Рахмиэл, упрямо называл не пасынком, а сыном. А колотушка? С чего это такой праведный и такой благочестивый муж, как рабби Ури, вдруг у себя дома, среди ночи, станет стучать колотушкой? Что-то здесь не так.
Рахмиэл и не заметил, как в раскрытую дверь вошел человек в ермолке, приколотой булавкой к волосам, как постоял, огляделся и не спеша, как бы просеивая увиденное, направился к столу.
– Здравствуй, – сказал человек в ермолке, и Рахмиэл вздрогнул. Еще бы! Он не помнит такого случая, чтобы кто-нибудь здоровался с ним. В местечке вообще не очень принято здороваться. Скажешь: «Добрый день», а день совсем не добрый, спину ломит, дышать нечем, и на душе, как на опустевшей рыночной площади, один помет.
– Здравствуй, – ответил Рахмиэл и оглядел человека в ермолке с ног до головы. Не о нем ли говорил рабби Ури, когда они оба прихлебывали круто заваренный чай?
– Ты шей, шей! – не глядя на Рахмиэла, тихо произнес пришелец. – Я только напиться зашел… Где у тебя вода?
– В ведре, – выдохнул Рахмиэл и оторвал от сермяги иголку.
– Ты шей, шей, – снова сказал человек в ермолке и так же неспешно, как вошел, направился в прихожую.
Пока он туда ходил, Рахмиэл затянул сползающие подштанники пожелтевшей тесемкой и на всякий случай прикрыл шапчонкой вспотевшую голову.
– Вода зацвела. Пойду к реке и принесу свежую.
Пришелец стоял перед Рахмиэлом с ведром в руке, и старик еще больше растерялся.
– Зачем же ты сразу к реке не пошел? – прошамкал он.
– Тебе этого не понять, – любезно объяснил человек в ермолке и, позвякивая ведром, вышел из хаты.
От этого позвякивания Рахмиэл вспотел пуще прежнего, выскользнул во двор и долго смотрел вслед удаляющемуся пришельцу. Ему вдруг – непонятно почему – захотелось, чтобы человек в ермолке потопил ведро и никогда не вернулся.
Но пришелец вернулся, поставил у ног Рахмиэла ведро и молвил:
– Пей!
Рахмиэл медлил. Что-то его сковывало – то ли туго затянутые подштанники, то ли взгляд человека в ермолке, пристальный, полный равнодушного сострадания, то ли нахлынувшие вдруг воспоминания о мальчонке в картузе и пиджаке без пуговиц и подкладки.
– Пей, – повторил незнакомец.
Рахмиэл нагнулся, сунул голову в воду, и возникшие в его задубевшем мозгу видения расплескались, размылись, растаяли. Теперь с его лица, заросшего белесой свиной щетиной, струился не пот, а текла речная вода, такая понятная, такая свойская, что и дышалось легче.
– Хорошо? – спросил пришелец.
– Угу! – буркнул Рахмиэл. – Спасибо.
– Спасибо надо говорить не мне, а реке. Ты хоть когда-нибудь сказал ей спасибо?
– Нет, – опешил Рахмиэл.
– Почему?
– Никто не говорит, – пролопотал сторож.
– А ты пойди и скажи. И будешь первым в местечке.
– Засмеют, – возразил Рахмиэл, защищаясь от слов человека в ермолке. – Обзовут сумасшедшим.
– А по-твоему, лучше быть как все, чем сумасшедшим?
– Лучше – как все.
– Даже когда все сумасшедшие?
– У меня три курочки и петух, – взмолился Рахмиэл. – И картошка прошлогодняя… Может, говорю, отварить чугунок?.. Я быстро…
Рахмиэл по себе – да и не только по себе – знал: когда ешь, ни о чем не думаешь. Еда, если ее много и если вкусная, – лучшее спасение от всяких там мыслей. Как ни мудра голова, а куда ей до желудка. Желудок всегда берет верх. По правде говоря, Бог допустил оплошность – дал человеку два уха и два глаза и только один желудок. Его можно чем угодно набить – картошкой, яйцами, редькой. Хуже, когда голодна голова, – ничем ее не набьешь.
С тех пор как умерли жена и дети, а пасынка Арона забрали в рекруты, Рахмиэлова голова все время требовала какой-то пищи. Он пытался насытить ее забвением, но она все равно не давала ему покоя.
Еда еще и тем хороша, думал Рахмиэл, что почти не надо говорить. Черпаешь ложкой, хлебаешь, жуешь – и молчишь. Молчание, конечно, не золото, но для еврея – алтын: молчальника не сразу продашь и купишь. Особенно когда кругом чужие, когда то, что говоришь ты, уряднику переводят, а то, что говорит он, ты должен выполнять, даже если не бельмеса не понимаешь. Не потому ли он, Рахмиэл, и подался в сторожа: тишь, безмолвие, ходишь по местечку, поглядываешь на ставни, и сам ты – как ставня с железными ободами.
– Пусть будет картошка, – согласился человек в ермолке и понес ведро в избу.
– Как тебя зовут? – спросил Рахмиэл, когда картошка задымилась на столе рядом с сермягой.
– А как ты хочешь, чтобы меня звали?
Рахмиэл от неожиданности выронил картофелину. Она шлепнулась на пол и рассыпалась.
– Можешь называть меня каким угодно именем.
– Как же так? – удивился Рахмиэл. – У каждого свое имя. Меня, скажем, зовут Рахмиэл. А тебя?
– Выбирай любое. Разве тебе имя важно? Тебе важно что-то при этом имени вспомнить.
– А что вспомнить?
– А что вспоминают на закате дней? Грехи!
Пришелец сидел напротив Рахмиэла, неотрывно смотрел ему в глаза, и в глазах сторожа что-то плавилось и переливалось, пока крупная старческая слеза не упала на дряблую щеку и не застряла в щетине.
– Вот и называй меня именем своего греха, – гость разломил картофелину, обмакнул ее в серую слипшуюся соль и снова уставился на хозяина. – Грехи безымянными не бывают. – И отправил половинку в рот.
От него исходила какая-то засасывающая омутная сила, и Рахмиэл покорно следовал за ним, как нитка за иголкой.
– Арон, – выдохнул он, и новая струя пота залила его подбородок.
– Арон так Арон, – равнодушно сказал человек в ермолке. – Что же ты мне, Арону, расскажешь?
– А что рассказывать?
– Все. Торопиться некуда. День долог.
– Послушай, – вдруг встрепенулся Рахмиэл, – ты меня не знаешь, и я тебя не знаю. Поешь и ступай с миром. Мне еще до вечера надо сермягу залатать. Казимерас уж дважды приходил.
– Я уйду, по грех-то останется, – как ни в чем не бывало сказал человек в ермолке.
– А у меня нет грехов! Нет! – воскликнул Рахмиэл. – За грехами ступай к Фрадкину! В корчму к Ешуа!
– Придет и их черед, – спокойно ответил гость. – Грехов, говоришь, нет, а гонишь. Что ж, потрапезничаем и разойдемся.
Они ели молча, поглядывая друг на друга, и чем больше реб Рахмиэл смотрел на пришельца, тем изнурительней делалось молчание. Поди знай, кто нынче переступает твой порог, думал Рахмиэл, давясь обыкновенной, тысячи раз еденной картошкой. Безродный бродяга, каких полно во всех городах и весях, великовозрастный лентяй, нахватавшийся где-нибудь в ешиботе ученых премудростей и скорее из-за лени, чем из-за учености слегка повредившийся в рассудке? Или родной сын, угнанный много-много лет назад куда-нибудь на край света? А вдруг он сменил нелепый картуз на эту засаленную ермолку, приколотую булавкой к волосам, а пиджак без пуговиц и подкладки на этот дорожный балахон, от которого пахнет навозной жижей? Почему он сразу не напился из реки, а пришел сюда, в эту развалюху? Есть в местечке избы и покраше и побогаче, там в ведрах не цвелая вода, а мед и молоко. Чем же он прельстился? Нет, Рахмиэл не смеет его выгнать. Он должен его приютить, принять, как каждого сирого и бездомного, и не гадать, чей он посланник…
Разве тот, кто напоминает нам о наших грехах, не посланец Бога?
Так он вроде бы с виду человек разумный: сходил к реке, набрал свежей воды, принес, прежде чем взяться за еду, помолился и ест совсем не как сумасшедший, медленно, с достоинством, как в доме Фрадкина или братьев Спиваков, без остервенения, зубами не клацает, снимает с каждой картофелины шелуху, макает в соль, крошки смахивает с бороденки не на пол, а в ладонь – сразу видно: не мужлан, не обжора. А то, что путано говорит, так кто же в местечке, кроме урядника, выражается ясно? Все путаники, все норовят обвести вокруг пальца, пыль в глаза пустить.
Давно Рахмиэл не садился есть вдвоем: все один да одни. Когда один, и харч в горло не лезет.
– А сам ты где живешь? – спросил он, когда они вдоволь помолчали.
– Везде, – ответил человек в ермолке.
– Так не бывает, – осторожно заметил Рахмиэл. – У каждого своя крыша, как и имя.
– Небеса – моя крыша, – произнес гость и снял балахон.
– А осенью? Когда твоя крыша протекает?
– А осенью я живу там, – человек в ермолке поднял глаза к потолку.
– На чердаке?
– За облаками, – сказал гость. – Там светло и просторно. Думаешь, сказки тебе рассказываю? В чердак же ты веришь?
– В чердак? В чердак верю, – Рахмиэл покосился на пришельца, на его балахон, и навозная жижа ударила ему в раздутые ноздри. Когда реб Рахмиэл волновался, он всегда раздувал ноздри.
– Глупо верить в то, что можно ощупать руками. В урядника, в корчмаря, в лесоторговца Фрадкина. В картошку, которую мы с тобой только что навернули…
– А ты… ты и Фрадкина знаешь? – насторожился Рахмиэл.
– Знаю.
– Он здесь царь и бог, – быстро проговорил сторож, и у него отвисла нижняя губа.
– Богом может быть только тот, кого все любят, а царем – тот, кого хоть один боится. Ты боишься Фрадкина, и потому он для тебя царь. А я его не боюсь.
– Фрадкин сдал моего пасынка… Арона… в рекруты, – внезапно признался реб Рахмиэл. – Вместо своего Зелика. Пришел сюда и забрал.
– Это я помню, – сказал человек в ермолке.
– Ты?
– Я. Арон.
– Но ты… ты только назвался Ароном. У моего Арона родинка на правом плече… величиной со спелую земляничину.
– Выжгли эту родинку… Сорвали эту земляничину, – сказал человек в ермолке.
– Кто выжег… кто сорвал? – пробормотал Рахмиэл.
– Ты, – просто сказал гость. – Теперь каждый, кто к тебе придет, – Арон!
– Так не бывает, – защитил себя Рахмиэл. – Так не бывает. Ты мне родинку покажи! Рубец! След! – И мстительно улыбнулся.
– Покажу, – спокойно сказал пришелец. – Как это я забыл, что ты веришь только в то, что зришь и обоняешь. Но есть на свете и то, чего глазом не узреть и носом не учуять. Иначе богом был бы нюх. Вот ты сказал: «Фрадкин пришел и забрал». Но забрать можно только то, что отдают.
– Фрадкин приходил не один… с урядником… попробуй не отдай, – обмяк Рахмиэл.
– Ну и что? Приведи он всех солдат империи, ты отдавать не вправе. Скажешь: а что я мог сделать? Кто я по сравнению со всеми солдатами империи? Рахмиэл, песчиночка, пылинка, букашка! На это я тебе отвечу: если каждый на свете будет день-деньской твердить «я пылинка, песчиночка», то у нас заберут всех, кого мы любим… Даже Бога! Наверно, уже жалеешь, что накормил меня?
– А чего жалеть? Картошки не жалко. Скоро свежая поспеет… Раньше я больше сажал… четыре грядки… а теперь две Казимерасу отдал… он по субботам гасит у меня свечи… Иногда и козьего молочка принесет… Так и живем… Коза его каждый день о мой плетень трется… Козы хоть и глупые твари, но лучше людей… ей-богу, лучше… они и молоко дают, и сыр, и шерсть… А человек? Что дает человек? Урядников? Рекрутов? Сумасшедших?
Пришелец молчал и слушал, и удивление смягчало его случайные, как у пугала, черты.
V
За водкой корчмарь Ешуа обычно ездил в Ковно через Велюону и Юрбаркас. В Юрбаркасе – если отправлялся один, без Морты, – останавливался у своего дальнего родственника, содержателя лавки колониальных товаров Симхе Вильнера, распрягал лошадей, купал их в Немане, и сам, выбрав какую-нибудь отмель, окунался, но далеко в воду не забредал, места коварные, подхватит течение, закрутит, завертит, затянет в яму – и прощай! Симхе Вильнер был человек вспыльчивый, вздорный, долго с ним не рассидишься, все время на рожон лезет, не про изюм да чернослив толкует, а все больше про гонения и притеснения, там, знаете ли, еврея задушили, там – зарезали, там – бабу изнасиловали, ну просто кусок в горле застревает – да что он, Ешуа, баба, что ли? Малость передохнешь – и снова в путь. А путь не близкий, дай бог до вечера добраться, зато на винокурне Вайсфельда в Ковно водка намного дешевле, возьмешь эдак ведер пятьдесят, нагрузишь целую фуру – и, глядишь, червонец прибыли и набежал, ни одной бутылки не откупорил, а он червонец этот, уже у тебя в кармане смирнехонько лежит.
Правда, и страху натерпишься всласть, потому что дорога все лесом да лесом, смотри в оба, озирайся по сторонам, чтобы на кого-нибудь не нарваться, нынче их, охотников до чужого добра, хоть пруд пруди.
У Ешуа до сих пор волосы дыбом встают, когда он вспоминает свою поездку в Ковно позапрошлым летом, перед самым Ивановым днем.
Погода стояла дивная, на небе ни тучки, солнце лошадям глаза слепит, птицы поют, да так заливисто, будто у них самих праздник.
Ешуа осторожно правил лошадьми, прислушиваясь то к пению птиц, то к звону бутылок в ящиках, переложенных свежим сеном, объезжая ухабы и рытвины, и думал о доме, о себе, о том, что через полгода, как раз в канун Хануки, ему стукнет пятьдесят четыре, а у него ни одной сединки ни в бороде, ни в пейсах. И еще Ешуа, как и положено отцу, думал о сыне, прыщавом Семене, единственном своем наследнике. Дочь Хана прожила на белом свете всего восемь лет. Ах, Хана, Хана! Собаки, и те дольше живут.
Сын не радовал Ешуа. Не было в нем ничего от их рода, рода Манделей, славившихся своей хваткой и трудолюбием. Без гроша начинали, нищие, оборванцы, а чего добились? Все кабаки и постоялые дворы на тракте в их руках, заходи и пей, коли в мошне звенит! Старший из Манделей – семидесятилетний Натан – самого Муравьева у себя в горнице принимал и чокался с ним как равный – честь для еврея неслыханная!
А Семен? Кто с ним чокнется? Если с ним, с Ешуа, не приведи господь, что-нибудь случится, тот в два счета разбазарит корчму, из-за лишнего червонца в Ковно не потащится, не жди.
Что поделаешь, рассуждал под скрип колес Ешуа, бывают дети – прибыль и дети – убыток. Семен – убыток. Убыток можно возместить. Но разве с Хавой его возместишь? Хава теперь бесплодна, как пустырь за корчмой, хотя она и на пять лет моложе, чем Ешуа! А что толку в сеялке, если земля не родит? Ты ему, Ешуа, только подай чернозем, а уж он его вспашет и засеет.
Дочь лесоторговца Маркуса Фрадкина – вот чистый чернозем! Чистейший, без всяких примесей!.. Что с того, что разница – тридцать лет. Старый конь борозды не портит. А он еще не старый конь, он еще хоть куда! Но пока жива Хава, торчать ему в конюшне и если что и пахать, то не чернозем, а суглинок.
Хорошо бы породниться с Фрадкиным хотя бы через Семена. Но Семен дурака валяет, Семену и Морта хороша. В кого он только такой уродился? В мать, в Хаву. Господи, до чего же она опостылела ему, мужу своему благоверному, Богом избранному! Кукиш! Не Бог его избрал, а ее папаша, лавочник Иегуда Спивак: дал за Хаву корчму, и он, Ешуа, ее, корчму, и взял. Как-то Натан Мандель, глава их рода, спросил у него: «На ком ты, Ешуа, женат?» Он ему ответил: «На корчме, реб Натан!» – «Такому парню, как ты, Ешуа, надо было жениться на винокурне!»
Если Хава умрет, думал Ешуа под цокот конских копыт, я женюсь на винокурне или лучше на какой-нибудь дубовой роще. Сейчас дубовое дерево в цене. Надоело с утра до вечера торчать в корчме и видеть перед собой эти пьяные, ненасытные рожи! Надоело!
Господи, как хорошо в дороге! Птицы просто с ума сошли! Ну и ликуют! Ну и трезвонят! Тише, тише! Ну чего распелись? Чему радуетесь? Шестой десяток живу на свете и ни разу еще от воздуха не захмелел. Попели бы, пташечки, в корчме!.. В постели, когда под боком серая и остывшая, как зола, Хава!
– Стой! – раздалось из кустов, и корчмарь Ешуа обомлел.
Он натянул поводья, дернул их несколько раз, давая понять, что трусца не устраивает его. Но лошади его не поняли, они тоже о чем-то думали, внимая птичьему пению, и тогда Ешуа не своим голосом закричал:
– Но-о-о!
И впервые пожалел, что до сих пор обходился без кнута, хотя он и висел у него где-то в сарае. Корчмарь купил его у какого-то мужика за кружку водки, но не пользовался, потому что не выносил, когда батогом бьют скотину. «Сечь можно только человека, – говаривал он. – Не вол виноват, а погонщик».
– Но-о-о!
Лошади перешли на легкую рысцу, и крик догнал их:
– Стой, жид пархатый!
К дороге, продираясь сквозь заросли кустов и ломая валежник, бежал мужик.
– Стойте, пархатые!
Сейчас уж он взывал к лошадям, но лошади, не привыкшие к такому окрику, продолжали свой бег, прядая своими лопушными ушами.
– Быстрее, родненькие, быстрей! – упрашивал их Ешуа.
И когда казалось, что опасность миновала, в каких-нибудь пяти метрах от фуры на дорогу с шумом рухнула молодая сосна.
Конец, мелькнуло у Ешуа, и он остановил лошадей.
Из леса с топорами вышли еще двое. Они приблизились к фуре и приказали корчмарю слезть.
– Привяжи-ка, Юзеф, жида к дереву, – бросил один из них.
Тот, кого назвали Юзефом, подтолкнул Ешуа к обочине:
– Иди и не оглядывайся!
– За что? За что? – обалдело повторял корчмарь, выворачивая на ходу карманы, из которых вывалились какие-то крошки, гребень, расшитый носовой платок. – Клянусь Богом, ни одной копейки… ни одной копеечки… чтобы я так жил…
– Встань к дереву! Сюда, – бросил тот, кого назвали Юзефом, нагнулся, подобрал платок и гребень.
– Нет, нет! – завопил Ешуа, ничего не понимая. – Я не хочу к дереву… Не хочу…
Юзеф ударил его ногой в живот раз, еще раз, и Ешуа обмяк.
– Пожалейте! – тихо взмолился он. – Я буду вас поить… целый год… два года… даром… честное слово… Берите все… лошадей… водку… Только отпустите меня… Я никому ни слова не скажу… Ни слова…
Тот, кого назвали Юзефом, поставил его на ноги, прислонил к сосне и стал привязывать вожжами. Раз – обмотал вокруг живота, другой – завязал двойной узел.
– Ой! Мне больно! Больно! – Ешуа вертелся, хрипел, но Юзеф словно не слышал ни его хрипа, ни его мольбы. Он притащил охапку сучьев, бросил корчмарю под ноги, вытащил из кармана кремень и поджег.
– Что вы делаете? Мы же люди! – воскликнул Ешуа и заплакал.
– Люди, – откликнулось эхо. Молодой лисой заметался огонь.
– Юзеф! – крикнул кто-то с дороги.
– Иду, иду! – Юзеф оглядел костер и медленно поплелся к фуре.
Слезы заливали крупное бородатое лицо корчмаря.
– Плачь, Ешуа, плачь!.. Ты никогда в жизни не плакал, – шептал он. – Пусть твои слезы рекой текут… по бороде… по животу… по ногам… туда… на огонь… Только слезами его не погасишь… Только слезами… Господи, дай мне столько слез, сколько водки я разлил по кружкам… Господи!..
Внизу весело потрескивали сучья. Огонь уже подбирался к башмакам… сейчас запахнет горелым мясом…
– Люди! – закричал Ешуа.
– Люди, – откликнулось эхо.
– Господи, господи, за что мне такие муки?
– …уки, – повторило эхо.
А наверху, в ветках, безумствовали птицы.
– Птицы, птицы, – стонал Ешуа. – Неужели ничего не видите? Неужели и вам все равно?..
– …авно, – издевалось над ним эхо.
– Гавно… Все гавно… и птицы, и люди, и ты, Господи… прости и помилуй меня… – Ешуа попытался руками развязать узел, но не мог, крепко завязан, намертво. Так на Немане связывают в пучки плоты.
И вдруг он увидел свою лошадь, свою гнедую…
– Жена моя, – выдохнул Ешуа и подавился слезами.
Гнедая, почувствовав его дыхание, подошла к сосне и застыла перед огнем.
– Жена моя!.. – Ешуа высвободил руку, протянул…
Лошадь поверила, что рука не пустая, что на ней корка хлеба, и шагнула к сосне. Лошадь обнюхала его руку, ткнулась мордой в бороду, и Ешуа схватил ее за шею, привлек к себе, поцеловал, как бы прощаясь и благодаря за преданность. Но огонь, разгоравшийся все сильней и жарче, отпугнул гнедую, она громко, на весь лес, заржала, и эхо передразнило ее, как жеребенок. Печальная и осиротевшая лошадь долго еще кружила вокруг сосны, разгоняя хвостом лесных мух и летевшие искры.
Жариться бы Ешуа до вечера на разбойничьем огне, если бы на него не набрели лесорубы Маркуса Фрадкина, почуявшие запах дыма. Был среди них и Ицик Магид. Они отвязали корчмаря, затоптали огонь, уложили Ешуа на мягкий мох, сняли с него обгоревшие башмаки, осмотрели его ноги, грязные и зловонные, дали из фляги напиться, и, когда, корчмарь очнулся, Ицик Магид спросил у него по-еврейски:
– Вам дурно, реб Ешуа?
– Мне хорошо… хорошо, – прохрипел корчмарь, глядя на верхушку сосны, к которой совсем недавно был привязан, и ему вдруг стало до боли, до крика жалко себя, распластанного на мху, беспомощного и босого, жалко этого высокого терпеливого дерева и этого безоблачного неба, которое равнодушно висит над всеми – над корчмарями, разбойниками, лесорубами и ни в чем не повинными лошадьми…
– И кто же это решил зажарить вас, как цыпленка? – пытаясь все превратить в шутку, выдохнул Ицик.
– Юзеф, – простонал Ешуа. – А башмаки что – выбросить надо?.. Такие башмаки!.. Новые совсем…
Ешуа, кряхтя, поднялся, покосился на обгоревшие башмаки и босиком зашагал к фуре.
– Кузя, кузя, – позвал он, и гнедая послушно побрела за ним.
Лесорубы переглянулись, вылили остаток воды из фляги на угли и скрылись в чаще.
Фура была разграблена. Из разбитых ящиков на дорогу все еще капала водка, и воздух на десять шагов вокруг был пронизан ее крепким одуряющим духом.
Второй лошади нигде не было. Умыкнули, сволочи, угнали, видно. Или заблудилась, дура. Но он не станет ее искать. Пока не поздно, надо отсюда уносить ноги.
– Идем, – сказал он гнедой. – Пропади все пропадом! И телега, и упряжь, и твоя дура сестра!
И повел ее, босой и несчастный.
За что, думал он в тот ясный пригожий денек, за что мне такие муки? Чем я, Господи, перед тобой провинился? Тем, что родился евреем и торгую в этой треклятой дыре водкой? Не хотите – не пейте! Я вам что, насильно ее в глотки вливаю? Сами их разеваете… И дня без браги прожить не можете… Да что там дня – часу! Праздник не праздник, горе не горе – только успевай ставить на стол бутылки. Наливай, жид пархатый, пошевеливайся! И пархатый не в обиде, нет, нет… на обиде и гривенника не заработаешь… пархатый из кожи вон лезет и бежит с подносом к Юзефу… Пятрасу… Афиногену!.. А эти Юзефы, эти Пятрасы, эти Афиногены хоть когда-нибудь задумывались, почему он, пархатый, открыл свою корчму здесь, среди этих дремучих лесов и топких болот, а не где-нибудь на другом берегу Немана? Потому что немец пьет не до одури, а только так, для увеселения души. На немце шиш заработаешь. Открой кабак, и назавтра к тебе нагрянут жандармы и заколотят его крест-накрест досками. Ферботен! Дер Кайзер ерлаубт нихт… Император запрещает! А здесь… здесь тебя и пальцем не тронут ни урядник, ни император! Еще спасибо скажут, ибо нет лучшего острога, чем водка. Зачем на каторгу отправлять, когда можно послать к нему, к Ешуа! «Молодец, Мандель, отечеству служишь, престолу!» Пока они в корчме торчат, пока у них в глазах туман, они ничего не требуют, кроме лишней бутылки… Водка – их надзиратель и их конвоир… Белая, сладкая, горькая, она пребудет во веки веков… на ней, на матушке, вся империя держится, и дай бог ей держаться и дальше!.. Закройте лавку колониальных товаров Симхе Вильнера… москательную братьев Спиваков… мясную Перельмана… заколотите крест-накрест досками – ничего не изменится! Другое дело – корчма. Она вечна, как престол, как отечество! Умрет Ешуа, за стойку станет Семен, Семен удерет – Хава станет, Хава окочурится – Морта начнет разливать, Морту сожжете – лошадь встанет… вот эта гнедая… кто бы ни наливал, лишь бы наливал!..
…То, позапрошлое, лето, тот погожий денек прогорклым лесным дымком осмолил душу Ешуа. Белой ржавчиной тронуло волосы на голове, только борода по-прежнему осталась иссиня-черной.
О том, как его чуть но сожгли, о Юзефе никому не рассказал Ешуа. Да и какой смысл рассказывать? Положим, поймают и осудят. Ну и что? Разве он один такой? Всех не переловишь и в холодную не запрешь. Растрезвонишь и только пример подашь: выходите, мол, на дорогу, привязывайте к сосне, подкладывайте хворост.
И все же, всякий раз входя в корчму, Ешуа взглядом окидывал столы и искал того, кто чуть не отправил его в зажаренном виде к праотцам. Глянет, бывало, на ораву пьяных и вздрогнет: все… все до единого Юзефы!..
С помощью урядника Ешуа купил ружье и теперь, отправляясь в Ковно, всегда клал его под сиденье. Правда, обращаться с ним он не умел, и Нестерович не без ехидства успокаивал его:
– Если не убьют, научишься.
Он, конечно, мог отправить в Ковно сына, но тот слег. И потом: пусти его в город – через неделю вернется, деньги не на дело потратит, а на разные шалости. Поставит во дворе винокурни лошадей – и к девкам. Таких дураков они там на Виленской улице до нитки обирают. Ешуа уже раз привозил его оттуда… Высек кнутом и привез – хорошо еще стыдной хворью не наградили.
Оставалась еще Морта. Ей можно доверить все: и груз, и фуру, и даже корчму, девка она мозговитая, сноровистая, аккуратная, по субботам и праздникам сама торгует, всю выручку до последнего гроша отдает, ничего не утаивает. Будь Морта еврейка, и за невестку вполне бы сошла, и внуков бы ему, Ешуа, целую кучу народила. Господи милосердный, зачем ты придумал столько всяких племен? Мало тебе было одного племени – человеков? Жили бы на свете не немцы, не русские, не литовцы, не евреи, а человеки, жили бы и славу тебе возносили, Господи!.. Неужели для того, чтобы это понять, надо быть не Богом, а корчмарем?
Ешуа брал Морту с собой в дорогу потому, что с ней было спокойней, чем с ружьем. На бабу, к тому же христианку, не нападут, особенно если еще приоденется как старуха. Кто на старую позарится? Корчмарь зарывался в сено, под мерный скрип колес засыпал и просыпался только дома, в местечке, Морта тормошила его и приговаривала:
– Хозяин! Приехали!
– Слава богу! Слава богу! – лопотал, бывало, сонный Ешуа.
– И Богу слава, и лошадям, – говорила Морта, распрягая их и похлопывая по холкам.
На обратном пути Морта, бывало, рассказывала о своей деревне, об отце, обладавшем недюжинной силой, о братьях-близнецах – Пятрасе и Повиласе, названных в честь апостолов, и спрашивала Ешуа о Сибири.
– Где она?
– Далеко, – отвечал корчмарь.
– А сколько туда добираться?
– Не знаю, – увертывался корчмарь. – Пешком не дойти, а лошадей у тебя нет.
– Когда-нибудь, хозяин, своих отдадите… Или за столько лет не заслужила?..
– Заслужила, заслужила, – ерзал корчмарь. – Но чтобы добраться туда, не пара нужна, а шестерка…
– Мне и пары хватит, – стояла на своем Морта.
– Положим, отдам тебе своих кляч, положим, туда доберешься – что же ты там делать будешь?
– Отцу помогать… братьям…
– А если их давно в живых нет – что тогда?
– Тогда мертвым помогать буду.
– А чем помочь мертвым?
– Умереть рядом с ними… А то помру в корчме, и закопают меня где-нибудь на пустыре, как корову… кому такая нужна…
– Какая?
– Ничья… Ни наша, ни ваша… Уж лучше Сибирь…
…Сегодня Ешуа возвращался домой один. Фура была доверху нагружена водкой, и лошади шли медленно, странно косясь друг на друга, чего с ними раньше никогда не бывало, и в сердце закрадывалась какая-то смутная и жаркая тревога. Ешуа даже расстегнул ворот рубахи, почесал волосатую грудь и носком башмака уперся в ружье. Но вокруг было тихо. Поздние летние сумерки лениво опускались на лес, чуткий и, как всегда, полный таинственных шорохов.
До местечка было еще верст десять – пятнадцать. То ли от тревоги, то ли от обильного обеда у Симхе Вильнера Ешуа вдруг скрутило. Он отпустил вожжи, схватился за живот и стал бессмысленно мять его, стараясь унять колики. Но боль не улеглась, а усилилась, перекинулась куда-то в пах, и корчмарь крикнул: «Тпру!»
Он шмыгнул в лес, быстро снял штаны и примостился под мохнатой елью. Неужели от Семена заразился, подумал он, глядя себе под ноги, на мох, на растревоженную желтой струйкой букашку.
Он вспомнил, как позапрошлым летом, под доходный Иванов день, вот так же мучился в лесу, но то были другие, возвышенные муки. Тогда он мог погибнуть от чьей-то мести и зависти, а сейчас… сейчас от заворота собственных кишок или от хвори, подхваченной у сына.
У Ешуа заныли ноги, но он не сдавался.
Невозмутимо шумела над ним ель. То был не шум листвы, а спокойный дремотный гул, доносившийся из-под коры, из самой сердцевины.
Ешуа встал, вложил два пальца, как два патрона, в рот и попытался вызвать рвоту.
Но и горло было заперто страхом.
Перед кем?
Перед лесом? Перед хворью? А может быть, перед тем в ермолке, приколотой булавкой к волосам? Зашел в корчму – и начались напасти: колики, лихоманка.
Зачем его Семен выгнал?
С трудом превозмогая боль, Ешуа поплелся к дороге, забрался в фуру и двинулся дальше.
Не дай бог заболеть. Не дай бог! На Успенье в корчму не пробиться. На Успенье даже бабы пьют. Что за люди? У них даже смерть праздник! Смерть богородицы, смерть Иисуса Христа… Что за люди?
Пятьдесят лет прожил Ешуа бок о бок с ними и – хоть убей – не понимал их… даже Морту, и ту не понимал. Кто она? Дура? Святая? Бессребреница? Лиса?
Скоро и местечко. Сейчас они минуют Мишкине, а оттуда до дому рукой подать.
Боль вроде поутихла.
Так и должно быть, подумал Ешуа, чем ближе к дому, тем меньше боли. Хава заварит конский щавель – и все будет в порядке.
За Мишкине чернел лес Маркуса Фрадкина. Ешуа всегда останавливался у развилки или сворачивал на просеку, где лесорубы брали у него ящика два водки. Но сегодня он не свернет, сегодня покатит в местечко напрямки, в лесу потерпят, а коли очень приспичит, Андроновых в корчму пошлют, братья – парни дюжие, взвалят на плечи по ящику и айда на делянку. Маркус Фрадкин и так на него дуется: чего, мол, Ешуа, людей моих спаиваешь, надерутся и целый день дрыхнут. Маркусу Фрадкину все мало, руби для него да руби, совести у него нет. Радовался бы, что пьют, пускай лишнее дерево не повалят, но зато и его не рубанут… Когда мозг дрыхнет, дрыхнет и топор. Так-то, господин разлюбезный Фрадкин! А еще умником слывет…
Не успел Ешуа проехать через Мишкине и выкатить на Вороний проселок, как в ельнике что-то затрещало, заворочалось по-кабаньи и обдало корчмаря горячим ознобом. Он быстро отпустил вожжи и вытащил из-под сиденья ружье. С непривычки, а может, со страху Ешуа никак не мог приладить его к плечу – ружье все время соскальзывало, и руки чуточку дрожали, и во рту было сухо, и горло сузилось – кажется, ручеек молитвы, и тот не пробьется, но он пробился, сбивчивый, хрусткий. Сколько раз Ешуа спасала молитва, может, и на сей раз спасет от напасти.
Лошади шли тихо, их головы шелестели в сумерках, как кроны.
Ешуа молился, ловя каждый звук, каждый шорох, и, когда треск в ельнике утих, поставил ружье между ног и оперся о ствол, как о посох.
Но вдруг лошади шарахнулись в сторону, и корчмаря снова окатило ознобом, только еще более горячим, чем прежде. Он приставил к плечу ружье и, неизвестно кому, сказал:
– Но подходи. Стрелять буду.
– Стреляй, – послышалось в тишине. – Все равно меня убить нельзя.
У Ешуа отлегло от сердца. По голосу он узнал бродягу, повздорившего в корчме с Семеном недели две назад.
– Убить можно каждого, – миролюбиво процедил Ешуа, чувствуя, как все вокруг снова обретает свою первоначальность и имя: и лес, и Вороний проселок, и безмятежные головы лошадей. – Убить можно каждого, – даже весело повторил он, дыша легко и молодо.
– А я не каждый, – сказал человек в ермолке, продолжая идти рядом с фурой.
– Каждый из нас каждый, – буркнул Ешуа, косясь на чужака. Он не понимал, откуда в такой поздний и небезопасный час взялся на Вороньем проселке этот странный еврей, шатающийся по лесу как беглый каторжник.
– Довезете до Рахмиэлова овина? – спросил человек в ермолке и погладил на ходу лошадь.
– Спрашивать надо не у лошадей, а у хозяина, – с притворной обидой промолвил Ешуа.
– Когда хозяина запрягут, тогда и спрошу, – ответил бродяга и рассмеялся.
– Ты мне нравишься, – пробормотал корчмарь. – Забирайся в фуру.
Сумерки еще больше сгустились. Где-то вспыхнул первый огонек, робкий, почти нереальный. Он мигал, как больной глаз, и его мигание будоражило и глумилось над темнотой, обволакивающей фуру. Человек в ермолке забрался в телегу, примостился позади корчмаря и уставился на его широкую спину, серую, как Вороний проселок, только не обсаженный деревьями.
Ешуа чувствовал его взгляд, почесывал спину и молчал, пришибленный негаданным соседством.
– Говорят, какой-то еврей в губернатора стрелял, – заговорщически прошептал Ешуа и сам удивился своему голосу. – Розыск вроде бы объявлен.
Чужак молчал.
– Губернаторов мне не жалко, но зачем нам в них стрелять? – пересыпая свое удовлетворение корицей осторожности, продолжал корчмарь. – Патроны счастья нам не принесут.
– Червонцы тоже, – вставил человек в ермолке и снова нырнул в молчание.
– Лучше уж червонцами, чем патронами, – зачастил Ешуа, обрадованный ответом. – Червонцами не то что в губернатора – в самого государя императора попадешь. От такого попадания и нам, и властям польза.
– Разве откупишься от ненависти?
– Хоть бы от погромов откупиться… от смерти. Пусть ненавидят, презирают, только дадут жить.
– А зачем жить, когда вокруг ненависть и презренье?
– Зачем? Чтобы до лучших времен дожить.
– Времена не меняются… Во всяком случае для евреев. А ты что все время чешешься?
– Блохи, – соврал Ешуа.
– А не страх ли тебя кусает? – просто спросил человек в ермолке.
– Страх? А кого, скажи на милость, мне бояться? Тебя?
– Хотя бы, – просто сказал бродяга.
– А чего тебя бояться? Ведь ты такой же еврей, как я…
Ешуа перестал чесать спину и замолк. С обеих сторон Вороньего проселка к фуре подступал лес. Деревья походили на толпу чернобородых вдовцов. Они не двигались, и от их неподвижной густой черноты веяло вечным покоем, небытием и не то благословением, не то проклятьем. И этот странный еврей, примостившийся у Ешуа за спиной, тоже напоминал дерево – черное и поминальное. Пока мы живы, все мы поминальные деревья, вспомнил Ешуа изречение рабби Ури. Все. К кому раньше, к кому позже приходит великий лесоруб, и конец. От него ни ружьем, ни молитвой, ни червонцами не спасешься.
– Почему у тебя такая странная ермолка? – спросил корчмарь и первый раз обернулся.
– Странная? Ермолка как ермолка, – равнодушно объяснил попутчик.
– А булавка?
– Все, что от матери осталось.
– Давно померла?
– Давно. Пьяные убили. Мать этой булавкой тряпицу с деньгами к сорочке пристегивала. Один серебряный рубль и один бумажный… На этой булавке кровь до сих пор не высохла. И не высохнет. Материнская кровь никогда не сохнет. Никогда.
– В кармане надежнее, – сказал растроганный Ешуа.
– Надежнее так надежнее. Но кто же в кармане памятник носит?
Этот бродяга, подумал Ешуа, не простак. Ссориться с ним нечего. Прирученный волк верной собакой служит.
Почуяв близость дома, лошади трусили бойчей, и сумерки омывали их бока, стянутые выпирающими обручами ребер, ласковой, ниспосланной Богом прохладой. Недаром же Господь создал лошадь и человека в один день.
Если Ешуа и был с кем-нибудь счастлив в жизни, то только с ними, со своими лошадьми, особенно с гнедой. Потому, наверно, он и дорогу любил. Заяц пробежит, птица вспорхнет, зашуршит придорожная осина, и на душе делается легко и светло, это тебе не в корчме и даже не в синагоге. Ехать бы и ехать и никогда не распрягать бы лошадей, не переступать порог, ни свой, ни чужой, ибо там, за порогом, – суета сует и муки вечные.
– А что ты в наших краях ищешь? – осмелел корчмарь. – Почему дом свой бросил?
– Что я ищу? – Человек в ермолке прополоскал вопросом горло, задумался и, прислушиваясь к цокоту копыт, ответил: – Мамин серебряный рубль ищу. Тебе он случайно не попадался?
– Где?
– В выручке.
– Нет, – с недостойной уверенностью сказал Ешуа. – Разные монеты попадались… серебряные и, бывало, золотые… А твоей матери – нет…
– А ты откуда знаешь?
– Такой рубль ладонь жжет.
– Неужто?
– Ей-богу. От него наутро волдырь…
– Я все равно его найду.
– Положим, найдешь. Ну и что? Мать за серебряный рубль не купишь.
– Не найду на земле, буду на небе искать. – Человек в ермолке поднял голову. – Вон ту звезду видишь?
– Вижу, – обреченно обронил корчмарь.
– Серебряный рубль чьей-то матери, – заметил бродяга. – Закатился туда и светит.
– Как же он мог туда закатиться? – опешил корчмарь.
– Очень просто, – объяснил человек в ермолке. – Все туда закатятся. Все.
– Рубли?
– Все наши матери, отцы, дети… И рубли… Только не все будут звездами светить.
– Почему?
– Чтобы вспыхнуть звездой, надо сперва изойти кровью.
– Говори, говори, – подхлестнул его корчмарь, когда человек в ермолке осекся. – От твоих слов и легко, и страшно. Говори!
– На сегодня, пожалуй, хватит, – устало бросил бродяга. – Да вон и Рахмиэлов овин.
Он что-то скрывает, подумал Ешуа, и тайна сближала его с этим странным, с этим завораживающим евреем. У каждого человека есть какая-нибудь тайна. И у меня она есть, размышлял корчмарь, пристально вглядываясь в темноту, в обвислые конские хвосты, которые – тоже непостижимая тайна, – разве даны они лошади только для того, чтобы отмахиваться от слепней?
– Послушай, – сказал Ешуа, захваченный какой-то сумеречной нежностью. – Может, тебе чего-нибудь надо?
– Ничего мне не надо, – пробормотал человек в ермолке.
– Только мертвому ничего не надо, – обиделся корчмарь. – Ты не стесняйся… проси! Хочешь – завтра в баню сходим… помоемся… попаримся… после бани пострижемся у Берштанского… Я от всей души… Ты не думай… я тоже вдоволь натерпелся лиха… скитался… бродяжничал… в чужих обносках до тринадцати лет ходил… Кто знает, может, и я когда-нибудь изойду, как ты сказал, кровью… Позапрошлым летом меня чуть не сожгли. Привязали к дереву и развели костер… Я страшно перепугался… А пугаться-то, по правде говоря, нечего… Я давно горю… И сын мой горит… и жена Хава… и девка… даже лошади дымком пропахли… Поедем ко мне. У Рахмиэла и кровати-то приличной нет… Ты сына моего не бойся… Он не злой… он несчастный… Я тебе и работенку подыщу… Ты меня слушаешь?
– Да.
– Слушаешь и не веришь. С чего, мол, корчмарь Ешуа, тертый калач, передо мной травкой стелется… такой добрый… Сейчас я объясню… сейчас я тебе объясню…
В сумерках мелькнула крыша Рахмиэлова овина.
– Останови фуру, – попросил человек в ермолке.
– Погоди! Сейчас я объясню…
Но попутчик спрыгнул с телеги и быстро зашагал к овину.
Ешуа долго смотрел ему вслед и, когда тот скрылся в березовой рощице, глухо, скрывая обиду, заговорил с гнедой:
– Никто никому не верит! Господи! Зачем ты не меня запряг в фуру? Я трусил бы рысцой от винокурни Вайсфельда до дому и славил бы тебя за то, что ты оказал мне такую милость и не создал человеком!.. Лошадь всегда кому-нибудь нужна. А кому нужен человек? Кому нужен человек? Лошадь, двуногая лошадь… серебряный рубль в чьей-нибудь выручке… осточертевшая всем тайна!.. Но-о-о! Но-о-о!
VI
Когда от исправника пришла скрепленная гербовой печатью бумага о немедленном розыске государственного преступника, покусившегося на жизнь его превосходительства вице-губернатора, местечковый урядник Ардальон Игнатьич Нестерович был на огороде, где вместе с девятилетним сыном Иваном, которого он ласково называл Грозным, и семилетней дочерью Екатериной, нареченной так в память достославной государыни-императрицы, собирал спелую клубнику. Клубники было много, и грядки багровели под солнцем, припекавшим сильней, чем обычно об эту пору.
– Ты, Иван, поменьше в рот, побольше – в лукошко, – пожурил Нестерович сына. – А ты, Катенька, осторожней!.. Ягоды, как и дети, любят, чтобы с ними по-нежному, по-ласковому.
Урядник был в поношенных портах, в подтяжках, на голове у него красовалась тюбетейка (до перевода в Литву Ардальон Нестерович служил где-то на границе с Персией), ноги были обуты в легкие хитросплетенные лапти. Он равномерно, по-солдатски нагибался и разгибал широкую, крепкую, как дубовая дверь, спину, щурился от солнца, весело покрякивал и исподлобья поглядывал на детей.
– К тебе, Ардаша, гонец из уезда, – сообщила жена урядника Лукерья и вытерла передником липкие руки. – У меня варенье сбежит… Ступай, переоденься!
Пока Ардальон Нестерович облачался в мундир, гонец, приземистый, светловолосый, со сплюснутым, как папиросная гильза, носом, оглядывал хоромы. Дом двухэтажный, хоть и не каменный, но ладно срубленный, начищенные до блеска окна с расписными наличниками, крыльцо, высокое как трон, крыша, покрытая не дранкой, а жестью, нужник с аккуратно вырезанным сердечком, распахнутый настежь хлев. По двору расхаживали чинные, словно вымуштрованные куры. На плетне сторожем застыл ширококрылый петух с ярко-красным гребнем. Гребень сверкал, как огромная клубничина. Чуть поодаль от дома под тяжестью плодов гнулись яблони.
Нестерович переоделся, распечатал депешу, прочитал ее сверху вниз и снизу вверх, как бы смакуя витиеватую подпись начальства, пригласил гонца в сад и, когда тот уселся на лавку под яблоней, сказал:
– Нет от них России покоя!
– Нетути, – ответил гонец, косясь на зеленые яблоки, висевшие над его кудрявой головой.
Бесшумно подошла Лукерья, поставила на стол бутылку водки, тяжелые серебряные рюмки, миску с солеными огурцами, хлеб, нарезанный мелкими ломтями окорок и так же бесшумно удалилась.
Нестерович налил рюмки, весь напрягся, как перед прыжком, и сказал:
– Найдем сукиного сына и доставим в целости и сохранности в уезд.
– Хотя бы мертвого, – равнодушно заметил гонец, опрокинул рюмку и захрустел огурцом.
– Нет уж, батенька!.. В мертвом какой прок?
– А в живом?
– Живого при всем честном народе вздернуть можно…
– С живым морока, – гнул свое гонец. – Нашего повесишь – все молчат, а их попробуй – сразу гвалт на весь мир. Уй, уй, – передразнил он кого-то, – обижают нас… со свету сживают… Я их как облупленных знаю: с первого дня в черте оседлости служу.
– Не уйдет от нас сукин сын, не уйдет, – хмелея, бросил Нестерович и вдруг крикнул: – Иван, Катерина! А ну-ка, тащите сюда лукошко!
Дети принесли клубнику.
– Угощайся, – сказал он гонцу. – Только что с грядки. Знакомься. Сын мой – Иван. Младшенькая – Екатерина.
– Андреев Андрей.
– Первые помощники, – похвастался Нестерович. – Слышали, дети, – обратился он к сыну и дочери, – пархатый в его превосходительство стрелял.
Иван и Екатерина смущенно молчали, поглядывая то на отца, то на гонца, то на свои лапти.
– Как, дети, пархатого искать будем?
Дети смутились еще больше.
– Да вы не стесняйтесь, черт побери. Будем?
– Будем, – выдавил Иван.
– Молодец! А ты, Катюшка?
– Я не могу… я обещала маме… – растерялась дочь урядника, – варенье варить… Вы его с Ванюшей ищите.
– И варенье сварим, и жида поймаем, – вгрызаясь желтыми зубами в непокорный ломоть окорока, чуть ли не нараспев сказал Нестерович. – Так?
– Так, – сдалась и Екатерина.
Дети потоптались еще возле стола, забрали полупустое лукошко и, подавленные, сникшие, вернулись на грядку. Заливисто пропел на плетне петух, и куры отозвались на его пение нетерпеливым и благодарным кудахтаньем. В ветвях яблони жужжал заплутавший шмель, и его жужжание злило гонца. Он выкуривал его глазами, но шмель безнаказанно продолжал гудеть и о чем-то спорить с яблоней.
Нестерович справился о здоровье его высокопревосходительства вице-губернатора и, узнав, что оно не внушает опасения (пуля прошла через правое плечо, но легкое не задела), стал прощаться.
Он проводил гонца до самого тракта, сунул ему туесок с клубникой, рассеянно выслушал хмельные слова благодарности и сам, хмельной, уставший от жары и чиновного рвения, вернулся восвояси.
Мог же этот негодяй, этот пархатый подождать до зимы, когда ни грибов, ни ягод нет и весь короткий день можно только тем и заниматься, что ходить по местечку и заглядывать в жидовские рожи: та или не та. А сейчас, когда работы на огороде невпроворот, когда не сегодня завтра буренка отелится, когда он, Нестерович, надумал перекрыть крышу в хлеву (Маркус Фрадкин ему давно распиленные доски привез), сейчас брось все к чертовой бабушке и шныряй, рыскай, ищи. Его превосходительство, слава богу, жив, полежит недельки две в постели, поправится. Так ли уж немедленно, как сказано в депеше, надобно разыскивать этого Янкеля или Мойшу? Ничего не случится, если вздернут его через полгода… через год… престол не рухнет… Престол наверняка не рухнет, а вот грибов на зиму он, Нестерович, не засолит, не засушит, крыша хлева как текла, так и будет течь.
И еще Нестеровичу перед детьми неловко. Разыграл с ними дурацкую сцену, хоть прощения проси. Этого еще не хватало, чтобы они гончими стали, за людьми охотились, да им что жид, что литовец – все одно, и те – бородачи, и эти, порой и сам не отличишь. Правда, когда служишь в таком скромном чине, можно по части своих верноподданнических чувств и переборщить. Приедет гонец в уезд и доложит исправнику: «Урядник Нестерович даже детей к поимке привлек… Сообща пархатого ловить будут!» Дудки! Кого, кого, а детей он в это дело не впутает, впутаешь и будешь потом локти кусать. Коли этот Янкель или Мойша в вице-губернатора стрелял, виселицы не побоялся, то на Ваню и Катюшку патронов и подавно не пожалеет. Как ни дорога похвала исправника, а дети дороже. Они, бедные, и так здесь света белого не видят. Съездят на Покров в город и счастливы – батюшку в церкви увидели, со своими в притворе поиграли, речь родную услышали. Ну и везет же ему! Пять лет на Кавказе отгрохал, зубы сломаешь, пока название аула выговоришь, что ни день, то стрельба, погоня. Вернешься, завалишься в постель, только вытянешь ноги, и снова в ружье, и снова по горам да ущельям. Когда сюда перевели, думал: край забитый, тихий, леса, болота, заживу как человек, семьей обзавелся, Лукерья сына родила, Ивана, потом, через два года, Катюшку, вокруг в местечке одни евреи, от них хоть и воняет чесноком, но все-таки не горцы, чеснок – не пуля, сморщишь нос от вони, но не умрешь. Литовцы в усадьбах окопались, как кроты, сеют, пашут, на рожон не лезут. Попробовали в шестьдесят третьем, да против графа Муравьева кишка тонка, быстро их усмирили. Кажется, живи да поживай, грибы соли, капусту ставь, варенье вари – ан нет, все чего-то требуют, все чего-то хотят, одним равенство подавай, другим школы открой, да откуда царю-государю на всех равенством и школами запастись? Взять немцев, на ихней территории тоже всякие народности проживают, а все немецкое: равенство немецкое, школы – немецкие. И никто не бунтует, в вице-губернатора не стреляет, по лесам не бродит.
И тут Нестерович вспомнил сына корчмаря. Вот кто ему поможет! Прыщавый Семен знает всех евреев наперечет: от последнего нищего до Маркуса Фрадкина. Парень он безалаберный, ленивый, но смышленый. Нестерович к нему и раньше подъезжал, но тогда прыщавый Семен ушел от ответа, не сказал ни «да», ни «нет».
– В корчму, Ардальон, в корчму, – вслух произнес урядник и ускорил шаг. Лишенный возможности командовать полком, или ротой, или, на худой конец, отделением, Нестерович, особенно в подпитии, отдавал приказания самому себе и в такие минуты чувствовал себя не нижним чином уездной полиции, а по меньшей мере фельдмаршалом. – В корчму!
Прыщавый Семен уже ходил, но был слаб, лицо его вытянулось, нос заострился.
– Все еще хвораем? – спросил Нестерович и обхватил руками резную спинку кровати.
– Хвораю, – хмуро ответил Семен.
– В такие дни грех в постели валяться, – пробасил урядник. – Если валяешься один. – И усмехнулся.
– Пить будете?
– Нет. Гонец из уезда приезжал… бутылочку с ним на пару распили.
– Подождали бы, пока выздоровею, – придушенно сказал прыщавый Семен.
– Рад бы, Семен Ешуевич, – урядник даже назвал сына корчмаря по отчеству, – да дело спешное. Как я уже докладывал, гонец из уезда приезжал… депешу привез… Покушение на виленского вице-губернатора… По всему Северо-Западному краю розыск объявлен.
– Я-то при чем? – притворился равнодушным прыщавый Семен. – Я-то в него не стрелял.
– Ваш стрелял.
– Ну и что?
– Вот я и подумал, Семен Ешуевич: свой своего скорее сцапает.
– Свой своего скорее сцапает, но и отпустит скорее, – уколол урядника сын корчмаря.
– Если свой – наш, то не отпустит, – осклабился Нестерович. – Мы же вроде с тобой договорились?
– Договаривались, – уточнил прыщавый Семен.
– За него и награда назначена, – смягчился Нестерович. – Пятьсот золотых…
– Подорожали евреи, – пробормотал сын корчмаря. – Раньше за них больше сотни не давали. Его превосходительство что, убит?
– Ранен.
– Жаль.
– Кого?
Так я тебе и ответил, пьяная морда, подумал прыщавый Семен.
– А делиться как будем? Мне – половина и вам – половина? Так, что ли?
– Мне и четверти хватит, – серьезно ответил Нестерович, пораженный собственной щедростью.
– А не много ли? – презрительно процедил прыщавый Семен.
– Поладим как-нибудь, – поежился урядник. – Только помоги… разнюхай… разведай…
– С вами разнюхаешь!.. Чего притащились среди бела дня?
– А может, я за водкой.
– Еврея можно поймать, но не обмануть. Местечко маленькое… Все на виду…
Прыщавый Семен играл с ним как кошка с мышкой, и игра доставляла ему странное, почти мучительное удовольствие. Он испытывал ни с чем не сравнимое чувство – как бы весь раздваивался, делился, обрастал еще одной кожей, толстой и неуязвимой, за которой, как за крепостной стеной, начинался истинный Семен Мандель.
– Вы больше ко мне при свете не приходите.
– Слушаюсь, – вдруг вырвалось у Нестеровича, и он растерянно уставился на сына корчмаря.
– Приметы указаны? – нетерпеливо спросил прыщавый Семен, оглядываясь на дверь: не стоит ли там Морта и не подслушивает ли?
– Указаны.
– Говорите, и побыстрее! Беседа наша и так затянулась.
– Сей момент, Семен Ешуевич. Сей момент… Дайте только вспомнить… Жаль – депешу с собой не захватил… Там все перечислено… Роста среднего… Телосложения слабого… тщедушного… носит бороду…
– Про ермолку с булавкой ничего не сказано?
– Про ермолку с булавкой – ничего…
– Да по вашим приметам подходи к каждому – и за шиворот! Не помните – особых нет?
– Нет. А почему ты, Семен Ешуевич, про ермолку с булавкой спросил? – насторожился Нестерович.
– Так.
– Не ври. Ты зря не спросишь. Давай, брат, по-честному, по-хорошему… Сам знаешь: и за укрывательство каторга грозит…
– Заходил тут один такой в корчму…
– Бородатый?
– И бородатый, и тщедушный… Только на убийцу не похож.
– Давно заходил?
– Перед моей болезнью… Недельки две тому назад… Я еще с ним повздорил… Сидит в углу, смотрит на всех и не пьет… Я к нему раз подошел, другой. Спрашиваю: «Тебе налить?» А он: «У меня налито. Разве не видишь?» Смотрю на стол ни кружки, ни стакана. «Что налито?» А он мне и отвечает: «Горя нашего!.. Полная чаша!.. Садись, выпьем вместе!»
– Ну? – подхлестнул Нестерович прыщавого Семена. – Что было дальше?
– Дальше? Дальше я его выгнал!
– Напрасно, напрасно, – огорчился урядник. – Надо было посидеть с человеком, отведать с ним того… как его… «горя вашего»…
– Из-за него я и слег.
– Из-за него? – выпучил бесцветные глаза Нестерович.
– Проклял он меня. «Трястись тебе, говорит, от лихоманки!» Две недели и трясло меня… до сих пор очухаться не могу… ноги как из пакли… шаг шагну – и гнутся…
– А где он сейчас?
– Не знаю… Бродит, наверно, по округе… Куда ему деваться…
– Странно, очень странно, – пропел Нестерович. – Говоришь, на убийцу не похож… Но и я, ежели без сапог и мундира, тоже не похож…
– На убийцу?
– Шути, Семен Ешуевич, да не забывайся… Сам знаешь: я к вашему племени со всей душой… ни одного еще, кажется, не обидел… хотя его благородие исправник Нуйкин и даже батюшка в церкви говорят, что вы одна шайка… что дай вам волю, вы всю Русь к рукам приберете и германцу под хорошие проценты в аренду сдадите… но я своего мнения держусь. Люди, говорю, как люди… надобно только указ издать и окрестить всех… а крещеных, таких, как литовцы, в православие перевести… тогда и порядка больше будет, и покоя…
– А что, разве крещеные… православные в вице-губернаторов не палят?
– Палить-то палят, но своя пуля – не чужая, а чужая – как шрапнель, во все стороны бьет.
В дверь комнаты постучали, и прыщавый Семен сказал:
– Входи, Морта, входи!
Она просунула в дверь голову и спросила:
– Есть будете?
– Буду, – ответил Семен.
– И на господина урядника нести? – справилась Морта.
– Премного благодарен, – ответил Нестерович и по-шутовски поклонился.
Но Морта не уходила.
– Я буду есть один, – сказал прыщавый Семен, и она исчезла.
– Так как, Семен Ешуевич, по рукам?
– Поговорим, когда выздоровею…
– Чего тянуть?.. Ничего зазорного я не предлагаю… Разве служить отечеству зазорно?
– У меня нет отечества, – тихо произнес Семен.
– Как это нет?
– Нет, и все… Корчма – это еще не отечество…
– А все кругом… все, кроме корчмы, земля… лес… поля…
– Я хотел бы перед обедом помолиться, – сказал прыщавый Семен. – Вот уже две недели, как не молился…
– Молись, – уступил Нестерович. – Только на Бога надейся, а сам не плошай.
Он вдруг набычился, закусил красные, как рана, губы и направился к выходу.
– Если я что-нибудь узнаю, сообщу… Только сюда больше не приходите…
– Поможешь найти – все пятьсот твои… Честное слово… Или ты думаешь, у урядника нет ни совести, ни чести?..
– Когда я думаю о Боге, я не могу думать об урядниках, – сказал прыщавый Семен и оглянулся. Но Нестеровича в комнате уже не было.
Сын корчмаря подошел к восточной стене и стал шептать дневную молитву. Он молился не потому, что верил в Бога, а потому, что ему хотелось каких-то других слов, не таких расхожих, как «вице-губернатор», «золотые», «постель», «еда». Правда, и слова молитвы были такие же знакомые, но в них журчал какой-то иной, потусторонний смысл, безобидный и завораживающий. Единственное, что прыщавому Семену всегда мешало, была стена, немая, безропотная, безответная. Она маячила перед ним и дома, и в синагоге, и даже небо, на котором обитает Господь, было для него не чем иным, как огромной, опрокинутой навзничь, голубой или затянутой тучами стеной, которую ни один смертный пробить не в силах. В отличие от отца, засыпавшего Всевышнего своими мелочными и никчемными просьбами, прыщавый Семен поучал Бога и все время старался втолковать ему, что, пока не рухнет стена между смертными и их идолом, пока человек воочию не убедится в его могуществе, не обожжет свою плоть о котлы с кипящей смолой для грешников, до тех пор каждому на свете будет дозволено все: убивать, вешать, предавать, доносить, отрекаться. Третье отделение могущественней Бога, ибо награду жандарма – пятьсот золотых – можно потрогать руками, на собственной шкуре можно испытать и его кару. А что Бог? Его золотые и его виселицы, его миро и его смола там, за облаками. Стало быть, бойся и чти не Господа, а жандарма… Ардальона Нестеровича… уездного исправника Нуйкина… и, коли можешь, сам стань жандармом. Не обязательно в мундире.
Морта принесла еду в тот момент, когда прыщавый Семен примеривал у восточной стены жандармский лапсердак.
Ел он под удары грома, докатывавшегося откуда-то из-за леса, вяло черпая ложкой щавелевый суп, забеленный сметаной. Через окно было видно, как молнии полосуют небо: вспыхнут, зальют все до самого горизонта и погаснут. Прыщавому Семену вдруг пришла в голову безотрадная мысль, что и сам он похож на молнию, только без грома и без неба, и что если он кого-то и может поджечь, то только самого себя, незадачливого, никого не любящего и нелюбимого. Прожил на свете больше тридцати лет – и что он видел, чего добился? Нахлебник, ухажер крепостной девки, сообщник урядника, тупицы и солдафона. А ведь совсем недавно, каких-нибудь десять лет тому назад, он еще мечтал стать великим раввином, наподобие Виленского Гаона Элиаху мечтал посвятить себя избавлению евреев от пороков и унизительного раболепия перед каждым городовым, вывести их из неволи, как Моисей из Египта.
Как часто видел он себя во главе толпы и слышал свой громоподобный голос:
– Евреи! Я зову вас на землю праотцев. Все, в ком осталась хоть капля чести и достоинства, за мной! За мной, сыны и дщери Израиля!
А чем все кончилось?
Все кончилось тем же: равнодушием и страхом. Трижды проклятым еврейским страхом. Оказалось, собственная задрипанная лавка, собственная корчма и парикмахерская дороже, чем камни иерусалимского храма.
Даже родной отец, отдавший его в учение к рабби Ури и позже пославший его в Тельшяй, в ешибот, сказал ему:
– Семен! Брось свои бредни, займись лучше торговлей. Пока евреи соберутся на Земле обетованной, твои кости сгниют. Вот тебе для начала двести рублей, открой лавку и продавай не камни иерусалимского храма, а селедку.
И он послушался, открыл лавку и сгорел потому, что евреи покупали селедку не у него, а у его соседа.
Когда прыщавый Семен вернулся в местечко, ему уже ничего не хотелось: ни Иерусалима, ни селедки. От селедки его просто мутило, и с тех пор в доме не держали ее, хотя корчмарь Ешуа терпел на этом большие убытки.
Прыщавый Семен кончил есть, поставил миску на стол и лег.
За лесом по-прежнему гремело, и молнии, необычайно яркие и недолговечные, вспыхивали в окне, как дурное предзнаменование.
Наконец зарядил дождь. Крупные капли клевали стекло, как куры хлебные крошки.
На цыпочках в комнату вошел корчмарь Ешуа.
– Ты не спишь? – спросил он.
– Чего тебе надо? – грубо одернул отца прыщавый Семен.
– Ничего.
– Раз ничего, зачем пришел?
Прыщавый Семен искал ссоры, но Ешуа был начеку.
– Тебе привет от Вайсфельда, – начал издалека корчмарь.
– Так я тебе и поверил.
– Ей-богу… О твоем здоровье справлялся… И еще тебе привет от Симхе Вильнера…
– Тоже о моем здоровье справлялся? – сверкнул глазами прыщавый Семен.
– Он всегда справляется… хоть и дальний, но все-таки родственник.
– Все?
– Что все?
– Все приветы?
– Вроде бы все…
– Тронут. – Прыщавый Семен вдруг встал с кровати, подошел к отцу, взял за плечи, повернул к двери и властно прохрипел: – Иди! А то, не дай бог, еще заразишься.
Ешуа и эту обиду снес.
– Да, – задумчиво протянул корчмарь. – Весь дом горит… от пола до крыши… и чад от нас идет по всему местечку…
– Что ты мелешь?
– Я видел его… того… в ермолке…
– Где? – оживился сын.
– Я его до Рахмиэлова овина довез.
– Ты… довез?
– А что? Еврею приходится ладить даже с нечистой силой.
– И что же ты узнал?
– Сирота… мать погромщики убили… кровь, говорит, еще не засохла…
– Чья?
– Матери… на булавке…
– Брешет, собака!
– Проехали мы с ним от развилки до окраины, а я до сих пор опомниться не могу… всю ночь ворочался… не спал…
– Говоришь, у Рахмиэлова овина слез?
– Да, – сказал корчмарь. – Ты его, Семен, не трогай! Может, в твоей хворобе он и не виноват. Я даже его к нам пригласил. Накормим, дадим денег на дорогу, и пусть едет с миром…
Прыщавый Семен молчал и что-то обдумывал.
– А если не придет?
– Тем лучше, – ответил корчмарь.
– Нет, – возразил сын. – Так легко он не отделается…
– Зачем еще один грех брать на душу?
– Один или сто… Кто виноват в одном, тот виноват во всех.
– Что же, по-твоему получается, я и за грехи урядника отвечаю? – поддел сына Ешуа.
– Отвечаешь! – воскликнул прыщавый Семен. – Разве ты хватаешь его за руки, когда он кого-нибудь порет или лезет в чужой карман? Все мы грешники… И этот твой несчастненький в ермолке тоже… только до его греха докопаться надо… И я кровь из носу – докопаюсь… Праведник вшивый нашелся… посланец Бога… все мы посланцы дьявола, все… Иди!
– Господи! Горим, горим, – пробормотал Ешуа.
– Горим, – согласился прыщавый Семен. – Горим и водкой тушим.
У двери корчмарь Ешуа обернулся:
– Зачем к тебе Нестерович приходил?
– Приветы передал, – усмехнулся прыщавый Семен. – От уездного исправника Нуйкина… от виленского вице-губернатора, от царя-государя Александра Второго… справляются о моем здравии, спрашивают, не нужно ли чего-нибудь мещанину Семену Манделю…
– Не связывался бы ты с ним, – посоветовал корчмарь.
– А с кем прикажешь связаться? С Маркусом Фрадкиным? С братьями Спиваками? Да я для них трактирный ублюдок, от меня за версту твоей водкой разит.
– Можно отсюда уехать.
– Куда? В Ковно? В Вильно?
– В Америку.
– Торговать селедкой? И там на мещанина Семена Манделя какой-нибудь урядник или исправник найдется. Зачем менять исправников?
– Умному еврею и исправник – не помеха.
– А я не умный… Я дурак. А дураку даже собственный отец – помеха.
– Ты еще болен, Семен.
– А я никогда не был здоров.
– И все же мой совет: держись подальше от Нестеровича. Если еврей чего-то и может добиться в жизни, то не чужими наручниками, а своими руками…
Через три дня прыщавый Семен впервые вышел из дому. Он слонялся по двору, вокруг корчмы, дышал полной грудью и ни о чем не думал. Он подолгу сидел под дикой грушей и глядел на крохотные сморщенные плоды, на корявый ствол, на чистое, как будто выстиранное небо, по которому куда-то плыло единственное заблудившееся облако, быстрое и легкое, как детское сновидение. Прыщавый Семен провожал его печально-завистливым взглядом, и оно, просвеченное чужой болью, как бы замедляло свой бег.
– Чего здесь сидишь? – спросила у него Морта.
– Смотрю…
Прыщавый Семен помолчал и добавил:
– Вон на то облачко… На что оно, по-твоему, похоже?
– На что? – Морта вскинула голову. – На кошку… Вон – мордочка, а вон – хвост…
– На кошку, говоришь, – разочарованно протянул Семен. – А я подумал… это, конечно, глупо… Я подумал, что оно похоже на мою душу… Ха-ха-ха… Маленькое белое пятнышко в неоглядной пустоте… мечется… летит… тает… и никому, ни Богу, ни черту, нет до нее дела…
– Чем сидеть, пошли лучше коней поить, – неожиданно предложила Морта. – Я поведу каурого, а ты – гнедую.
– Пошли, – столь же неожиданно согласился Семен.
Они шли лесом: Морта впереди, ведя за поводья каурого, а Семен с гнедой чуть сзади. Лошади едва трусили, отряхивая с грив сосновую хвою.
Прыщавый Семен смотрел на загорелую шею Морты, на ее крепкие шуршавшие в траве ноги и чувствовал, как с каждым шагом к нему возвращаются силы и бунтует изголодавшаяся, не укрощенная болезнью плоть.
– Я буду купаться, – сказала Морта, когда лошади напились.
– И я буду, – подхватил Семен.
– Тебе нельзя… Отвернись!..
– Ладно.
– Отвернись!
– Господи! Вторая дева Мария! – выдохнул он и отвернулся.
Морта быстро сбросила с себя юбку, потом блузку и плюхнулась в сорочке в воду.
Волосы ее качались, как водоросли, и груди светили из-под рядна, как две спелые груши.
– Теперь смотри! – крикнула она, все дальше отплывая от берега.
Каурый и гнедая стояли в воде, касаясь крупными усталыми головами, гривы их перепутались, ноги их переплелись, ноздри расширились, и из них что-то прорастало, как прорастает колос из земли: неслышно, грешно и упрямо.
Морта вышла из воды, схватила одежду, бросилась в кусты и, не выжав волосы, оделась.
– Ты красивая, – сказал сын корчмаря.
– Все-то ты выдумываешь, Симонас!
– Красивая, – пробормотал он. – И я знаешь чего хочу…
– Не знаю, – опасливо пролепетала Морта.
– Хочу, как они… как наши лошади… чтобы одна грива… одни ноги… один рот…
– Не надо, Симонас!.. Ради всех святых!..
Морта бросилась к реке, выгнала из воды каурого и гнедую, вцепилась в поводья и не оглядываясь зашагала прочь. Она вспомнила, как десять лет назад, возвращаясь с водопоя, забрели они с Семеном на отцовское подворье. Изба развалилась, а пруд ряской затянуло. Морта обошла двор, заглянула в крест-накрест заколоченное окно, подняла с земли прогнивший деревянный башмак, напялила на босу ногу и похоронно сказала:
– Мамин башмак… мамин…
Прыщавый Семен сидел на кауром, тогда еще молодом и норовистом, и ждал, пока Морта наплачется всласть. Он никак не мог взять в толк, зачем затащила она его на этот пустырь, на это разоренное и богом забытое подворье, где даже ветру делать нечего: ставни сорваны, деревья срублены, трава не растет.
– Конура Саргиса! – обрадованно воскликнула Морта. – И цепь… Можно, – обратилась она к Семену, – я возьму ее?..
– Далась она тебе… ржавая вся, – не слезая с лошади, буркнул сын корчмаря.
– Можно?
– По мне – забирай все: и цепь, и башмак, и конуру.
– Я только цепь, Симонас.
Его коробила ее безоглядная просительность и уничиженность.
– Да возьми ты ее!.. Возьми!.. – отмахнулся он. Не сказав ни слова, Морта перекинула цепь через круп гнедой, еще раз оглядела осиротевшую вотчину и дернула повод.
– Иногда я вам завидую, – сказал прыщавый Семен, когда лошади поравнялись.
– Нам?
– Твоему отцу… твоим братьям… тебе… вообще литовцам.
– А чего нам завидовать? У нас ничего нет.
– У вас есть цепь, которой вы привязаны к этому небу, к этому полю, к этой конуре. А у нас ее нет. Понимаешь, нет!..
– Но у вас есть деньги. За деньги все можно купить.
– Такую цепь за деньги не купишь… За нее кровью платят… каторгой.
Странно, чего ей вспомнились и та пора, и тот разговор, и та цепь? Уцелело ли что-нибудь от отцовской хаты? Морту вдруг потянуло туда, потянуло властно, неудержимо, как будто все там снова ожило: и колодец, и ставни, и корова, как будто снова – через столько-то лет! – распахнулись крест-накрест заколоченные окна и в крайнее из них, в то, что выходит в сад, выглянула мать в цветастом платке и громко, кажется, на всю землю крикнула:
– М-о-о-р-т-а-а-а!
– Дальше ступай одна, – ворвался в ее воспоминания хриплый баритон Семена. У Рахмиэлова овина он отдал ей лошадь и сказал: – У меня к ночному сторожу дело… Ежели отец спросит, где я, скажи: у реки.
– А ты скоро?
– Скоро.
Ночного сторожа Рахмиэла прыщавый Семен дома не застал. За домом, на огороде, возился Казимерас, тот самый Казимерас, который у всех евреев местечка гасил по субботам свечи.
– А хозяин где?
– Ушел.
– Один?
– Один.
– Говорят, у него какой-то побродяга живет.
– Арон, – охотно объяснил Казимерас.
– Арон?
– Пасынок его.
– А ты, часом, не путаешь?
– Может, и путаю. – Казимерас снова взялся за лопату. Долгие разговоры его утомляли, и он от слов уставал скорее, чем от вил или серпа. – Подожди, придет Рахмиэл, он тебе сам все растолкует.
VII
Когда же он придет, когда же, когда?..
Зельда Фрадкина сидит за пианино и играет фугу Баха. Дома, кроме Ошеровой вдовы Голды – кухарки и поломойки, – никого нет. Отец в глуши не засиживается (на то он и лесоторговец), разъезжает по Северо-Западному краю, ругается с плотогонами, пропадает на лесопильнях. Старший брат Зелик с женой и слабоумной тещей живет в Вилькии, хозяйничает на спичечной фабрике. Если и приезжают сюда, то ненадолго, на недельку, от силы на две, хлебают ложками липовый мед, едят пригоршнями землянику или чернику, а брат Зелик охотится на перепелов и вальдшнепов, приносит их в ягдташе домой, бросает на кухонный стол и победительно говорит Голде:
– Ощипай!
Голда ощипывает их, и Зельде по ночам снятся сны, в которых летают ощипанные птицы.
Время от времени отец привозит ей женихов, тихих и нетребовательных, как огородные пугала. Он заставляет Зельду играть, читать русские стихи, и женихи млеют от неискреннего припадочного восторга. После их отъезда в доме остается запах глупости и породистого пота, и Голда по ее просьбе долго проветривает комнаты. Зельда, может быть, и вышла бы за кого-нибудь из них замуж, но ей не хочется рожать евреев. Родишь и приговоришь своих детей к черте оседлости, как к каторге, век не простят. А за инородца отец никогда ее не отдаст. Никогда. Инородец может быть кем угодно – другом, покупателем, компаньоном, но только не родственником, тем паче мужем.
Зельда сидит за клавесином, и мнится ей, будто она вовсе не Фрадкина, а какая-нибудь княгиня Трубецкая, отправившаяся в бессрочную ссылку к мужу-декабристу, и роль верной жены-мученицы льстит ей до слез, хотя ни брат Зелик, ни сын корчмаря Семен, ни урядник Нестерович не похожи на опальных князей и кандалами-цепью гремит только Каин, старая охотничья собака.
Зельда нажимает на клавиши и вся погружается в какое-то зыбкое и сладостное забытье. Из разноголосицы звуков и мыслей и складываются, лепятся, возникают и исчезают лица мучеников и героев, и среди них лицо Верочки Карсавиной, ее лучшей гимназической подруги. Вместе с ней собиралась Зельда поехать сестрой милосердия «на холеру» в Саратовскую губернию, кажется, в Ртищево, но отец встал на дыбы.
– Это их холера, – сказал он. – Верочка поедет в Саратов, а ты в Петербург.
Верочка поехала в Ртищево, заболела и не вернулась, а ее, Зельду, в Петербурге на Высшие женские курсы не приняли.
Зельда помнит, как они с Верочкой Карсавиной играли эту фугу в четыре руки, помнит ее тонкие и длинные, как праздничные леденцы, пальцы.
И еще Зельда помнит выпускной бал в большом и светлом гимназическом зале. В нарядном платье и в черных лакированных туфельках стоит она у стены, на которой висит портрет государя-императора Александра Второго, его величество смотрит на нее по-отечески строго, подбадривает, и она улыбается ему и Верочке Карсавиной, проносящейся мимо в вихревом искрометном вальсе. Верочка откидывает свою изящную легкую головку, смеется, и смех ее звенит беззаботно и заразительно.
– Ты почему не танцуешь, Зельда? – спрашивает Верочка сквозь смех.
Почему? Зельда только разводит руками. Она единственная еврейка на балу. Был еще, правда, Ноах Берман, сын адвоката, но в прошлом году помер. Когда Ноах был жив, он всегда приглашал ее и прижимался к ней своей впалой, изъеденной чахоткой грудью. Ноах ее любил. Ее любили все мертвые: и мама, и бабушка. Но зачем ей, Зельде, любовь мертвых? Зачем?
Она с завистью смотрит на подругу, на государя-императора, и ей кажется, будто сошел он с портрета, щелкнул перед ней каблуками, крутанул гусарские усы, закружил ее в танце. Все расступаются перед ними, а царь кружит ее и кружит.
– Я еврейка, ваше величество, – говорит Зельда.
– Неужели? – диву дается царь. – Ни за что бы не поверил.
– Еврейка, еврейка, еврейка, – в такт праздничной музыке твердит она. Но царь прижимается к ней, как чахоточный Ноах Берман.
– На балу все равны, – роняет государь.
И за ним, за владыкой Всея Великыя, Белыя и Малыя, нараспев повторяют: и директор гимназии Аристарх Федорович Богоявленский, и антисемит учитель латыни Коренев, и отец Георгий в длиннополой шелковой рясе.
– На балу все равны… на балу все равны… на балу все равны…
Когда же придет отец, когда же, когда?..
Зельда вдруг переходит с фуги Баха на вальс. Господи, как скучно! Ваше величество, почему так скучно после бала? Отец небось сейчас торгуется с кем-нибудь, считает убытки и прибыль. Что за радость в прибыли? Построит еще один дом, купит еще сорок серебряных ложек и вилок, сошьет у самого модного ковенского портного новый камзол, повесит в шкаф и отдаст на съедение моли. Напрасно отец так уповает на деньги. Разве они открыли ей двери на Высшие женские курсы в Петербурге?
Верочка Карсавина уговаривала ее креститься.
– Ты же русская, – жарко убеждала она Зельду. – Какая из тебя еврейка? У тебя только имя еврейское и, может быть, глаза, и то только чуточку, когда ты грустная… Хочешь, я поговорю с отцом Георгием?..
В самом деле, какая она еврейка? Кроме паспорта и сострадания к своему племени, ничего еврейского в ней не осталось. Язык? Да она по-русски говорит в тысячу раз лучше. Во всяком случае никто еще ни разу не посмеялся над ее произношением.
– Карл у Клары украл кораллы! – торжествующе выкрикивала она на переменах в гимназии.
Отец и Зелик еще цепляются за еврейство, но и то скорее из приличия, чем из преданности. Россия – море, еврейство – пруд, речушка, заросшая кугой, топь, трясина.
И все же что-то удерживает Зельду от такого шага. Разве быть «православной из жидов» лучше? Докопается кто-нибудь до ее бабушки Гинды, до ее матери Сарры, до ее отца Маркуса Фрадкина и брата Зелика, и море-океан тотчас превратится в ту же мелководную речушку, кишащую пиявками и родными лягушками.
Когда они несолоно хлебавши вернулись из Петербурга, отец предложил ей место в своей конторе в Вилькии, но и от конторы Зельда отказалась. Какое ей дело, сколько леса сплавляют росплывью и сколько плотами? Корпеть над бумагами, проверять счета, выуживать из купчих ошибки – это тоже сменить веру. Зельда Фрадкина – торгового вероисповедания! Весело, ох как весело после бала!..
Когда же он приедет, когда же, когда?..
Отец обещал привезти из Ковно настройщика.
Когда он привезет его, Зельда подойдет и скажет:
– Милостивый государь! В первую очередь соблаговолите настроить меня! У меня что-то там оборвалось…
Глупости, глупости… Ничего она ему не скажет… Она никому ничего не скажет. У всех что-то там оборвалось. У всех. Потому, наверно, счастье – скучно, а несчастье – возвышенно.
Скоро Успенье. На Успенье Зельда сходит в костел и подаст нищим.
– Доброта вашей дочери безгранична. Но подобает ли еврейке подавать в притворе иноверцам? – жалуется на нее отцу молодой рабби Гилель.
Пусть рабби Гилель не беспокоится: и добро можно творить от скуки. Она и еврейкой останется потому, что и русским скучно. И литовцам, и калмыкам, и, как их там, ногайцам… Ах, как скучно после бала, рабби Гилель! Как там в Писании сказано: «И сотворил Бог скучного человека из праха земного, и вдунул в ноздри его скуку, и стал человек существом скучным. И насадил Господь скучный сад в Эдеме… и поместил там человека, которого от скуки сотворил».
В комнату с половой тряпкой в руке входит Голда.
– Все играете, барышня? – искренне сетует она. – Погуляли бы, пока полы помою и пока ваши ученички не пришли.
– Мой, – отвечает Зельда, откидывается на спинку стула и долго трет озябшие от музыки руки.
– Вы уж, барышня, не сердитесь, по мне, лучшая музыка – это мужчина, – Голда прыскает и мочит тряпку в ведре.
– А у тебя… много их у тебя было? – неожиданно спрашивает Зельда.
– Боже упаси! – машет тряпкой Ошерова вдова, и грязные брызги летят на умолкший клавесин.
– А когда не любишь? – не оборачиваясь, допытывается хозяйка. – Тогда какая музыка?
– Что правда, то правда. Когда не любишь, тогда не музыка, а вы уж, барышня, не сердитесь, скрип… как будто во дворе сырые дрова пилят…
Голда снова прыскает и принимается с веселым остервенением натирать половицы.
– А твой жилец, – продолжает Зельда, – он кто?
– Ицик, – но-кошачьи выгибает спину Голда. – Лесоруб.
– Еврей – лесоруб?
– У вашего папаши в работниках. Играйте, барышня, играйте. Под музыку полы мыть приятней.
Но Зельда не притрагивается к клавишам. Она смотрит на Голду, на ее всклокоченные волосы, подоткнутую домотканую юбку, на тяжелые голени.
– Твой жилец с меня глаз не сводит в синагоге.
– Молодой бычок на все стадо смотрит, – орудуя у ног хозяйки тряпкой, говорит Ошерова вдова. – Поднимите, пожалуйста, ноги. Господи, какие они у вас худющие!..
– Ноги как ноги, – защищается Зельда и почему-то вся съеживается. «Лучшая музыка – это мужчина». Грубо, но, пожалуй, верно. Не воздух исцеляет от хандры, не Бах и не Шопен, а любовь и смерть. На свете, говорила Верочка Карсавина, есть один тиран, перед которым все бессильны, этот тиран – любовь.
– Придут ваши погромщики и наследят, – ворчит Голда.
– Никакие они не погромщики.
– Каков отец, таковы и дети.
– И отец не таков. Урядник – чин, а не вина.
– Вы уж барышня, но вы совсем людей не знаете. Урядник и чин, и вина.
Может, Голда права. Может, не стоило связываться с Нестеровичем. Но он слезно умолял:
– До ближайшей школы, почитай, верст пятнадцать. Детишки совсем одичают.
Я не учительница, возражала Зельда. Я обыкновенный человек… к тому же еврейка.
– А что, еврей должен непременно научить дурному? – умасливал ее урядник.
– Коли не боитесь, приводите, – уступила Зельда.
– А чего бояться? Фрадкины люди добродетельные и благонадежные.
Пока благонадежность устанавливают урядники, благонадежных нет и никогда не будет, подумала Зельда, но смолчала.
– Идите, барышня, идите, – не унимается Голда. – Бесенята вас подождут. А я полы помою и баньку натоплю. Может, даст бог, роб Маркус и Зелик на охоту приедут. Давненько не щипала дичь… давненько.
Зельда выходит в сад.
Она подходит к конуре, треплет Каина по шерстке, тот садится на задние лапы и благодарно скулит. Морда у него усталая и умная, как у человека. Коричневые, слезящиеся от яркого света глаза смотрят сочувственно и выжидающе.
– Ну что, Каин, в путь?
Собака сияет от счастья.
Обычно они уходят из дому до вечера, бродят по полям, по перелескам. Каин пугает птиц, а Зельда думает о своей жизни, где, кроме бала, не было ничего хорошего. Каин заменяет ей однокашников и учителей, и она часто обращается к нему не по кличке, а по чьему-нибудь имени:
– Аристарх Федорович! Зарецкий подбросил мне в парту ужа!
Или:
– Трубицин! Карсавина просила тебе передать, что она тебя нисколечко не любит.
Каин отзывается на все имена, даже женские. Иногда Зельда спускается с ним к Неману, садится на мокрый песок и что-то чертит лозинкой. Пес, навострив уши, следит, как она гладит нарисованного неживого мужчину, и в коричневых собачьих глазах посверкивает терпеливое удивление.
У Рахмиэлова овина Зельда сталкивается с прыщавым Семеном.
– Здравствуйте, – радостно говорит сын корчмаря.
– Здравствуйте!
– Все с собакой да с собакой. Не надоело?
– Нет, – отрезает Зельда и собирается пройти мимо, но прыщавый Семен пристраивается к ней, забыв про бродягу в ермолке и про свою лошадь.
– Можно, я заменю его? – предлагает сын корчмаря и умывает угрюмое лицо улыбкой.
– Кого?
– Пса вашего.
– Вы его не можете заменить, – отмахивается от него Зельда.
– Почему? Я умею кусаться… ходить на задних лапах… сидеть на цепи… Что еще требуется от пса?
– Чтобы он молчал.
– И только? Молчу! Молчу!
И прыщавый Семен замолкает.
– Ну как, годится? – нарушает он через миг свой обет. – Приходите вечером к старой груше, я покажу, какой лозиночкой надо мужчин рисовать…
Зельда краснеет и убегает.
– Приходите, – вдогонку, как камень, швыряет прыщавый Семен и заливается лаем: – Гав! Гав! Гав!
Нахал! Почему его все называют Прыщавым? У него же ни одного прыщика нет. Когда Семен молчит, он даже красив – лицо мужественное, особенно складки у рта – как будто резцом по камню, – глаза печальные, с диковатым отливом, губы сжатые, обиженные, только зубы подвели – кривые и жадные.
Вот и лес. Сквозь кроны струится солнце – бабушкина прялка прядет золотую пряжу.
– Семен! – окликает собаку Зельда.
Гончая ластится, и не поймешь, то ли слеза, то ли солнечный луч брызнул у нее из глаз.
– Скажи, Семен, тебе все равно, какие у меня ноги?
Каин-Семен виляет хвостом и, заслышав в можжевельнике шорох, бросается в густые дымчатые заросли.
Зельда нагибается, срывает кустик перезрелой земляники, вертит в руке, подносит к губам и откусывает ягоды.
В лесу все переливается и благоухает, как за свадебным столом.
Зельда приваливается к сосне, отыскивает взглядом голубой лоскуток неба и, словно в забытьи, бормочет:
– Господи! Чем я хуже Голды? Я не могу… я не хочу лозинкой по песку… Господи!..
Она всхлипывает, смахивает со щеки слезу.
– Для кого ты меня бережешь, Господи?
Вокруг тишина. Лист и тот не шелохнется.
Прибежал Каин.
Тычется в юбку, зовет ее.
Куда ты меня, пес, зовешь? Разве ты не видишь: я с Господом разговариваю?
Собака скулит и поглядывает на можжевельник. Ну что ты там, дуралей, увидел?
Зельда бредет за Каином, приближается к можжевельнику, замечает распластанного человека, ермолку, вскрикивает и пускается наутек.
– Каин! Каин! – кричит она, продираясь через кустарник.
Гончая догоняет ее на опушке, высовывает розовый язык и выталкивает из себя можжевеловый воздух.
– Кто там? – безотчетно спрашивает Зельда. – Кто там?
…– Что с вами, барышня? На вас лица нет. – Голда стоит во дворе и по-мужски, короткими сильными замахами, колет дрова. – Кто за вами гнался?
– Никто по гнался, никто… Просто утомилась, – отвечает Зельда.
Она входит к себе, плюхается на обитую плюшем софу, утыкается в мшистое изголовье, пытается вздремнуть, но не может, ложится на спину, пялится на затейливую висячую лампу, купленную отцом у какого-то разорившегося шляхтича, в резной потолок, напоминающий шахматную доску, только без фигур, вскакивает, открывает буфет, достает бутылку ликера, припасенного Зеликом на случай удачной охоты, наливает полную серебряную рюмку и выпивает до дна.
Голда стучится в дверь, зовет хозяйку, но Зельда не отзывается. Она стоит, скрестив на груди руки, и смотрит в сад, на беременные деревья, на пичугу, перепрыгивающую с одной ветки на другую, – ну что ей неймется, чего она мечется, все ветки одинаковы. В ушах Зельды отдается шорох можжевельника и топот ее худых ног по проселку. Она сама не понимает, почему бросилась наутек. Стыд ее прогнал или страх? Стыд, конечно, стыд. Что, если тот… в ермолке… жив и разнесет по всему местечку: знайте, люди, дочь Маркуса Фрадкина Бога о грехе молила, просила, чтобы он послал ей какого-нибудь жеребчика, он, прыщавый Семен, кидай Морту, выходи на подмогу!
Зельда снова наливает себе полную рюмку. Ликер горячит кровь, ликер успокаивает.
– Сперва помоетесь или сперва покушаете? – из-за двери гудит Голда.
– Покушаю.
Голда приносит бульон с клецками и куриные котлеты.
– Приятного аппетита, барышня. А я пошла мыться. Вторую неделю груди чешутся…
– Иди, иди!
Когда Голда уходит, Зельда снова наливает себе рюмку, подносит к губам и, не отведав, ставит на стол. У нее и от двух рюмок голова кружится.
Когда же приедет отец, когда же, когда?..
Привез ее сюда, нанял Голду, и живи как в раю. Свежий воздух. Парное молоко. Музыка. Музыка? Рай? Не рай, а неволя, плен! Зельда пленница родного отца! В Вилькии она еще может подцепить какого-нибудь инородца. А здесь? Чернь, голытьба и единственный инородец – урядник Ардальон Нестерович. На него-то Зельда уж точно не позарится. Маркус Фрадкин – человек дальновидный. Лучшее лекарство от блажи – глушь и одиночество. Сам он небось ублажает свою плоть и душу другим. Зельда знает, к кому он ездит, когда свободен от дел. «У папы в Вильно женщина, – сказал ей Зелик, – ты, наверно, дурочка, думала: к тебе на свиданье каждое воскресенье мчится, а он – к ней!.. Папаша ей даже дом построил. А ты знаешь, дорогая сестрица, кто его избранница? Полька!.. Чистокровная!.. Бывшая графиня!.. Наш богомольный отец спит с польской графиней!» Графиня, графиня… А мама была дочерью торговки рыбой. В доме бабушки всегда пахло линями. А чем пахнет в доме графини?
Когда отец приедет, Зельда обязательно спросит у него:
– Папа, чем пахнет в доме графини?
Над банькой клубится тонкий, как мышиный хвост, дымок.
Зельда прячет в буфет бутылку – скоро на урок придут Нестеровичи.
Что с ними будет, когда она отсюда уедет? Кто их будет учить? А может, Голда права? Может, их и учить не надо – еще вырастут погромщиками, такими, как учитель латыни Коренев.
– Чего вы все время жалуетесь и клевещете на Россию? Да вы ей ноги должны целовать, что приютила!
Как все сейчас далеко: и учитель латыни Коренев, и отец, у которого в Вильно женщина-дом, бывшая графиня. Только от баньки дымок – вон он, размашистый, как подпись директора гимназии Аристарха Федоровича Богоявленского.
Из сада в комнату через открытое окно струится запах прелой листвы и отгоревших пионов.
– Я помылась, – сладострастно говорит Голда. – Попаришься на полке, и словно новорожденная. – Она приподнимает обеими руками разморенные груди и, крутя бедрами, враждующими с тесной домотканой юбкой, собирает посуду. – А вы, барышня, выпили!
– Выпила.
– Зачем?
– Говорят, от ликера ноги толстеют.
– Неужели?
– Да. От каждой рюмки на два вершка.
– Шутите, барышня.
– Не шучу.
– Вы уж, барышня, не сердитесь, но я вам один бабий секрет выдам.
– Выдай.
– Главное у бабы не ноги.
– А что?
– Пряник. И сколько в него Господь Бог меду положил, – Голда прыскает и уносит посуду. На пороге она оборачивается: – Когда помоетесь, не забудьте на угли воду плеснуть. В такую сушь одна искра – и беда! И закройте все двери на ключ.
– А кто сюда, кроме Нестеровичей, придет?
– Мало ли кому в голову взбредет. А поживиться есть чем. Одних серебряных вилок и ложек сорок штук. Говорят, в местечке какой-то бродяга объявился. Выдает себя за посланца Бога. Но я-то знаю: на словах посланец, а на деле вор.
– А как он выглядит?
– Сама я его не видела. Мне Ицик рассказывал.
– Ицик?
– Говорит, коренастый… в ермолке, приколотой булавкой к волосам… Будьте, барышня, осторожны. Такой и обокрасть может, и на пряник позариться, – сыплет скороговоркой Голда и, гремя посудой, уходит.
Смеркается. Над банькой по-прежнему вьется витиеватый дымок. Что делать?
Нет сил ни мыться, ни гасить огонь.
Зельда запирает на ключ двери, поднимается на второй этаж в комнату Зелика, снимает с оленьего рога ружье брата, спускается вниз и от нечего делать начинает целиться в окна, в клавесин, в висячую лампу, купленную за бесценок у разорившегося шляхтича, в большую фотографию деда и бабушки. И кажется Зельде, будто бабушка побелела от страха и чуть повернула влево голову.
– Вот что делает русская гимназия с еврейскими детьми, – ворчит старуха на фотографии, и Зельда как бы слышит ее голос, пропахший линями.
Дзинь, дзинь, дзинь, захлебывается колокольчик.
Отец!
Зельда бежит к двери.
А где же его ключ?
– Кто там?
Дзинь, дзинь.
Нестеровичи?
– Кто там?
– Откройте!
Голос незнакомый, с хрипотцой и мольбой.
Зельда медлит. Если суждено случиться несчастью, оно выломает дверь.
Она поворачивает ключ и впускает того… из можжевельника… в ермолке…
– У вас пол помыт, – говорит пришелец. – Я сниму башмаки. На них грязь налипла.
Зельда стоит и смотрит, как он расшнуровывает бечевку, как стаскивает с ног покоробившуюся обувь, как аккуратно ставит ее в угол.
– Прости, – говорит человек в ермолке. – Увидел: баня топится – и решил зайти. Давно я не был в бане. Ты меня не бойся.
– А я и не боюсь.
– А ружье зачем?
– Ружье брата. Зелика. Пока угли тлеют, идите… мойтесь… я вам и полотенце, и мыло дам…
– Спасибо, – говорит пришелец и оглядывает комнату. – Это я в детстве, – тычет он в фотографию на стене.
– Вы? – растерянно улыбается Зельда. На фотографии снят Зелик в бархатной ермолке, в белой сорочке, перетянутой подтяжками, толстый и глупый.
– Я. Помню, как мы с отцом ходили в фотографию… как он усаживал меня на стул… как поправлял ермолку… Фотограф спрятался под черным покрывалом, высунул голову и сказал: «Спокойно, мальчик! Сейчас вылетит птичка!» Это было на углу Вокзальной и Базарной. Потом отец купил мне булочку с изюмом, и я все время спрашивал: «А где птичка?»
– Никакой птички нет, – спокойно, даже весело объясняет Зельда. – Свет падает на ваше лицо, потом изображение фиксируется на стеклянной пластине, потом пластина проявляется в растворе…
Страх улегся. Разве насильник и злодей перед тем, как совершить злодеяние, снимет в прихожей башмаки? Насильник и злодей не посмотрит, помыт пол или не помыт.
– Есть птичка, – яростно говорит человек в ермолке. – Твоя, видно, еще не вылупилась.
– Откуда?
– Из памяти. Потому, наверно, и ты хочешь, чтобы я скорей ушел. К кому ни придешь, все хотят, чтобы я скорей ушел.
– А почему все хотят? – спрашивает Зельда, пораженная его догадливостью.
– Почему? Потому что их память – свалка страхов. Одни про меня думают: вор, другие – сумасшедший, третьи – нищий…
– А на самом деле?
– И вор, и сумасшедший, и нищий… Вор потому, что украл себя у родных… у близких… сумасшедший потому, что не похож на других… настоящих воров… а нищий потому, что побираюсь чужими грехами… Я слышал, как ты в лесу просила Господа о грехе…
– Ничего я не просила, – краснеет Зельда. – А зачем вам чужие грехи? Своих мало?
Человек в ермолке пропускает мимо ушей ее колкость и продолжает:
– До Судного дня я обхожу все местечки и кладбища. В прошлом году аж до Витебска добрался. Грешная губерния, грешная. Думал, не донесу, надорвусь…
– Чего не донесете? – Допрос забавляет Зельду.
– Грехи к Господу. В Судный день… как только зажжется первая звезда… Всевышний спускает мне лестницу, как праотцу нашему Иакову. Я поднимаюсь по ней, и мы сидим с Господом на пуховом облаке, едим картошку в мундире и кого караем, кого милуем. В прошлом году Господь никого не помиловал… Просил я его за одного портного… он из ревности жену убил… не помогло…
– А в нашем местечке много собрали? – улыбается Зельда.
– Только начал, – серьезно отвечает человек в ермолке. – Для начала немало. За вами тоже грех числится.
– За нами.
– За твоим отцом.
– Мама?
– Пасынок ночного сторожа Рахмиэла Арон. Твой отец его вместо собственного сына в рекруты сдал.
– Вместо Зелика? Я и не знала.
– За такой грех Господь Бог по головке не погладит. А что он с матерью сделал?
– Ничего. Просто не любил ее.
– Это не грех. Это несчастье. Я тоже не люблю свою жену.
Человек в ермолке берет свою обувь и босиком выскальзывает во двор.
Зельда видит, как он идет по саду, надев на обе руки башмаки, как нагибает голову, словно небо для него слишком низко, как оглядывается на дом и исчезает в дверном проеме бани.
Ну и денек! Спасибо еще – не изнасиловал, не придушил, серебро не вынес, ежится Зельда. Бедняга собирает грехи – ну и пусть себе на здоровье собирает, бедняга ищет птичку – ну и пусть ищет. В доме есть все: деньги, мебель из красного дерева, висячая лампа, купленная у шляхтича, немецкий клавесин, а грехов и птички нет. Рахмиэлов Арон – не грех, а сделка. Бедняга ждет, когда наступит Судный день и Господь Бог спустит ему лестницу. Но он, должно быть, забыл, из чьих она досок. Из сосновых досок Маркуса Фрадкина! Так что искупление и Божья милость отцу обеспечены.
Дзинькает колокольчик. Нестеровичи, догадывается Зельда.
– Здравствуйте, Зельда Марковна, – говорит Катюша. – Мы вам свежую клубнику принесли.
И ставит у ее ног корзину.
Хочется плакать. И еще хочется старой, пропахшей линями еврейкой висеть на стене, смотреть из рамки на чужие грехи, на кошачью спину Голды, на свежую клубнику и изредка от скуки каркать: клараукарлаукралакларнет!
VIII
Ночной сторож Рахмиэл знает: беда, как сватья, одна не приходит, обязательно сосватает тебе еще какую-нибудь напасть. Весной, в самый канун Пасхи, скрутило у него поясницу, как будто перетянули спину бондарным обручем, шаг шагнешь, нагнешься, боль во все стороны так и брызжет. Раньше Рахмиэл думал: поясница, как и задница, никогда не болит. Болит то, что трудится: ноги, руки, глаза, уши, даже сердце, но бездельница-поясница!.
Всю Пасху Рахмиэл ворочался с боку на бок, кряхтел, охал, по совету Казимераса прикладывал к крестцу накаленный кирпич, завернутый в мешковину, а когда и кирпич не помог, сходил к Ешуа, купил штоф водки, позвал Казимераса, дай бог здоровья ему и его безрогой козе, разделся по пояс, лег на выщербленную лавку и велел:
– Три!
Казимерас плеснет на ладонь капельку, понюхает для начала и трет. Трет и поглядывает то на штоф, то на больного. Ему и Рахмиэла жалко, и водки. Рахмиэл лежит со спущенными подштанниками, стонет, и от него, как от осенней пашни, перегноем пахнет.
– Давай лучше выпьем ее, – отчаялся Казимерас. – Авось поможет.
Рахмиэл выпил и – надо же – боль как рукой сияло.
Но то было перед Пасхой, а после Пасхи новая хворь пожаловала. Ногу судорогой свело, левую, увечную. По правде говоря, там и ноги-то нет, высохший стебель подсолнуха, жердина из плетни, теленок боднет – и надвое.
С такой ногой не то что по местечку – по двору не пройдешь. С такой ногой не в сторожа, а живым в могилу.
Двадцать лет отшагал Рахмиэл с колотушкой, а сейчас отнимут ее у него, как пить дать отнимут, и сам Господь Бог не поможет. Он и двадцать лет тому назад еле эту должность вымолил. Маркус Фрадкин был в ту пору главным заправилой в синагоге, сжалился над ним, заступился. Ты мне, мол, пасынка, я тебе, мол, взамен колотушку. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Все равно Арона из рекрутов не вернешь. Положили Рахмиэлу жалованье: пять рублей за зиму и по трешнице за весну, лето и осень. Деньги не бог весть какие, но зато должность до гроба. Сапожник, тот сидит и ждет, когда ему вонючий башмак принесут. То же самое портной или шорник, сиди и жди, поглядывай с утра до вечера на дверь, скрипнет или не скрипнет. Совсем другое дело – ночной сторож. Что бы ни случилось – ночь всегда наступит. Всегда.
А теперь? Теперь ногу судорогой свело. Теперь никакой Маркус Фрадкин не поможет. Новый синагогальный староста Нафтали Спивак церемониться не станет, найдет на его место кого-нибудь помоложе и поздоровей. Хотя бы Менахема Бума, николаевского солдата.
Менахем Бум в Крыму воевал, ухо у него еще контузило. Но зачем ночному сторожу оба уха?
Прошлой ночью, как только взошла луна, сел Рахмиэл на крыльцо москательно-скобяной лавки братьев Спиваков и сказал своей ноге:
– Что ты, бессовестная, со мной делаешь? Зачем ты меня, стерва, губишь?
А под утро приплелся домой, закатал до паха штанину, уставился на кость, обтянутую желтой сморщенной кожей, и чуть не заревел в голос.
– Послушай, – сказал он своей левой ноге, – не холил я тебя, не берег. Это верно. Но если ты со мной столько отшагала, отшагай еще малость, чего тебе стоит… Тогда вместе и помрем. Даю тебе честное слово сторожа!.. Разве глазам и ушам было легче? Ты хоть моих детей-покойников не видела… вопли моей жены не слышала!.. Тебе что могильный холм, что настил в нужнике – все одно, лишь бы опора.
Нога как будто вняла его просьбе, и боль затихла, присмирела, как оса в меду.
– Ты с кем там разговариваешь? – услышал вдруг Рахмиэл голос того, кто назвался его пасынком Ароном.
Откуда он взялся? С тех пор, как зашел воды напиться, он сюда носу не казал. Рахмиэл прыщавому Семену так и сказал: «Бог весть где он пропадает!» Прыщавый Семен кричал, ругался, грозил: «Ты его из-под земли достань!» И вот он и впрямь из-под земли вырос.
Пришелец слез с кровати, потянулся, громко зевнул, глянул на закатанную штанину:
– Нога болит?
– Болит, – признался Рахмиэл. Если его жилец на самом деле посланец неба, пусть исцелит его левую… за бездельницу-поясницу он просить не станет, а за ногу – можно… Совсем одеревенела, окаянная!..
Жилец снял ермолку, подошел, посмотрел, как собака на грязную, давно не мытую кость, и отвернулся.
– Худо дело, худо, – пробормотал Рахмиэл. – Хоть топор бери и отрубай… А хорошие были ноги… Крепкие, проворные… Да, видно, не тому достались…
– Почему? – Тот, кто назвался его пасынком Ароном, остудил рукой вспотевшую от мыслей голову.
– Достанься они Маркусу Фрадкину или Нафтали Спиваку, сносу бы им не было. Катались бы на дрожках, носили бы шелковые чулки и гамаши. – Рахмиэл наморщил лоб, угрюмо покосился на жильца и добавил: – Ты что-нибудь в них понимаешь?
– Нет. Надо лекарю показать.
– А что лекарь? Посмотрит, деньги возьмет, но новую ногу не вставит. За что же меня Господь покарал?
– Господь душу карает, – сказал тот, кто назвался его пасынком Ароном.
– А может, моя душа в ногах?
– Может быть.
– Может не может, а сторожем мне больше не быть.
– Будешь портным, лудильщиком, гончаром…
– Я умею только сторожить, – прошептал Рахмиэл.
– Ну что за радость сторожить чужое?
– Радость, – жарко возразил Рахмиэл. – Радость. Только ты этого никогда не поймешь. Что для тебя ночь? Мрак, сон…
– А для тебя?
– Для меня? – Рахмиэл задумался. – Ходишь по местечку, стучишь колотушкой, и все вокруг не чужое, а твое: и ставни, и небо, и даже конский помет на мостовой. Днем я кто? Бедняк. Днем у меня ничего, кроме избы и кладбища, нет. А ночью? Ночью я богатей. Похлеще Маркуса Фрадкина и братьев Спиваков.
Рахмиэл спустил штанину, добрел до стола, взял колотушку.
– Слушаешь и небось думаешь: дурак.
– Слушаю, но не думаю, – сказал тот, кто назвался его пасынком Ароном.
– У нас в роду все дураки были. Все до девятого колена. И дед, и прадед, и прапрадед, царствие им небесное. Как дураки работали, как дураки любили, как дураки Богу молились. Я, бывало, прибегал домой и жаловался деду: «Все меня дураком обзывают!» – «А ты, Рахмиэл, гордись! Лучшее звание на земле не царь, не генерал, не купец, а дурак. Гордись! До ушей Господа доходят только слезы и молитвы дураков потому, что Бог и есть верховный дурак, он умных не любит!»
– Что верно, то верно, – поддержал Рахмиэла жилец. – Умные ни во что не верят.
– Вера – хлеб дураков, – сказал Рахмиэл и прижал к груди колотушку.
– Хочешь, – неожиданно предложил тот, кто назвался его пасынком Ароном, – я за тебя постучу колотушкой, пока твоя нога образумится?
– Думаешь, образумится?
– Конечно. Она просто умаялась. Ей отдых нужен. Покой.
– Шелковые чулки и дрожки? – насмешливо произнес Рахмиэл. – Не будет дрожек. Не будет. Промчались мимо. И потом – урядник не позволит.
– Почему?
– Кто же чужаку колотушку доверит?
– Никто и знать не будет. Какая разница, кто стучит – ты или я? Урядник все равно по ночам дрыхнет. Хочешь, я и хромым прикинусь, и старым?..
– Урядник не позволит, – нетвердо возразил Рахмиэл.
– Дай мне колотушку.
– А ты хоть знаешь, как под утро ко сну клонит? Заснешь – тебя и сцапают.
– Не засну.
– Только почувствую, бывало, что ко сну клонит, сразу и начинаю…
– Что?
– Говорить, – сказал Рахмиэл. – У тебя есть с кем по ночам говорить?
– Есть.
– Лучше всего с мертвыми. Их больше, чем живых. Только у меня одного их целая дюжина. А у тебя мертвые есть?
– Мать… братья… сестры… сын Исроэл…
– Вот и хорошо. Мать, даже мертвая, уснуть не даст. Можно и с дураками. Дураков еще больше, чем мертвых. Только кликни – тут же сбегутся.
– Дай колотушку и ложись, – сказал тот, кто назвался его пасынком Ароном.
– До ночи еще далеко, – заметил Рахмиэл. – Выйдешь, когда стемнеет, спустишься по косогору к рыночной площади, повернешь направо и возле дома Маркуса Фрадкина с божьей помощью начнешь… Только очень тихо… Маркус Фрадкин не любит, когда громко стучат. Однажды он даже пожаловался уряднику. Тот подошел ко мне и сказал: «Почему ты, дед, под Фрадкиными окнами гремишь?» – «Для меня все окна одинаковы, господин урядник», – ответил я. «Чтоб больше под Фрадкиными окнами не гремел. Понял, дед?» Но я не послушался. Стучу, стучу, стучу. Пусть знает: колотушка для всех одинаковая… для тех, кто спит, и для тех, кто бодрствует.
Рахмиэл откашлялся и продолжал:
– Рабби Ури, тот наоборот. Любит, когда во всю громыхаешь. Иногда он распахивает окно и требует: «Рахмиэл, громче! Громче! Господь Бог должен знать, что есть на свете такая дыра, как наше местечко, и такие дураки, как мы с вами. Громче! Господь Бог должен знать!» Я, пожалуй, действительно прилягу.
– Ложись, ложись, я тебе щавель сварю и картошку. Казимерас принесет козьего молока, и мы с тобой закатим пир в честь всех дураков на свете, – засуетился тот, кто назвался Ароном. – И воду согрею. На ночь попаришь ногу – и полегчает.
– А корчму Ешуа Манделя обходи стороной, – посоветовал Рахмиэл. – Позавчера Семен сюда приходил. Тебя искал. Убить грозился. Схватил меня за горло и давай орать: «Ты скажешь, скотина, кто он?»
– Что же ты ему сказал?
– Я ему сказал: «Семен, дай бог, чтобы твои дети и внуки так разговаривали с тобой, как ты со мной!»
– И все?
– И еще я сказал: «Ты спрашиваешь, кто он, я тебе отвечу: сын дурака и отец дураков». Лучше ему на глаза не попадайся. Обходи корчму стороной. Дойдешь до москательно-скобяной лавки братьев Спиваков, срежешь угол – и сразу к настоятельскому дому. С Семеном шутки плохи. Он – племянник Спиваков и с урядником на короткой ноге. Увидит тебя ночью с колотушкой, и нам несдобровать. Господину уряднику не скажешь, что ты сын дурака и отец дураков.
– А ты ему вот что скажи: Арон из рекрутов вернулся.
– Но ты же не Арон… ты же не Арон… Нет у тебя на правом плече родинки. Нет.
– Есть, – сказал человек в ермолке и спустился в погреб за картошкой.
В погребе жили крысы. Голодные, они, видно, ждали, когда Рахмиэл испустит дух. Крысы бросились к тому, кто назвался Ароном, и он отпрянул от них и прижался к затхлой, в грибных и лишайных наростах стене. Он стоял и отыскивал взглядом в темноте холмик прошлогодней картошки, огороженный заржавевшей железной решеткой. Неужели, подумал он вдруг, человек приходит в мир для того, чтобы накормить крыс и могильных червей? Что дворцы, что дрожки, что шелковые чулки и гамаши по сравнению с его дыханием, отлетающим, как пух от тополя, с ноздрями, которые у всех одинаковы, будь то богатей или нищий?
Крысы возились в темноте, и от их нетерпеливой возни, от их голодного недовольного писка мутило, как от отравы.
Тот, кто назвался Ароном, быстро напихал в дырявое лукошко загаженные крысами картофелины и, не оглядываясь, поднялся по расшатанной лесенке наверх. Вот оно, начало той лестницы, которую в Судный день спускает ему Господь Бог! Вот оно – самое долгое и трудное начало, хотя и взбирается он наверх не с ворохом чужих грехов, а с безгрешной, обглоданной крысами картошкой.
Рахмиэл спал. Тот, кто назвался его пасынком Ароном, подошел к кровати и накрыл его тонким, как саван, одеялом. Он сел на край кровати и стал смотреть на неподвижное Рахмиэлово лицо, и чем пристальней он всматривался в него, тем больше находил стежек к кладбищу. Разве морщины – не тропки к могиле?
Как он похож на моего отца, подумал человек в ермолке, и воспоминание ослепили его, как свеча, которую неожиданно поднесли к глазам, опалив ресницы.
– Отец, – тихо произнес он. – В погребе крыс больше, чем картошки.
Рахмиэл дышал тяжко и неровно. Из его ноздрей, заросших седым грязным пушком, вырывался не воздух, а чад, как на пожарище.
Тот, кто назвался Ароном, открыл глаза и вдруг провел рукой по застывшему лбу Рахмиэла, словно этим движением хотел стереть хотя бы одну – самую короткую – тропку к могиле.
Но Рахмиэл не почувствовал его прикосновения, не услышал его слов, ему было все равно, сколько в погребе крыс и сколько картошки.
Пусть спит, решил тот, кто назвался его пасынком Ароном, пусть спит. Только праведникам Господь Бог дарует смерть во сне без всяких мучений. Если Рахмиэл умрет во сне, значит, он – праведник, значит, Всевышний простил ему единственное прегрешение – послушание, хотя во времена неправедных царей, во времена разврата и беззакония нет большего греха, чем послушание.
Тот, кто назвался Ароном, на мгновение представил себе, как крысы вылезают из погреба, как вгрызаются в мертвую руку Рахмиэла, свесившуюся с кровати, как стаскивают его на пол и своими ненасытными мордами тычутся в умолкшую колотушку.
Он снова провел рукой по его лбу и обрадовался, когда на ладони обнаружил росинки чужого пота.
«Человек – огород, засеянный Богом, – вспомнил он слова отца. – Всю жизнь он поливает его своим потом и кровью».
Своим потом и кровью поливал свой огород Рахмиэл. Только росинки от них остались. Только росинки. И урожай – крысы.
Тот, кто назвался Ароном, встал, помыл картошку и принялся ее чистить большим затупившимся ножом. Он осторожно снимал шелуху и кидал очищенные картофелины в чугунок. Кидал и прислушивался к всплеску воды, к тяжелому и неровному дыханию Рахмиэла и к тому, чего никому не дано услышать, но всем дано испытать.
За окном зарядил дождь. Он падал на землю, как намаявшийся бедняк в постель – бездумно и безответно. Тяжелые капли долбили прохудившуюся крышу, и с закопченного потолка на пол капала осень.
Когда в избу вошел Казимерас, в чугунке закипала вода.
– Рахмиэл спит? – спросил он на пороге, огромный и мокрый.
– Спит, – ответил тот, кто назвался Ароном.
– Я ему козьего молока принес, – сказал Казимерас, не двигаясь, как бы боясь расплескать молоко, белевшее в открытой глиняной миске.
Он прошел на середину избы, поставил миску на стол и поклонился.
– Куда ты? – остановил его тот, кто назвался Ароном. – Погоди. Сейчас картошка сварится, сядем и поедим.
– Спасибо, – сказал Казимерас. – Я уже сегодня ел картошку.
– Поешь еще раз, – сказал человек в ермолке. – Картошку можно кушать весь день. Картошку можно кушать всю жизнь.
– Скоро новая поспеет, – нерешительно промолвил Казимерас, польщенный вниманием. – А почему ты меня ни о чем не спрашиваешь?
– А о чем тебя спрашивать?
– Кто я?
– Ты – Казимерас, – сказал тот, кто назвался Ароном.
– Да.
– Ты гасишь по субботам у евреев свечи.
– Да. Скоро будет пятнадцать лет. – Казимерас приосанился. – Хорошая работа. Чистая. Придешь, дунешь, и все.
– И сколько ты их за пятнадцать лет погасил?
– Разве упомнишь.
– А я помню.
– Ты что, тоже гасишь?
– Тоже, – ответил тот, кто назвался Ароном.
– Но ты же еврей?
– Еврей.
– Еврею грех гасить, – сказал Казимерас.
– Смотря какие свечи, – ответил тот, кто назвался Ароном, и слил из чугуна воду.
– Свечи все восковые… все одинаковые, – усомнился Казимерас.
– Только на столе.
– А где же еще?
– Где еще? Вот здесь, – сказал тот, кто назвался Ароном, и ткнул себя в грудь.
– В сердце?
– В сердце, – сказал человек в ермолке. – Одну столько лет гашу и погасить не могу.
– Как же ты ее погасишь? – простодушно спросил Казимерас. – Сердце погаснет, и она погаснет, – добавил он и покосился на кровать, где храпел Рахмиэл.
– Она и тогда не погаснет, – тихо сказал тот, кто назвался Ароном, и разворошил кочергой угли.
– Что же это за свеча? – удивился Казимерас и заморгал суеверными глазами.
– Садись. Сейчас мы с тобой полакомимся, – перебил его тот, кто назвался Ароном.
– А Рахмиэл?
– Рахмиэл болен. Пусть отдыхает.
– Только… только молоко я не буду… Молоко для Рахмиэла, – предупредил Казимерас.
– Молоко и я не буду.
Они сели за стол и стали вылавливать из чугунка картофелины. Казимерас ел медленно, время от времени поднимал свои белесые, состоявшие как бы из одного белка, глаза, разглядывал потолок, качал крупной, как пень, головой и гадал, что же это за диковинная свеча, которая горит в сердце и которую нельзя погасить.
– Давно ты знаком с Рахмиэлом? – осведомился тот, кто назвался Ароном.
– Давно. Он меня к Маркусу Фрадкину и привел. Привел и сказал: «Господин Фрадкин! У него, – то есть у меня, – не легкие, а кузнечные мехи. Он любую свечу за сто шагов погасит!» Маркус Фрадкин поначалу Рахмиэлу ни в чем не мог отказать.
– Почему?
– За Арона, видно.
Казимераса так и подмывало спросить чужака, правда ли, что он и есть Арон, но он не решался. Спросишь и еще Рахмиэлу повредишь. В конце концов пусть разбираются сами, нечего ему, Казимерасу, в еврейские дела встревать. Он, конечно, Рахмиэлу по гроб благодарен, торчать бы ему где-нибудь в деревне или надрываться на лесоповале, но зачем злить Маркуса Фрадкина или сына корчмаря Семена. Семен сюда недаром прибегал, что-то вынюхивал, высматривал, выискивал. Будь чужак и Ароном, Рахмиэлу от этого какой прок? Явился, можно сказать, на похороны. Казимерас и сам старика похоронит, и даже помолится за него, пусть не в синагоге, пусть в костеле, за хорошего человека любому Богу можно помолиться, и Бог не осерчает. Опоздал, Арон, опоздал…
– А где ты в рекрутах служил? – все же спросил Казимерас у того, кто назвался Ароном.
– На турецкой границе.
– Ишь ты! – чуть ли не с завистью воскликнул Казимерас. – А как они выглядят?
– Кто?
– Турки. Как евреи или как мы?
– Как евреи.
– И у них по субботам гасят свечи?
– А тебе что, к туркам захотелось?
– Вдруг судьба занесет. Тебя же туда занесло?
– Занесло, занесло, – нараспев повторил тот, кто назвался Ароном. – Куда только меня не заносило!..
– А я все время на одном месте сижу, – пожаловался Казимерас.
– Что же тебя держит? Свечи?
– Коза, – ответил Казимерас.
– Козу продать можно.
– Продать-то можно, но она без меня сразу и подохнет.
– Почему? Трава в другом месте не та?
– Трава-то та… Да ее только доить будут…
– А что с козой еще делать? – удивился тот, кто назвался пасынком Рахмиэла.
– Любить… Это человек без любви может… а коза – нет… Коза и года не протянет… сразу подохнет. – Казимерас помолчал и спросил: – Ты теперь с Рахмиэлом до конца будешь?
– До какого конца?
– Ну… этого…
– Не знаю, – сказал тот, кто назвался Ароном.
– Дела?
– У тебя одна коза, а у меня целое стадо…
– Но стадо… стадо… как же любить целое стадо?
Казимерас встал из-за стола, согнул указательный палец, поправил усы, кашлянул сухо, отрывисто, почти сердито.
– Если Рахмиэл до вечера не встанет, – сказал он, – я заменю его… В ночь на субботу и по праздникам я всегда сторожу за него…
– Сегодня не пятница, и до праздников еще далеко, – ответил тот, кто назвался Ароном. – Крышу бы надо починить. На голову течет.
– Надо бы, – буркнул Казимерас. – Да Рахмиэл не дает. Денег, говорит, на нее жалко. А гвозди, сам знаешь, нынче дороги. За горсть Спиваки ох как дерут. Вернется, говорит, Арон, он и починит. Рахмиэл и деньги для него копит.
– Деньги для Арона? – оживился человек в ермолке.
Казимерас почувствовал, что сболтнул лишнее, и зачастил:
– Какие там деньги! Гроши! Дай бог, чтобы на похороны хватило. Хотя Рахмиэл не хочет лежать со всеми вместе. Лучше, говорит, отдельно… где-нибудь на огороде… А я говорю: лучше вместе… Вместе и под землей веселей. И потом все мертвые – братья. Нет среди них ни лесоторговцев, ни козопасов, ни ночных сторожей… все равны… И крыша одна на всех… и не течет… А он: нет и нет. Если Рахмиэл, не дай бог, умрет, что мне делать?
– Встать пораньше, подоить козу и принести молока, – сказал тот, кто назвался Ароном. – Принесешь и поставишь на стол. И каждый, кто к нему придет, будет смотреть на глиняную миску и думать о том, что все на свете не выпьешь.
Казимерас недоверчиво посмотрел на чужака, пожал плечами и не спеша зашагал к двери. Тот, кто назвался Ароном, подошел к кровати, наклонился над спящим Рахмиэлом, уловил его дыхание, укрыл одеялом голые, торчавшие, как заржавевший семисвечник, ноги, прогнал надоедливую муху, кружившуюся над глиняной миской, и вышел из избы.
На дворе лило как из ведра. Все вокруг было перечеркнуто дождем. Только деревья стояли, как на панихиде, стойко и скорбно, да коза Казимераса мекала где-то под навесом.
В москательно-скобяной лавке братьев Спиваков никого не было, и человек в ермолке долго ждал, пока не появился хозяин, тучный, в пенсне на мясистом носу, с неторопливыми черепашьими движениями, сам похожий на черепаху. Он застыл за прилавком и вытаращил на покупателя свои сонные, увеличенные стекляшками глаза.
– Что еврею угодно?
– Еврею угодны гвозди.
– Христа распинать? – спросил Спивак и рассмеялся. Смех его рассыпался по прилавку, как сдача.
– Крышу чинить.
– А крыша у еврея есть? – Спивак снова засмеялся, только на сей раз сдача была покрупней.
– Есть. Но, как всегда, дырявая.
– Истинная правда! Истинная правда! – зачастил толстяк и запустил руку в ящик с гвоздями. – Как всегда, дырявая… Хорошо сказано… Отлично!.. Когда же, позвольте у вас спросить, у нас будет крыша как крыша?
– Когда-нибудь будет, – ответил тот, кто назвался Ароном.
– Когда евреев не будет? – съязвил Спивак и добавил: – Сорок копеек.
– Запишите на наш счет.
– На чей счет?
– На счет Господа Бога, – ответил тот, кто назвался Ароном, и стал ссыпать гвозди в карман.
– Ха-ха-ха, – загрохотал Спивак. – Любому нищему, любому голодранцу дам в долг, но Господу Богу? Ты слышишь, Хаим, – обратился он к кому-то невидимому, – Господь Бог берет у нас на сорок копеек гвоздей в долг. Ха-ха-ха! Слышишь, Хаим? У Господа Бога в кармане и сорока копеек нет? Ой, я умру со смеху! Ой, держите меня! У Господа Бога крыша прохудилась!.. Ой, я умру со смеху! Ой, держите меня! Хаим! Хаим! Ты слышишь?
– Господь Бог воздаст вам и вашему брату Хаиму за каждый гвоздь сторицей, – сказал тот, кто назвался Ароном, и чинно вышел из лавки.
Смех Спивака преследовал его до самого Рахмиэлова овина. Он звенел, как сорок копеек, как сорок сороков гвоздей, и дождь был бессилен заглушить его.
Весь день до самого вечера тот, кто назвался Ароном, чинил крышу. Он весь промок до нитки, но сидел наверху и вгонял в доски гвозди. С каждым ударом топора он приговаривал:
– Господь воздаст сторицей… за каждый гвоздь… за каждую каплю пота и крови… сторицей… Смейтесь! Смейтесь!
Никогда еще он не был так близок к Господу, как сейчас, сидя на крыше Рахмиэловой развалюхи и орудуя коротким, захватанным чужими руками топором.
До неба, вдруг прояснившегося и обретшего не осеннюю бездонную глубину, было рукой подать, и человеку в ермолке не хотелось спускаться на землю. Чего он на ней не видел? Сорок лет, как сорок копеек, как сорок гвоздей… кому он их отдал? Куда вогнал?
Тот, кто назвался Ароном, положил топор – не с топором же воспарять в небо – развел в стороны руки и замахал ими, как крыльями.
– Что ты делаешь? Слезай! – заорал вышедший из избы Рахмиэл.
Но тот, кто назвался его пасынком Ароном, и не думал слезать. Он по-прежнему размахивал руками, ветер обвевал его лицо, облака проплывали над его головой, и голова была легкой, как одуванчик, такой легкой, как в детстве, как в те благословенные времена, когда мать полоскала на речке белье, красивая, высокогрудая, а он, маленький, стоял рядом, смотрел в воду и видел в ней себя, и пролетающих над ним птиц, и ракиту, сбежавшую к берегу с косогора, и большую счастливую рыбу, шевелящую плавниками.
– Слезай! – кричал Рахмиэл.
Но он его не слышал. Ему не хотелось дожидаться Судного дня, когда Господь спустит лестницу: ему хотелось сейчас… сию минуту туда, в ту не осеннюю, бездонную глубину, за облака, где его красивая высокогрудая мать полощет в синеве белье, белую от соли отцовскую рубаху, цветастый передник и коротенькие, залатанные на заднице штанишки.
– Казимерас! Казимерас! – звал на помощь перепуганный Рахмиэл.
Чего он, глупый старик, орет, подумал тот, кто назвался его пасынком Ароном. Радовался бы, что крышу починили. Больше течь не будет. Правда, пусть простит его за то, что не сможет ночью постучать за него колотушкой… пусть простит… Ночью он будет там… в райских кущах или среди ангелов, не торгующих ни гвоздями, ни водкой, ни лесом. Он и за бедного Рахмиэла замолвит словечко. И за Казимераса тоже.
Рахмиэл и Казимерас стояли внизу, смотрели, как он в беспомощной ярости размахивает руками, переглядывались и вдруг, как по уговору, развели в стороны руки и замахали ими: мол, ради бога, спускайся.
А он обрадовался и крикнул им с крыши:
– Козу возьмите! Козу!
Они опустили руки – на старости лет не очень-то ими помашешь, – потоптались немного и понуро побрели в избу.
Устал, видно, и он. Движения его сделались замедленными, и крылья наконец застыли.
Тот, кто назвался Ароном, сел и уставился на небо, и тоска в его глазах была такой же бездонной, как и открывшаяся ему глубина, и в той тоске, в той глубине, в той синеве, как в речке, полоскала белье его красивая высокогрудая мать, только он уже ничего не видел – ни себя, ни пролетающих над ним птиц, ни ракиты, сбежавшей с косогора к берегу, ни большой счастливой рыбы, шевелящей плавниками.
О Рахмиэлов плетень терлась Казимерова коза. В погребе пищали крысы.
Рахмиэл и Казимерас ждали его в избе. Ночной сторож; почему-то скреб ногтем колотушку, а Казимерас посасывал самокрутку, и пепел ее удобрял его дремучую бороду.
– Попей молока, – сказал Рахмиэл, когда тот, кто назвался его пасынком, вошел в избу.
– Попей, попей, – пробасил Казимерас. – Нет на свете ничего слаще козьего молока.
– Это верно, – поддержал его Рахмиэл. – Раньше его только боги и цари пили. Так в Писании сказано. Попей, – и он придвинул к тому, кто назвался его пасынком, глиняную миску.
– Спасибо, – смутился пришелец.
– Попей, – бубнил Рахмиэл. – От козьего молока все дурные мысли бегут.
– У меня нет дурных мыслей, – сказал тот, кто назвался Ароном, и поставил в угол топор. – Смеркается. Скоро мне и заступать.
– А может, я пойду, – молвил Казимерас. – Меня все знают.
– Пойду я, – твердо сказал человек в ермолке.
Все трое по очереди выпили из глиняной миски козьего молока, и оно объединило их, как обет, и не стало различий ни в летах, ни в занятиях, ни в судьбах, все они были ночными сторожами, козопасами и посланцами Бога, одного Бога, всемогущего и милосердного, дарующего человеку глоток молока, чтобы смыть с души горечь вражды и недоверия.
Он шел от Рахмиэловой развалюхи к местечку через поле полегшей от дождя ржи, и изредка из-под ног взмывала вспугнутая перепелка, ослепшая от темноты и страха, крохотный комочек жизни, чужой и непонятной, и где-то остывало осиротевшее гнездо, выложенное травой и надеждой. Все друг друга боятся, размышлял он, приближаясь к местечку, и птицы, и люди, и страх – единственная пища для всех, для сытых и голодных.
В небе мерцали звезды. От их мерцания тропа казалась бесконечной, как Млечный Путь.
Тот, кто назвался Ароном, не торопился. Он вдыхал всей грудью ночной сыроватый воздух, настоянный на терпком запахе увядающих цветов, сосновой хвои и земли, похожей на огромный размокший каравай недопеченного хлеба.
Как и велел Рахмиэл, человек в ермолке начал с дома Маркуса Фрадкина, застучал колотушкой раз-другой, и звук, непривычный, дробный, разорвал тишину, захлебнулся и замолк.
Дом Маркуса Фрадкина тонул во мраке. Широкие окна были наглухо закрыты ставнями, их и иерихонскими трубами не прошибешь. Тот, кто назвался Ароном, постоял у калитки и, не доверяя колотушке, тихо и внятно сказал:
– Господь воздаст сторицей за каждого рекрута, как за каждый гвоздь…
Он постоял, дожидаясь, когда заскрипит засов, когда на крыльцо выйдет Фрадкин или его сын Зелик и выстрелит в него из ружья, как в перепела.
Но дом был мертв.
– Господь воздаст сторицей, – повторил он и двинулся дальше.
Он шагал по единственной улице местечка и стучал колотушкой. И чем неистовей он стучал, тем мертвей было вокруг.
Мертва корчма.
Мертва москательно-скобяная лавка братьев Спиваков.
Мертв деревянный дом рабби Ури.
Какое им дело до его стука? Спят… Спят в обнимку с грехом. Весь мир спит в обнимку с грехом. Спит и сладко посапывает. Грешные руки! Грешные чрева! Грешные головы!
А ночь – ночь пуста, как огромная молельня, где мерцают тысячи свечей, которые никакой Казимерас не погасит, будь у него легкие как кузнечные мехи.
Почему все спят и никто не молится?
– Проснитесь, спящие, – так же тихо и внятно сказал тот, кто назвался Ароном. – Как вы можете спать, когда у кого-то течет крыша и ничего, кроме ночи и кладбища, нет?
Где-то залаяла собака – яростно, взахлеб. Человек в ермолке прислушался к лаю и зашагал ему навстречу. Он подошел к плетню и бросил в темень:
– На кого, пес, лаешь?
Собака совсем взъярилась. Она рвалась с цепи, цепь позвякивала, и от ее ржавого звона на небе тускнели звезды.
– Я такой же пес, как ты, – сказал тот, кто назвался Ароном. – Понимаешь, как ты… Только лаю я не на прохожих, а на весь мир… потому что он плох…
Человек в ермолке и не заметил, как улица оборвалась и он очутился на крохотном, заросшем соснами кладбище среди негустых надгробий, залитых звездным светом и усыпанных хвоей. Он напряг зрение и прочитал первую попавшуюся надпись: Хоне Брайман.
– Здравствуй, Хоне Брайман. – Тот, кто назвался Ароном, нагнулся и потрогал окропленный росой камень.
– Здравствуй, – ответил Хоне.
Человек в ермолке отчетливо слышал его голос, отчетливей, чем собачий лай.
– А где Рахмиэл? – спросил покойник.
– Рахмиэлу неможется, – ответил пришелец.
– Эту колотушку я ему смастерил. Я – Хоне Брайман, столяр.
– Хорошая колотушка, – сказал тот, кто назвался Ароном.
– Постучи, – сказал покойник. – Я хочу услышать свою работу. Работа никогда не умирает. Если она хорошая. Постучи.
Тот, кто назвался Ароном, сел на могилу и тихо застучал колотушкой. Стук ее радостно-тревожно отдавался в тишине.
Светало. Отсюда, с могилы Хоне Браймана, человек в ермолке видел все местечко: скученные унылые дома, шпиль костела, жестяную крышу корчмы, поблескивавшую, как водка в бутылке, и высокую трубу фрадкинской бани.
Тот, кто назвался Ароном, сидел и стучал колотушкой, и столяр Хоне Брайман слушал свою работу, как заупокойный молебен.
– Ты чего здесь расстучался? – напустился на стучавшего синагогальный служка, вынесший из молельни мусор.
– А что – нельзя? – спросил тот, кто назвался Ароном.
– Здесь кладбище.
– А ты уверен?
– Уверен, – пролопотал служка.
– Кладбище – там, – сказал тот, кто назвался Ароном, и показал рукой на корчму.
– В корчме?
– В местечке. Там больше мертвых.
Он встал с могилы столяра Хоне Браймана и, ссутулившись, побрел через поле полегшей от дождя ржи к Рахмиэловой развалюхе.
– Я всю ночь не спал, – признался старик.
– Подслушивал? – улыбнулся тот, кто назвался его пасынком Ароном.
– Я же тебя просил: не стучи у дома Фрадкина громко.
– А разве я громко?
– Громко, громко… А потом то ли мне приснилось, то ли на самом деле кто-то стучал на кладбище…
– На кладбище прежний сторож стучал… как его…
– Шмуэл, – подсказал ошарашенный Рахмиэл. – Разве и у мертвых можно что-нибудь украсть?
– Можно.
– Что?
– Память, – сказал тот, кто назвался его пасынком.
– Память? – прошамкал Рахмиэл. – Тоже мне богатство! Память – это же беда!
– Для кого и беда – богатство, – отозвался человек в ермолке.
– Ты, наверно, за ночь проголодался?
– Нет. Спать хочу.
– Спи, – сказал Рахмиэл. – Спи.
Он уснул сразу.
Рахмиэл ходил по избе и мокрой тряпкой бил мух. Мухи были моложе его на семьдесят с лишним лет, к тому же ни у одной из них на ковенском тракте левую бревном не придавило. Они летали над столом, над кроватью, садились на лицо человека в ермолке, перебегали со лба на небритую щеку, с небритой щеки на обнаженную шею.
А почему бы и мне не попытаться, подумал Рахмиэл, чем я хуже мухи? Старик доковылял до кровати и притронулся к обнаженной шее чужака. Старые пальцы дрожали, и Рахмиэл долго осиливал предательскую дрожь. Наконец, когда она улеглась, он расстегнул пуговку застиранной рубахи, распахнул ее и уставился близорукими глазами на правое плечо того, кто назвался его пасынком Ароном. То ли оттого, что он спешил, то ли оттого, что глаза его все время противно слезились, Рахмиэл ничего на правом плече не увидел: никакого пятнышка, никакого знака. Припадая на больную ногу, он добрел до окованного железом сундука, порылся в нем и извлек оттуда очки на веревочке. Очки были старые, одного стеклышка не хватало, другое треснуло посередке и еле держалось. Рахмиэл напялил их на нос, обвязал веревочкой вокруг головы и снова склонился над спящим.
Тот, кто назвался его пасынком Ароном, продрал глаза, увидел Рахмиэла в нелепых очках и тихо, как во сне, сказал:
– Ты что, отец, меня обыскиваешь как жандарм?
– Нет, – оторопел Рахмиэл. – Я… я мух бью…
– Очками? – улыбнулся тот, кто назвался Ароном.
– Тряпкой, – сказал Рахмиэл и протянул к нему пустые руки.
– Ну что, нашел родинку?
– Нашел, – быстро ответил Рахмиэл. – Нашел… на правом плече…
И заплакал.
Слезы бились о треснутое стеклышко очков, как мухи, а из пустой их половинки они сочились вниз, как мед, и Рахмиэлу было сладко, сладко, сладко до тошноты и головокружения.
IX
Смерть Хавы, жены корчмаря Ешуа, всполошила все местечко. Если бы еще просто умерла, а то – и выговорить-то страшно! – удавилась. Морта пошла ни свет ни заря задать лошадям сена, только подцепила его вилами, понесла к кормушке – и увидела хозяйку. Увидела и выронила вилы, споткнулась об охапку, упала на земляной пол хлева и лежала ничком, боясь пошевелиться и поднять глаза вверх, туда, где через балку были перекинуты вожжи и в петле, как погасшая лампа, болталась Хава.
Лошади, не привыкшие к Хаве, тыкались мордами в ее ноги, обутые в черные башмаки, и труп раскачивался из стороны в сторону так, что казалось, Хава идет по воздуху.
Морта вскочила и опрометью бросилась в корчму. Она не знала, кого будить: Семена или самого Ешуа. Семена, решила Морта, тихо пробралась в его комнату, подошла на цыпочках к постели и, задыхаясь от волнения, прошептала:
– Симонас! Симонас! Вставай!
Прыщавый Семен перевернулся на другой бок, схватил руками подушку и сквозь сон зло и недвусмысленно процедил:
– Ну, чего приперлась?
Морта стерпела обиду, наклонилась над ним и отчаянно, придушенно сказала:
– Там… в хлеву… твоя мать… и лошади…
– Отстань, – проворчал прыщавый Семен. Но Морта не уходила.
– Твоя мать… в хлеву… – повторила она, клацая зубами.
И вдруг в сонном мозгу Семена что-то вспыхнуло, и он заметался, как от ожога, сбросил одеяло, скатился с постели и, на ходу застегивая подштанники, почесывая волосатую, разогретую грешными снами грудь, побрел к двери.
– Мама, – негромко позвал прыщавый Семен, когда они вошли в хлев. – Мама!
Давно, ох как давно он так ее не называл. Может, двадцать, может, тридцать лет. «Ты» говорил он или «она», и мать на него не обижалась: кого Бог обидел, того ничем не удивишь, ни мимолетной лаской, ни почтительным равнодушием.
– Мама! – снова позвал прыщавый Семен, отрезвевший от сна и от злости.
Морта дрожала пуще прежнего.
– Ты чего дрожишь? – прохрипел сын корчмаря.
– Я… Я не дрожу… Я совсем не дрожу… Тебе показалось, Симонас, – ответила она, кусая губы.
– Где она? – спросил он.
– Там, – ответила Морта и ткнула пальцем в кормушку.
– В кормушке?
– Нет… Сейчас… сейчас ты сам увидишь…
Он притворяется, подумала Морта. Он давно… давно увидел ее… Он притворяется. Ему просто страшно. Боже, как страшно увидеть свою мать в воздухе… с петлей на шее. Как хорошо, что мои родители за тридевять земель… в Сибири… Я бы умерла, если бы увидела…
Они подошли к тому месту, где, как старое платье на веревке, висела Хава.
– Мама! – простонал прыщавый Семен и уткнулся лицом в ее застывшие ноги. – Прости меня. Прости.
Он, видно, плакал, и слезы его падали на ее черные башмаки, на ее черные чулки, на ее черную долю. Всю жизнь – сколько он ее помнит – она ходила в черном.
– Помоги! – сказал прыщавый Семен. – Я подержу лестницу. А ты… ты лезь наверх и отвяжи ее.
– Может, ты Симонас, – слабо воспротивилась Морта.
– Я постою внизу и поймаю ее. Протяну руки и поймаю. Не хочу, чтобы она упала на пол… пусть на руки… Она же меня носила на руках… Ведь носила?
– Носила, – подтвердила Морта.
– Теперь мой черед. Лезь!
Морта неохотно стала взбираться по лестнице.
– Ума не приложу, как она туда забралась. Всю жизнь никуда не поднималась… никуда… ни на одну ступеньку… ни на одну ступенечку, – прошептал он. – Только на хоры в синагоге, и то по праздникам… Ты чего остановилась?
– Ой, Симонас! – вскрикнула Морта.
– Лезь! Лезь!..
Сквозь щели в крыше пробивались первые лучи рассвета; зябкие, неровные, они высветили лестницу, дремлющих лошадей и прыщавого Семена в белых подштанниках и босого.
– Ты чего так долго возишься? – обрушился он на Морту.
– Не могу!.. Узел крепко завязан… Не могу, Симонас!
– Сейчас я ее подтолкну вверх, и ты развяжешь.
Прыщавый Семен обхватил руками ноги покойницы и приподнял ее над своей кудлатой головой.
– Так хорошо? – спросил он у Морты.
– Хорошо! Хорошо!
И между прыщавым Семеном и матерью не стало больше ни вожжей, ни расстояния, ни отчужденности. Он держал ее крепко, как держал бы Зельду, если бы та вздумала вечером прийти к старой груше или захотела бы на другом берегу речки собрать лукошко спелой земляники, не замочив в воде ноги.
Он и нес свою мать по хлеву, как через бурную реку, нес на последний ее берег, где нет ни старой груши, ни земляники, ни любви, ни обид, а только неструганые доски и единственный белый миг в ее жизни – саван.
Прыщавый Семен внес ее в свою комнату, положил на свою постель, укрыл своим одеялом и сел в изголовье кровати.
– Оденься, – сказала Морта.
Но он не двигался.
– Люди придут… Оденься… – жалостливо повторила она.
Прыщавый Семен сидел в изголовье кровати и немигающими глазами смотрел на покойную мать, и все в нем хрипело и булькало, как в трясине.
– Хава! – услышал он голос отца. – Хава!
Потом:
– Морта! Морта!
– Он зовет меня, – сказала Морта Семену.
– Пусть зовет!
– Семен! Семен! – рокотал голос Ешуа. – Ты мать не видел?
– Не видел. Не видел. Никто ее никогда не видел, – тихо промолвил прыщавый Семен.
Корчмарь Ешуа распахнул дверь.
– Вы почему не отзываетесь? – предчувствуя что-то дурное, спросил он.
– Тише, – одернул его прыщавый Семен. – Тише. Мать спит.
– Где?
– Вот, – буркнул сын.
Ешуа стоял на пороге и боялся приблизиться к кровати. Шаг шагнет и встанет, шаг шагнет и встанет.
– Почему она спит в твоей кровати? – бросил он издали.
– Потому что с тобой ей холодно, отец. Холодно…
– Хава! – закричал корчмарь, бросился к кровати и, одетый, плюхнулся рядом с покойницей. – Хава!
– Перестань! – сказал прыщавый Семен.
– Господи! – кусал подушку Ешуа. – Господи!
Он вдруг привлек к себе мертвую жену и осыпал ее торопливыми слюнявыми поцелуями.
Прыщавый Семен отвернулся.
Морта стояла у изголовья и крестилась.
– Уходите, – попросил корчмарь. – Уходите! Оставьте нас вдвоем. Слышите?
Прыщавый Семен встал и, не сказав ни слова, направился к двери.
– Оденься, Симонас, – взмолилась Морта и, схватив его одежду, кинулась за ним.
– Хавеле, – прошептал Ешуа, когда сын и Морта вышли. – Ты вчера обещала зажарить оладьи из свежей картошки. Ты же, Хавеле, знаешь, как я люблю твои картофельные оладьи…
Он погладил ее волосы, потрогал золотую серьгу:
– Господи! Какие у тебя красивые волосы!.. Какие они живые! Ты напрасно смущаешься и закрываешь глаза… Подумаешь – что я тут такого сказал? Я сказал, что люблю твои картофельные оладьи, и только… Пойдем, Хавеле, пойдем… У нас, слава богу, есть своя кровать. В своей кровати мягче. Там каждая блоха знает, как я люблю твои картофельные оладьи и твои красивые волосы… Господи! Господи!
Его душили слезы, но слез не было. Раньше Ешуа плакал по любому, даже самому ничтожному, поводу. Слезы дарили облегчение, смывали с его лица и души жесткость и угрюмость, делали его молодым, прежним, возвращали к той поре, когда он, ретивый, неунывающий отпрыск рода Манделей, колесил по Литве в поисках неверного, летучего, как дым, еврейского счастья. Но сейчас возле мертвой посиневшей Хавы он не мог выдавить ни единой слезы. Слезы изменили ему, оставили, в горле першило, как от липового меда, голова разламывалась от пустоты и бессилия, а в ушах стрекотали кузнечики. Ешуа вдруг учуял подпольный трупный запах и судорожно принялся заглатывать тошноту.
Он подошел к буфету, вынул графин и впервые в жизни налил себе в высокую серебряную чарку водки, закрыл глаза и выпил залпом, и водка обожгла его кошерный пищевод, распугала кузнечиков, и вдруг стало щемяще легко и ясно.
С чаркой в руке вернулся Ешуа к кровати, уставился на Хаву и – опять-таки впервые в жизни – просветленно и отчаянно сказал:
– За тебя, Хава! За твою доброту и верность.
Он повертел чарку в руке и, не зная, что с ней делать, вдруг поднес ее к застывшим губам жены и серебряным краем притронулся к ним.
– Серьги снял?
В дверях стоял одетый Семен.
– Серьги? – Ешуа вздрогнул и выронил чарку, и оставшиеся капли водки, как слезы, упали на живот покойницы.
– Я не могу, – сказал он сыну. – Сними сам.
– Кто дарил, тот должен и снять, – ответил Семен.
– Придут женщины, обмоют, обрядят и снимут, – защитился корчмарь Ешуа.
– Никто не придет. Морта все сделает.
– Морта?
– Или, может, ты хочешь, чтобы ее похоронили на пустыре за кладбищенской оградой?
– Не хочу, – сдался Ешуа, и снова его голова стала похожа на луг, облюбованный кузнечиками, все в ней прыгало, трещало, стрекотало. Какой позор, какой позор, истязал он себя, тщетно борясь с накатывающей удушливой тошнотой. Хаву, его жену, мать его детей, надо прятать от живых, чтобы ни одна душа не догадалась, как она ушла из жизни.
Морта согрела в чугуне воду, вылила ее в огромный – для варки варенья – таз, раздела Хаву и стала мыть остывшее тело. Она старалась не смотреть на покойницу, мочалка скользила по ее ногам, бедрам, пока не наткнулась на мешочки высохших грудей. Морта что-то шептала для храбрости. Она сама не понимала что, но слова успокаивали, уводили куда-то от этой кровати, от этих плоских грудей со сморщенными, похожими на увядшие волчьи ягоды, сосками.
Во дворе очумело кудахтали куры. Шипела старая, пережившая хозяйку гусыня. Морта сменила воду, перевернула Хаву с живота на спину, помыла, снова перевернула, бросила мочалку в таз, присела на край кровати, вытерла испарину и, не глядя на покойницу, сказала:
– Спасибо.
Она благодарила Хаву за то, что та не выгнала ее, заступилась за корову, за то, что никогда не кричала и до самой смерти делала вид, будто между ней, Мортой, и ее сыном Семеном ничего нет и не будет.
– Спасибо, – повторила она и заплакала. Но быстро совладала с собой, вынесла во двор таз, плеснула на увядшую траву, и куры сбежались туда в надежде поживиться. Только старая гусыня гордо вскинула голову, как будто сразу сообразила, что это за помои.
– Все? – спросил у Морты прыщавый Семен, приволокший из хлева две неструганые доски.
– Все, – сказала Морта.
– А серьги?
– Не могу, Симонай.
– Тебе будут, – сказал он.
– Не надо мне никаких серег, – испугалась Морта. – Да я себе лучше уши отрежу.
– Сними! – приказал он, держа под мышками по доске. – Червям они ни к чему.
– Нет, нет, – встрепенулась Морта. – Что хочешь у меня проси, только не это…
– Они тебе очень пойдут. Очень, – не унимался он. – Живо! Ее сегодня же надо похоронить, чтобы толков не было. Завтра пятница… Послезавтра суббота… Иди!
Морта прикрыла тазом живот и грудь, словно прыщавый Семен метил туда своими жуткими оголенными словами.
– Скоро придут люди. Отец пошел за рабби Гилелем. К его приходу все должно быть готово! Иди!
Она послушалась его и, все еще прикрывая живот и грудь тазом, двинулась к дому.
На негнущихся ногах Морта подошла к кровати.
Целая вечность, казалось, прошла, пока она снимала эти трижды проклятые, эти прекрасные серьги.
Они сверкали у нее на ладони, как два золотистых жучка, как две божьи коровки, только дунь, и расправят крылышки, и полетят, а она, Морта, распахнет окно и, счастливая, как на первом причастии, скажет:
– Летите! Летите!
Ей самой хотелось – в окно, вверх, туда, под облака, плывущие над корчмой, над местечком, над землей с ее могильными и немогильными червями.
И вдруг она увидела еще одну Морту, такую же, только до пояса, без ног и без домотканой юбки, и подошла к зеркалу.
Зеркало было старое, в тяжелой дубовой раме, со столиком на гнутых резных ножках.
Морта осторожно, двумя пальцами, взяла с ладони серьгу, приложила к правому уху, резким движением головы откинула прядь выгоревших на солнце рыжих волос и посмотрелась в равнодушное, но справедливое стекло.
– Ой! – устыдилась она и оглянулась на кровать.
Мочки Хавиных ушей чернели, как зачерствевшие оладьи.
Морта уколола себя серьгой и со всех ног бросилась из комнаты во двор.
Когда пришел синагогальный служка, Хава уже лежала не в кровати, а на полу, запеленутая в саван. На всякий случай прыщавый Семен припудрил каким-то порошком ее лицо, а шею обвязал белым кружевным платочком, сохранившимся в доме еще со времен свадьбы.
– Горе-то какое! Горе! – шмелем гудел служка, принюхиваясь к запаху порошка и косясь на белый платочек на шее. – Ну кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать?
Корчмарь Ешуа в черном сюртуке, в черной бархатной ермолке и в туфлях, которые ни разу не надевал, горестно качал головой и, кажется, молился. Прыщавый Семен оттер служку в угол и хрипло спросил:
– А где рабби Гилель?
– Рабби Гилель слег, – угодливо процедил служка. – Печень у него. Печень. Такой молодой – и уже печень.
Прыщавый Семен поморщился.
– Для того чтобы отслужить заупокойный молебен, нужен голос, а не печень.
– Горе-то какое! Горе! – снова загудел шмель. – А чем здесь у вас пахнет?
– Смертью, – грубо одернул его сын корчмаря.
Служка раздражал его. Маленький, верткий, он не сводил глаз с покойницы и все время шмыгал своим охотничьим носом.
– Кто бы мог подумать? Такая женщина!.. Любящий муж… любящий сын… почет… уважение. Когда мне бродяга сказал: мы заставим реб Ешуа плакать вонючими слезами, я не поверил… я подумал: сумасшедший!..
– Какой бродяга? – насторожился прыщавый Семен.
– А вчера сидит на кладбище на могиле Хоне Браймана и стучит колотушкой. «Чего стучишь?» – спрашиваю. А он мне: «Кладбище – там!» – и показывает на корчму.
– В ермолке он… с булавкой?
– С булавкой… У ночного сторожа Рахмиэла живет, – лебезил перед сыном корчмаря служка. – А платочек! А платочек-то на покойнице красивый какой!.. Прямо-таки свадебный! Никого еще у нас в таком платке не хоронили!
Но прыщавый Семен уже не слушал. Сейчас его мысли занимал не служка, не покойница мать, а тот в ермолке, приколотой булавкой к волосам. Это он накликал на их дом несчастье, это он завязал узел на шее матери, это он уложил ее на эти неструганые доски!
Пришли Спиваки – Нафтали и Хаим, братья усопшей. Чинно подошли к смертному одру, уронили скупую, как бы взвешенную на весах слезу, покачали поседевшими головами и встали у занавешенного байковым одеялом зеркала. Братья ни о чем не спрашивали, спрашивай не спрашивай, со смертью не поторгуешься, с нее взятки гладки. Правда, обвязанная шея сестры будила у них смутные и тягостные подозрения.
– Слушай, Хаим, – прошептал Нафтали. – А почему у нее шея обвязана?
– Чтобы и на том свете ей было трудно дышать, – ответил Хаим, достал из кармана носовой платок и для приличия стал вытирать сухие глаза.
Нафтали последовал его примеру – он во всем подражал Хаиму, и так они стояли, дружно терзая клочками надушенного шелка свои цепкие пронзительные буркалы.
Во дворе Морта запрягала лошадей. Учуявшие смерть, они были удивительно послушны. Только каурый почему-то тревожно бил копытом.
– Будет тебе, будет, – ласково стыдила его Морта.
В дом она не спешила: нечего в такую минуту мозолить глаза. Ну вот, подумала она, я и осталась одна с двумя мужиками, и эта простая, как конское копыто, мысль обожгла ее стыдом и тревогой.
Мимо фуры проходили люди, но Морта не замечала их. Она – в который раз – бессмысленно подтянула подпругу, сунула руку в гриву каурого и долго держала ее там, наслаждаясь теплом безответной и безрадостной жизни. Приплелся старший Андронов – Афиноген, весельчак и похабник, взял под уздцы гнедую и осипшим голосом спросил:
– Почему корчма на замке?
– Хозяйка померла, – выпалила Морта, словно ее уличили в чем-то постыдном.
– Две бутылки дашь?
– Не дам, – ответила она.
– Ну хоть одну, – умолял Афиноген. – Голова со вчерашнего трещит – мочи нет. А Хаву жалко.
– Жалко, – сказала Морта.
– Добрая была баба, – улещивал ее Афиноген. – Тихая. И на еврейку не похожа. Чего ей на земле не хватало?
– Не знаю, – промолвила Морта.
– Всем чего-то не хватает на земле: одним – денег, другим – водки. Ну дай бутылку!
– Ладно. Только отвяжись!
Морта сбегала в корчму, принесла бутылку.
– Перемрут – тебе все достанется, – осклабился Андронов, достал из кармана мелочь, расплатился, засунул бутылку за пазуху и зашагал прочь.
Не успел уйти Афиноген – пришла Зельда Фрадкина.
– Здравствуйте, – глухо поздоровалась она с Мортой.
– Здравствуйте, барышня.
Зельда была в черном траурном платке, надвинутом на бледный лоб, в сером, словно посыпанном крупинками гречки, платье, в высоких, почти до колен, ботинках с кожаными застежками – Морта таких никогда не видела.
– Идите в избу, барышня.
– Нет, нет, – заволновалась Зельда. – Я только на минутку. От чего она?
– От чего? – замялась Морта. – Легла спать и не проснулась.
– Как мама, – сказала Фрадкина.
Осеннее солнце лениво светило в небе, лошади мотали головами, позвякивали сбруей, и от этого позвякивания дрожал воздух. А может, он дрожал от тишины, от скудных лучей и от слов, таких же скудных, лишенных тепла и света.
– Я еще никого не хоронила, – неожиданно призналась Зельда.
– А ваша мама?
– Мама умерла, когда я была совсем маленькой. Меня оставили дома с кормилицей. Кормилица смотрела на меня и плакала. А я макала палец в ее слезы, лизала его и спрашивала: «Почему твои глаза соленые, а мои – нет?» – «Будут и у тебя соленые, будут, – отвечала она, – дай только срок».
– Идите, барышня, в избу, идите. Все вам будут рады, – удивляясь собственной напористости, трещала Морта. – Ее еще не скоро вынесут.
– Я подожду во дворе, – сказала Зельда.
– Воля ваша, барышня, – уступила Морта. – Скучно вам у нас?
– Везде люди живут, – уклончиво ответила Фрадкина.
– А по-моему, с людьми скучно, – осмелела Морта.
– А с кем же весело?
– С кем? – Морта вся напружинилась. – С ними, – показала она на лошадей. – И с курами… Весело с теми, кто тебя понимает… Может, барышня, Семена позвать?
– Не надо никого звать. А ее что, повезут туда?
– Понесут, – объяснила Морта и удивилась невежеству Зельды.
– А лошади зачем?
– Господина повезут обратно. И Семена. И вас, если на кладбище пойдете.
– Да ты, я вижу, совсем еврейкой стала.
– Не совсем, – улыбнулась Морта. – Хотя я по-вашему и стряпать, и молиться умею.
– Даже молиться?
– Да. Мой Бог меня не слушает. Может, говорю, ваш услышит. Только Симонас сердится. У всех, говорит, богов уши заложены. А я, барышня, не верю. У Бога никогда не закладывает уши. Особенно если не за себя просишь. А человек что делает? Человек только за себя просит и еще за своих близких.
– А за кого же его просить?
– За всех, – сказала Морта. – За всех. За вас, барышня… За эту лошадь… Вон за ту курицу, чтобы петух и ее приласкал. А то ходит по двору и так жалобно кудахчет, словно ее ножом режут.
– Все равно ее зарежут – молись не молись, – сказала Зельда и вдруг добавила: – Ты приходи ко мне.
– Зачем? – вскинула брови Морта. – У вас есть Голда.
– Мы с тобой вместе помолимся, – сказала Зельда, и улыбка озарила ее бледное лицо.
– Я бы с радостью, барышня, да времени у меня нет. А сейчас и вовсе не будет.
– Приходи, – повторила свое приглашение Зельда.
– Хорошо, – сказала Морта. – Иногда, когда иду по воду или в корчме пусто, я слышу, как вы играете. Какая вы счастливая, барышня!
– Это ты счастливая, – растерянно пробормотала Зельда.
– Я?
– У тебя есть они, – Зельда потрепала каурого по холке. – И куры.
– Да у вашего отца… господина Фрадкина таких лошадей – целый табун. И кур он может купить тыщу!..
– Может, может, – закивала головой Зельда. – Но что из того, если лошади тебя не понимают, а кур, тыщу кур тебе подают в соусе?
Она собралась было уйти, но увидела, как во двор вошел лесоруб Ицик.
– А вот и Ицик пришел, – обрадовалась Морта. – Значит, скоро ее и понесут. Семен ухватится за одни конец доски, Ицик за другой, и поплывет хозяйка, как на плоту.
Ицик еще издали узнал Зельду. Шаг его сделался короче, небрежнее, как у пьяного.
– Чего вы здесь стоите? – с напускным безразличием спросил он. – Пойдемте в избу.
Только бы не упустить ее, подумал Ицик. Только бы не упустить.
Он готов был подхватить Зельду на руки и внести в дом, как дар небес, как нечаянную радость, которую ни с кем не делят даже на похоронах. И Зельде как будто передалось его желание. У нее не было сил воспротивиться, и она побрела за ним, как по воде, чувствуя необыкновенный прилив сил и не задумываясь об оставшемся за спиной береге.
– Какой сегодня радостный день, – сказал Ицик, замедляя и без того неторопкий шаг. – Я давно хотел вам это сказать.
– Что?
– «Какой сегодня радостный день». Но дни шли, и радости не было.
– И сейчас, по-моему, ее нет, – заметила Зельда.
– Мой покойный отец говорил: кто встретит свою возлюбленную на похоронах, тот будет счастлив с ней до гроба.
Он спешил оглушить ее своим нетерпением, ошеломить своей искренностью, потому что не верил, что ему когда-нибудь еще удастся признаться ей в своих смешных, а стало быть, совершенно ненужных чувствах. Пусть посмеется над ним, пусть убежит и больше никогда не посмотрит в его сторону, но пусть знает, слышит, чувствует, какое облако клубится над ним.
– Мой отец никогда не ошибается, – натянуто пошутил он, удивленный ее молчанием. Неужто его признание не произвело никакого впечатления? Неужто такое облако клубится над ее головой каждый день?
– Мой отец тоже никогда не ошибается, – ответила Зельда.
– Ваш ошибается, – чуть ли не заорал он. – Потому что все меряет саженями и вершками. Но я не дерево… И вы, Зельда, не дерево.
– Перестаньте, – оборвала она его. Лицо горело от его слов, и сердце прыгало, замирало и, замирая, ловило каждый звук, как ловит рыба кроху, уносимую течением.
– Мой покойный отец говорил: «Ицик! Объяснись в любви не в роще, не на берегу реки, а у смертного одра или на кладбище, и, если тебя услышат, вы проживете долгую и счастливую жизнь, потому что женщина как смерть: ее не перехитришь и не обманешь».
– Зачем вы врете? Вы же не помните своего отца, – тихо сказала Зельда.
– Но я… я помню его слова, – выдавил Ицик, весь обливаясь потом.
Они кружили вокруг корчмы и никак не могли найти дверь в дом, где на полу, на неструганых досках покоилась женщина, которой ее муж, корчмарь Ешуа, не объяснился в любви ни в роще, ни на берегу реки, ни на брачном ложе и, может быть, наспех, глотая слезы и ища сочувствия, объяснится у вырытой ямы.
Кладбище было молодое, намного моложе мертвых. Первого еврея на нем похоронили перед самым бунтом шестьдесят третьего года. Раньше покойников возили в Мишкине – не понесешь же в такую даль на руках, как того требовал обычай.
Пока прыщавый Семен и Ицик несли Хаву по местечку, к кучке родственников пристраивались зеваки. Похороны были событием, как град в августе или гроза с молниями вполнеба. Люди высыпали из домов, спотыкаясь, пустились вдогонку, засопели носами, проклиная ухабистый проселок, одышку и свою долю, полной грудью вдыхали целительный воздух. Такого воздуха, казалось, в целом мире нет, объезди его вдоль и поперек, обойди из конца в конец до самой Земли обетованной. О, воздух литовской глуши, со дня рождения до дня похорон, от первого вздоха до вздоха последнего сопутствующий каждой твари, не признающий никакой черты оседлости, никаких христиан и евреев, струящийся, обволакивающий, пронизывающий каждый лапсердак и сермягу!
За взрослыми на кладбище устремились дети, за детьми – собаки. И никто не прогонял их потому, что и собака имеет право постоять у могилы, обронить слезу и даже облаять смерть.
Корчмарь Ешуа едва волочил ноги. Рядом с ним степенно вышагивали братья Спиваки – Нафтали и Хаим. Ицик все время оглядывался назад – идет ли Зельда.
Зельда держалась за грядку фуры, в которой сидела Морта и перебирала вожжи, как четки.
– Остановитесь, – внезапно выдохнул Ешуа.
– Что случилось? – не оборачиваясь, крикнул прыщавый Семен.
– Господин урядник!.. Господин урядник машет…
– Ну и пусть машет, – озверел сын корчмаря.
– Давайте подождем. Зачем злить человека?
– Хочешь – жди, – бросил прыщавый Семен, не сбавляя шагу.
Урядник приветливо-сочувственно махал у калитки своего дома фуражкой. Фуражка мелькала в воздухе, как огромный гриб.
Корчмарь Ешуа поднял руку и слабо помахал в ответ: спасибо, мол, Ардальон Игнатьич, век не забуду. Он уронил руку, поймал недобрый взгляд шурина Нафтали Спивака и сгорбился, как от удара. Господи, что со мной творится, подумал Ешуа. Кому машу? Хорошо еще – Нестеровичу водки не захотелось. А если бы захотелось? Неужто бросил бы Хаву и пустился бы обратно в корчму? Наверно, пустился бы…
И вдруг внимание Ешуа привлекла чья-то собака, пегая, с кривой продолговатой мордой и обвислыми, как картофельная ботва, ушами. Бездомная, она носилась по проселку, виляя обрубком хвоста, как будто с кем-то прощалась.
– Чья это собака? – выдохнул корчмарь в спину шурина Нафтали.
– Опомнись, Ешуа! О чем ты думаешь? – пристыдил его Спивак.
– О собаке, – признался корчмарь.
– Ты бы о Хаве подумал, – набычился Нафтали.
Корчмарь замедлил шаг и, когда фура поравнялась с ним, сказал Морте:
– После похорон приведешь ее к нам.
– Кого? – опешила Морта.
– Вон ту собаку.
– Зачем? – Морта перестала перебирать вожжами и уставилась на хозяина.
– Надо, – отрезал Ешуа.
Он и сам не понимал, зачем ему этот шелудивый пес, но до самого кладбища не сводил с него глаз, и чем больше на него смотрел, тем сильней было безрассудное желание.
Господи, что же со мной творится, снова мелькнуло у него. Почему я думаю не о Хаве, с которой прожил без малого тридцать пять лет, а об этой бездомной зачуханной собаке? Братья делают вид, будто убиты горем, напустился Ешуа вдруг на Спиваков. Врут. Избавились от Хавы, сбыли ему как залежалый товар… Все врут… Врут, когда зачинают, врут, когда хоронят. Вся жизнь человеческая состоит из долгого – доходного и убыточного – вранья. А правда, она, как эта собака, шелудива и бездомна. Если бы мир был домом правды, никто в нем и дня не прожил бы… перерезали бы друг другу горло… задушили бы… замордовали бы… Все держится на лжи. Все. Только от нее тошнит, как с перепоя. Но разве ее всю выблюешь? Разве ее всю выблюешь?
Когда Хаву опустили в могилу, Ешуа заплакал.
Синагогальный служка вертелся возле него и все время шмыгал своим охотничьим носом.
– Ты чего шмыгаешь? – не выдержал корчмарь.
Служка ничего не ответил. Но он был готов поклясться, что от слез Ешуа чем-то несло – не то помоями, не то тухлым яйцом, не то детским неотстиранным калом. Служка вспомнил бродягу в ермолке, приколотой булавкой к волосам, его недоступные разуму слова о вонючих слезах корчмаря и от волнения и оторопи сам зарыдал в голос.
Все – прыщавый Семен, Зельда, Ицик, Морта, зеваки, дети, собаки – косились на служку и не могли взять в толк, чего это он тревожит рыданиями небо.
Прыщавый Семен подошел к нему, вынул алтын и сказал:
– Хорошо плачешь. Держи!
– Спасибо, – промямлил служка. – Спасибо. Ты, Семен, ничего не чувствуешь?
– Чем-то вроде воняет, – прыщавый Семен втянул в ноздри кладбищенский воздух.
– Вот, вот, – зачастил служка.
– Это не ты ли в штаны наложил?
– Нет. Это слезы так пахнут. Слезы реб Ешуа. Тот… в ермолке с булавкой… так и сказал…
– Я убью его, – прошептал прыщавый Семен, и вонь ненависти обдала лицо служки, скорбную фигуру корчмаря Ешуа, свежую могилу и собак, обнюхивавших друг друга.
X
– Сколько можно дрыхнуть, Ури? Вставай! На столе горох стынет!
Господи, что за наваждение, что за напасть, хоть уши затыкай. Рабби Ури отчетливо слышит дребезжащий голос своей жены Рахели и суеверно оглядывается. В избе никого нет. В избе никого и не может быть. И горох покойница последний раз варила бог весть когда. Два года назад, за неделю до праздника дарования Торы, она умерла, угасла в выстуженной, пропахшей тленом постели, в которой он, рабби Ури, сейчас лежит и слышит ее голос:
– Вставай!
Рабби Ури стар и немощен, но пока из ума не выжил. Он слышит голос своей Рахели так же ясно, как в те дин, когда они оба приехали сюда, он – молодой, статный, с черными смоляными пейсами, вьющимися, как обугленные виноградные гроздья, она – тоненькая, махонькая, испуганная, как птица.
– Хватит дрыхнуть!
Рабби Ури затыкает сморщенными указательными пальцами волосатые уши, и голос жены исчезает, но в воспаленных бессонницей глазах старика по-прежнему посверкивает испуг. Пальцы-затычки дрожат, и дрожь, негаданная, крупная, как горох, рассыпается по всему телу.
– Горох мне надоел, Рахель, – говорит рабби Ури неестественно громко и снова оглядывается.
Ну чего он, спрашивается, оглядывается, дурья голова? Рахель умерла. Рахель зарыта на кладбище, а с кладбища еще ни один мертвец не вернулся.
В избе, кроме хозяина, только паук да осенняя муха-хлопотунья. Рабби Ури давно ее приметил. Все мухи еще в прошлом месяце попрятались в щели от стужи или вымерли, а она все летает и летает.
Рабби Ури ее и в окно выгонял, и плотно прикрывал двери, и крошки со стола подмел, но муха все равно прилетала, маленькая, шустрая, преданная, как Рахель. Чего ей от него надо? Залезла бы куда-нибудь в щель и дожидалась бы там весны, так нет же – кружится, жужжит, следует за ним повсюду. Рабби Ури такой мухи сроду не видывал. Мух он не терпел, но, покоряясь воле Господа, создавшего их, как и человека, привык и даже оберегал ее от паука, упрямо ткавшего свою смертоносную сеть и ненавидевшего всех, кто летает.
Паук жил в избе с незапамятных времен. Иногда он спускался по стене к хозяину, и рабби Ури с почтительным страхом следил, как тот перебирает своими замысловатыми, похожими на древнееврейские буквы ножками.
После того как подохла кошка, паук остался единственным живым существом в доме, если не считать молчаливых и коварных клопов, выползавших по ночам из своих укрытий и сосавших остывшую, как свекольник, кровь рабби Ури. Но и домовитый загадочный паук не шел ни в какое сравнение с мухой.
Стоило рабби Ури лечь в постель, как она опускалась на подушку и застывала в ожидании не то слов, не то ласки. Пугай ее, не пугай – сидит и смотрит на старика, и от ее соседства оттаивает озябшая душа и белеет в темноте, как аист.
Вчера, когда рабби Ури прихлебывал остывший, как его кровь, свекольник, муха села на стол, туда, где при жизни клала свои неутомимые крепкие руки Рахель, и уставилась на его беззубый, пустой, как покинутое дупло, рот, на кровоточащие десны, и ни с того ни с сего зашелестела крылышками. От их жалобного, полного какого-то тайного значения шелеста на рабби Ури вдруг напала долгая и тяжкая икота, и как он ни старался, не мог до утра ее превозмочь.
Мучаясь от икоты и бессонницы, рабби Ури время от времени шарил рукой по подушке, и тогда муха взлетала, и в ночной тишине что-то потрескивало, как полено в печи.
– Кто ты? – спрашивал у нее старик, а она только дремотно гудела, ударяясь то о его бороду, то о стену. – Я – рабби Ури, – говорил он тихо, заглатывая затхлый воздух и тщетно борясь с икотой. – У меня была жена. Ее звали Рахель. Она так же вечно летала надо мной и по ночам смотрела на меня с соседней подушки.
Рахель! Рахель!
Он прислушивался к звучанию привычного имени, и оно странно и миротворно сливалось с жужжанием мушиных крылышек.
– Кто-нибудь да должен нас услышать, – шептал рабби Ури. – Собака или муха – все равно.
Он проваливался в недолгий мучительный сон, просыпался, прислушивался к тишине, снова шарил рукой по подушке и испытывал что-то похожее на радость, когда в клопином мраке раздавалось слабое, почти невнятное гудение той, которая добровольно делила с ним ложе и одиночество.
Он и сам не понимал, почему избрал для своей исповеди не Бога, а простую муху, какие тысячами летают над каждой зловонной свалкой или летом роятся в мясной лавке, облепляя освежеванные туши. Может, потому, что была она живая, осязаемая, доступная, а Бог был от него далек, так же далек, как шестьдесят лет тому назад, когда он, рабби Ури, впервые ступил на этот бревенчатый порог, на эти скрипучие половицы. Может, потому, что неоднократно исповедовался Всевышнему, и тот, всемогущий и милосердный, знал о нем все до мельчайшей мелочи, до пятнышка на его ермолке, до прыща на теле. А может, потому, что и Бог, и муха были одинаково бессловесны и непостижимы. В конце концов так ли уж важно, почему.
Рабби Ури вспомнил, как в детстве поверял свои тайны безымянному дереву, зеленевшему на пустыре за дедовским домом. Он прибегал к нему каждый вечер, весной и летом, осенью и зимой, и прикасался к шершавому стволу губами. Прикасался и сбивчиво шептал то, что никогда не поведал бы ни одному человеку на свете, даже отцу и матери. Он верил, что его горячие и смутные слова, как древесный сок, потекут вверх, к самой кроне, а от кроны воспарят в небо, и Бог услышит их и ниспошлет ему и всем его близким радость и удачу. До сих пор на его увядших, почти безжизненных губах остался привкус коры. Привкус веры.
В дерево его детства угодила молния, и оно сгорело вместе со всеми его тайнами и надеждами.
Господи, сколько таких деревьев сгорело на его долгом веку! Целый лес! Но он не сдавался, он не падал духом, он не преклонился перед молнией – искал новое, зеленеющее на пустыре дерево и прикасался к его шершавому стволу губами.
Без малого шестьдесят лет он прикасался к Рахели, но и в нее угодила молния.
Рахель! Рахель!
– Ты любишь Бога больше, чем меня, – упрекала она его. – Ты с его именем встаешь и ложишься. Но никто еще с ним не прижил детей.
Ну что он мог ей ответить?
– Все евреи в местечке наши дети.
– Нет, Ури, нет. Когда мы умрем, некому будет закрыть нам глаза.
Но он стоял на своем. Любовь к Богу ни с кем нельзя делить, даже с детьми, даже с женой. Что такое дети, что такое жена, если не корысть? А там, где корысть, там нет веры.
Разве он приехал сюда, чтобы наплодить кучу детей и возиться с ними? У него была другая, более возвышенная и важная цель. Бог еще в ешиботе вложил ему в уста свое слово и призвал для спасения заблудших душ всех, кто погряз в корысти, равнодушии и унизительном раболепии. С каждым годом умножалось число евреев, изменивших языку и закону своих отцов и праотцов, принявших православие и католичество и получивших взамен за свою веру благосклонность городовых и жандармов. Рабби Ури забрался в эту глухомань, в эту дыру только для того, чтобы удержать их от этого пагубного соблазна. Народ, как он ни мал, как ни слаб и беззащитен, не может быть отчимом для своих сыновей. Велико море, но люди и птицы не из него пьют, а из рек и речушек. Что бы было, если бы в один прекрасный день их взяли да осушили?
Рабби Ури, конечно, мог остаться в Вильно. Останься он там, в своем родном городе, глядишь, и стал бы главным раввином Ерушалаима да Лита – Иерусалима Литвы. Но он помышлял не о славе и почестях, а о благе своей паствы. До его приезда в местечке не было ни молельни, ни кладбища. Покойников – какое кощунство! – возили в Мишкине, и молился каждый где попало, а то и вовсе забывал про молитву. Это он, рабби Ури, открыл в местечке молельню. Это он основал кладбище.
– Ты бы лучше о потомстве подумал, – поругивала его Рахель. – Когда нас будет столько, сколько звезд на небе, нам ничего не будет страшно. Посмотри, сколько на свете русских или китайцев. Рожать, Ури, надо, рожать.
Но он только отнекивался.
– Если у нас не будет ребенка, я уеду в Вильно.
Она забеременела в сорок лет, но родила мертвого, и необрезанного мальчика похоронили не в Мишкине, а в том местечке, где через пять лет раскинулось местечковое кладбище. Сыну рабби Ури суждено было положить ему начало.
– Видишь, – только и сказал он жене, когда они вернулись с поля, и она так и не поняла, скорбит он или радуется.
Рабби Ури еще долго мучило то, что первым на новом кладбище зарыли необрезанного. Он ждал от Бога мести, но Бог отомстил не ему, а Рахели. Она тогда чуть не рехнулась, почти год ни с кем не разговаривала, ходила по дому как привидение, купила у литовца деревянную люльку, повесила посреди избы и день-деньской раскачивала, пока он, рабби Ури, плыл со своими учениками по бездонному морю Торы.
– Рахель, – умолял он ее.
Но она молчала и не отходила от зыбки. Иногда Рахель вскакивала среди ночи, бросалась в одной сорочке к люльке и как безумная повторяла:
– Опять мы мокрые… опять мы мокрые.
Или пела колыбельную, которую сама же сочинила:
Спи, усни, красавец мой,
Глазки черные закрой.
Тогда, в том страшном и далеком году, рабби Ури впервые рассердился на Бога. То была скорее обида, чем злоба. Злоба, утешал он себя, отчуждает от Всевышнего, а обида сближает, и потому не считал свое чувство ни мятежным, ни греховным.
В местечке жалели его, ждали, когда он отправит Рахель в Вильно, в сумасшедший дом, но он ничего не предпринимал, только жарче молился и чаще задерживался со своими учениками в молельне.
– Да вы, рабби, одолжите у кого-нибудь младенца. Хотя бы у печника Файвуша. Его жена недавно родила двойню, – посоветовал ему Бенцинон Гуральник, тогдашний казенный раввин, отрекшийся через восемь лет от еврейства.
Рабби Ури долго колебался, но наконец внял совету и отправился к печнику Файвушу на переговоры. Запинаясь, страдая от косноязычия и неловкости, он объяснил свою просьбу и, когда замолк, почувствовал страшную, парализующую волю слабость, словно весь состоял не из сухожилий, а из податливого свечного воска.
– Вам, рабби, мы ни в чем не можем отказать, – затрещала мать двойни конопатая Двейре. – Выбирайте любого. Они у меня оба хорошенькие.
Она нахваливала своих близнецов, как крестьянка товар на рынке, и от ее бодрого голоса, от ее уничиженной услужливости его почти мутило.
– А как с молоком? – не унималась Двейре.
– С каким молоком? – опешил рабби Ури.
– С грудным, – выпалила конопатая Двейре. – У Рахели оно, видать, пересохло, а у меня его, рабби, хоть отбавляй.
Двейре двинулась к нему, гордо неся свои полные великодушные груди, и рабби Ури отпрянул от нее, лицо его покрылось пятнами, опалившими бороду, глаза налились стыдом и отчаянием, он рвотно закашлялся, полез в карман за платком, но рука только нащупала талес и беспомощно повисла под сюртуком.
– Я буду приходить к нему, – скороговоркой сыпала конопатая Двейре. – Как кормилица. В богатых домах всегда так водится.
– Как? – растерялся рабби Ури.
– Одни рожают, другие вскармливают. Пусть мой Исер растет в богатом доме.
Рабби Ури не стал ей перечить.
В сумерках конопатая Двейре отнесла запеленутого в тряпки Исера к рабби Ури.
Она долго не решалась войти внутрь, топталась с ребенком на крыльце, вставала на цыпочки и заглядывала в занавешенные окна. Ее вдруг охватил какой-то бессознательный тупой страх, она прижала Исера к груди, полной материнской любви и молока, наклонилась к нему, что-то виновато прошептала и сделала шаг назад, как будто оступилась, но тут на пороге появился рабби Ури.
– Входи, – сказал он.
Рахель спала.
Двейре оглядела люльку, чмокнула младенца, бережно положила его и заморгала бесцветными ресницами.
– Мы тебе будем платить, – тихо промолвил рабби Ури.
– За что? – встрепенулась Двейре.
– За Исера.
– Что вы, рабби, что вы… Пусть хоть один вырастет ученым человеком. Не печником.
Она поклонилась люльке и вышла.
Рахель сквозь сон услышала крик ребенка и проснулась. Подошла к люльке и обомлела.
– Это не наш сын, Ури, – сказала она и зарыдала в голос. – Зачем ты это сделал?
Рахель стояла и смотрела на чужое дитя, на его сморщенное, как старый кисет, лицо, на его полуслепые щенячьи глазки, и слезы капали в люльку, и безумие медленно отступало перед внезапно нахлынувшей добротой и бабьей жалостью.
Рахель вдруг склонилась над люлькой и напевно, как молитву, произнесла:
– Мокрые мы… мокрые…
Она проворно, словно давно была приучена к этому, перепеленала Исера, уложила, схватилась за сыромятный ремень и принялась качать люльку. Рабби Ури неотрывно глядел на нее, и перед его глазами вместе с люлькой качались и дом, и деревья, и звездное небо за окнами, и жена Рахель, и эта качка опьяняла его, как вино, даря силу и утешение.
– Рахель, – сказал он. – Я никогда… ты сама знаешь… никогда не говорил тебе таких слов.
– И не надо, – ответила она.
– Но сегодня… сегодня мне кажется, что я люблю тебя больше, чем Его.
Он не отважился произнести вслух имя Бога.
– Не кощунствуй, – сказала Рахель.
– Любовь не может быть кощунством. Кто мы без любви? Скопление ненасытных кишок, набитых завтрашним дерьмом.
– Тише, Ури, тише, – взмолилась она.
– Прости меня… С самого детства мне хотелось, чтобы все были счастливы. Все, кроме меня самого.
– Почему?
– Когда ты сам счастлив, то не живешь, а боишься… боишься за свое счастье… Когда-то я дал Богу клятву…
– Что никогда не будешь счастливым?
– Да. Я сказал ему: «Господи, забудь про меня, вспомни о других. Они больше достойны твоей милости!» И ты, Рахель, и жена печника Двейре, и этот невинный младенец, запеленутый в нужду.
Рабби Ури вдруг осекся. Он подошел к люльке, встал рядом с Рахелью, и дыхание ее передалось ему, как ветер, вошло в его ноздри, а из ноздрей заструилось и теплом потекло в глубь, обвевая сердце и воспламеняя кровь, и он, как никогда раньше, постиг тайну произрастания плода в чреве и на ветках, изумился ей и почувствовал себя жалким скопцом…
Рабби Ури осторожно вытаскивает из волосатых ушей пальцы-затычки и до его слуха снова доносится нетерпеливый раздраженный голос Рахели.
– Больше я тебя звать не буду. Вставай! – звучит властно и недобро.
Рабби Ури медлит, озирается. В окно струится холодное осеннее солнце.
Как же так, думает он, пытаясь примирить явь со своими воспоминаниями, только что мы стояли с Рахелью рядом, смотрели на Исера, дышали одними ноздрями, и вдруг, за один миг, все сгинуло, перевернулось, улетучилось, я лежу в выстуженной постели, в окно струится осеннее солнце, наволочка на подушке не стирана, простыня и одеяло, как облака, в дырах, ноги высунуты, голова всклокочена и давно не мыта, грудь, точно бок у свиньи, в кустиках жесткой белесой щетины. Господи, неужели этот отвратительный старик в гнойниках и струпьях, как библейский Иов, – это я, рабби Ури, основатель местечковой молельни и кладбища, сеятель добра и согласия, твердыня веры? Неужели это мои глаза, которые видят не гору Сион, а только паука и муху? Неужели это мои уши, которые слышат не звук тимианов, а дребезжащий голос жены? Неужели это мои руки, которые не облака раздвигают, а только шарят по грязной подушке? Где мои соседи, Господи, от которых не было отбоя? Где мои верные ученики, которые ходили за мной толпами и ловили каждое мое слово, даже если оно кидало их в дрожь? Где мои враги, которые помышляли только об одном – сжить меня со свету, заткнуть мне горло, лишить меня веры? Вера, вера!.. Неужели ты только миг, только деревянная люлька, в которой нет младенца и которую напрасно баюкают до гроба?
Пусто, Господи, пусто. Только паук ткет свою паутину, только муха преследует меня и говорит голосом моей жены Рахели.
Муха – Рахель!
Как это раньше не пришло мне в голову! Муха – Рахель!
Что же, спасибо тебе, Господи, за явленное чудо. Спасибо. По правде говоря, я заслуживаю его. Всю свою долгую жизнь я служил тебе, не требуя для себя никакой награды, даже понюшки табака. Разве вера сама по себе не награда?
Сейчас я встану с постели, сяду за стол и начну уплетать горох.
Что с того, что никакого гороха нет ни на столе, ни в кухонном шкафу. Мало ли чего нет на белом свете, но мы же это, Господи, вкушаем. Вкушаем и радуемся, и возносим тебе хвалу. Порой нам это кажется даже слаще чем то, что у нас есть.
Я встаю, Господи.
Не обращай внимания на мое кряхтенье и стоны, не гневайся, милосердный, – мне всегда было тяжело вставать поутру. Поутру легко встает только солнце. И заходит оно легче, чем человек.
Если тебе неприятны мои стоны, заткни сморщенными указательными пальцами уши. Это верное средство, поверь мне. Оно доступно и бедняку, и Богу.
Вот я уже стою у рукомойника. Воды нет, но я мою руки.
Вот я уже молюсь, благословляя хлеб насущный.
Вот уже у меня в руке ложка.
Вот я уже хлебаю, Господи.
– Не чавкай, – говорит муха-Рахель.
Она кружится над миской, жужжит.
– Я не чавкаю, – отвечаю.
– Совсем состарился, – говорит муха-Рахель. – Если бы ты так в молодости чавкал, я никогда бы не вышла за тебя замуж.
Ей и в самом деле не стоило за меня выходить. Были в Вильно женихи получше, чем я. Могла бы выйти за какого-нибудь лавочника или парикмахера. Парикмахеры – хорошие мужья. Они не чавкают, и от них всегда приятно пахнет.
– Еще положить? – спрашивает муха-Рахель.
– Оставь Исеру.
– Нету Исера, – говорит муха-Рахель. – Пока ты валялся в постели, Исер уехал и больше к нам не вернется.
На дворе осень – время жатвы, время наготы. За окном с клена падают листья.
Точно так, думает рабби Ури, опадают мысли. Боже праведный, кто сосчитает, сколько их опало на деревянный пол избы, на шершавый настил синагоги, на единственную улицу местечка, на безмятежную траву кладбища? Если бы собрать их в кучу и развести костер, какое пламя взметнулось бы над миром!
Рабби Ури сидит за столом, на котором нет ни гороха, ни ложки, болтает голыми ногами и изредка косится на дверь.
Казалось бы, что такое дверь? Десяток досок, сколоченных плотником, и только. А человек ждет порой от нее больше, чем от Господа Бога.
И рабби Ури ждет.
Раньше дверь не закрывалась. Кто только не приходил сюда: и евреи, и литовцы, и русские, и даже уездное начальство – кто за советом, кто на исповедь, кто со своими снами. Рабби Ури был не только пастырем, но и истолкователем снов, прославившимся во всей округе.
Однажды явился к нему урядник Ардальон Нестерович, взволнованный, потный, и с порога бросил: