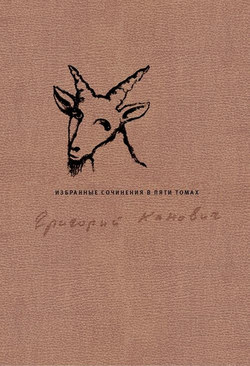Читать книгу Избранные сочинения в пяти томах. Том 3 - Григорий Канович - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Козлёнок за два гроша
III
ОглавлениеТелега Шмуле-Сендера катит в Мишкине, на почту, где старика Эфраима ждет письмо от дочери Церты. Долго сюда письма идут, ох, как долго – целую вечность. Вышлют летом, а письмо придет осенью, отправят осенью, а получишь его зимой. И радуйся! Воскобойников, прежний почтарь, сколько писем, паршивец, погубил: пойдет, бывало, в нужник и подотрется чьей-нибудь Америкой или Палестиной, и насыпь ему соли на хвост.
Эфраим может со Шмуле-Сендером ехать и ехать – аж до Петербурга, аж до Америки, аж до Земли обетованной. Шмуле-Сендер как повязка на рану: только посмотрит на тебя, только потеребит короткими смешными щипками свою бороду, и печали как не бывало, сиди и слушай, как колеса скрипят, как лошадь фыркает, как в придорожных кустах птахи цвенькают.
Господи, какое счастье – дорога! Стоит еврею сделать остановку, и на него сразу же все беды обрушиваются. Но пока еврей едет, нет на свете человека счастливее, чем он. Даже если он едет на похороны.
Эфраим и Шмуле-Сендер знают друг друга шестьдесят, а может, и больше лет. Начнешь считать – со счета собьешься. Вместе в рекруты уходили, вместе на русско-турецкой воевали, вместе в окопах Бога молили, чтобы уберег и вернул их живыми-здоровыми на родину, в Литву, в их тихое и мирное местечко.
Еще в детстве оба поклялись не расставаться до самого смертного часа.
– Я умру раньше тебя, – уверял водовоза Эфраим.
– Нет, раньше умру я, – великодушно возражал Шмуле-Сендер. – В роду Дудаков все долгожители. Кто родился на кладбище, тот живет столько, сколько праотец Авраам.
– Я родился в избе.
– Ты – в избе. А твой дед?
– И дед в избе.
– Не в избе, а на кладбище, – втолковывал Эфраиму Шмуле-Сендер.
– На кладбище? – брови Эфраима взмывали вверх, как две ласточки.
– В Мишкине тогда чума свирепствовала. Косила всех без разбору. Всполошились евреи, наняли старовера Кирьянова, поставили у ворот кладбища, положили золотой – целый золотой! – в день и велели: «Как только пронесут покойника, кричи, Иван, благим матом: «Нет тут больше места! Нет тут больше места!»
– Ну и что?
– Первый день еще прошел так-сяк. А второй!.. Толи Кирьянову заплатить забыли, то ли по другой причине – Иван стоит у ворот и во всю глотку кричит: «Всем места хватит! Всем места хватит!» Чума и распоясалась. К вечеру – двенадцать трупов. Прибежали евреи к раввину: «Рабби, что делать?» А рабби им в ответ: «Беременную найдите». Нашли беременную – прабабку твою, Черну, царство ей небесное, привели к раввину. «Впрягите ее в соху и проведите между кладбищем и местечком межу глубиной в пять вершков и шириной в двадцать!» Прадед твой Генех чуть ему глаза не выцарапал: «Сами, рабби, впрягитесь! Черна вам не вол и не лошадь!» Упали люди на колени перед твоим прадедом и давай его умолять. И что ты, Эфраим, думаешь? Как только Черна вспахала межу, дед твой Шимен, да будет благословенно его имя, и запищал. И чума, услышав писк младенца, сдалась и отступила из местечка. С тех пор и чума, и моровая язва, и проказа обходят его стороной.
Старик Эфраим может слушать Шмуле-Сендера целыми часами, хотя и не верит ни в чудотворную межу, ни в старовера Кирьянова, согласившегося за золотой отпугивать чуму, ни в другие байки.
Пусть Шмуле-Сендер привирает. Вранье – вино бедных, медовый напиток горемык.
Но сегодня Шмуле-Сендер молчит. Даже лошадь не понукает. Сидит, нахохлившись, смотрит на большак, на придорожные деревья, и мысли его переплетаются, как ветви, и сквозь гущу ветвей проступает не мишкинская почта, а далекая-предалекая Америка, город Нью-Йорк, где сын Шмуле-Сендера белый Берл торгует белыми часами.
Водовоз завидует Эфраиму. Эфраим за письмом едет. За письмом. А от белого Берла ни слуху ни духу. Ни белых, ни – упаси бог! – черных писем. Письма! Письма! Для того ли Шмуле-Сендер и Эфраим растили детей, чтобы в жару и стужу тащиться на почту за жалкими крохами радости. Хорошо еще, если радости. А вдруг горе? Господь, как известно, радость отвешивает крохами, а горе караваями. И потом, разве из крох радости соберешь живого Берла или Церту?
Шмуле-Сендер, думает старик Эфраим, глядя на взмокшую спину возницы, еще грех жаловаться. Белый Берл ни в кого не стрелял, не наградил Господь водовоза и дочерью, не сподобил его чести иметь внука-байстрюка и зятя-фармазона.
Эфраиму страх как хочется, чтобы Шмуле-Сендер заговорил с ним о Гирше, о зерноеде Шмерле-Ицике, о раненом Виленском генерал-губернаторе, о своем удачливом белом Берле (три года прожил в Нью-Йорке и каменный дом купил. Каменный!) – пусть говорит о чем угодно, только не студит его душу молчанием.
– Послушай, Шмуле-Сендер, – начинает Эфраим, – ты мог бы быть палачом?
– Лучше быть Ротшильдом.
– Мог бы, скажем, вздернуть человека? – не унимается каменотес.
– Как это вздернуть?
– Намылить веревку, накинуть ее на шею…
– Тебе?
– Мне… Авнеру… или…
Шмуле-Сендер понимает, куда клонит Эфраим. На уме у него не Авнер, а сын Гирш. За покушение на генерал-губернатора его, Гирша, по головке, конечно, не погладят. Если признают виновным – а еврей еще до рождения, до выстрела в губернатора, до суда виноват, – то дела его плохи: в тюрьме сгноят или, как говорит Эфраим, вздернут на виселице.
Лошадь трусит по большаку. Шмуле-Сендер помахивает кнутом скорее для вида, чем для острастки. Старик Эфраим придерживает шапку – не дай бог, ветер сорвет, потом гоняйся за ней, как мальчишка за бумажным змеем.
– По-моему, – говорит Эфраим, – в каждом из нас два человека живут.
– У меня и для одного места мало, – отшучивается Шмуле-Сендер.
Ровный большак навевает неодолимую сладкую дремоту. Кажется, мать качает люльку, и тебя, маленького, беззащитного, кидает, как щепку, из стороны в сторону.
– Два человека в каждом из нас… два… Один намыливает веревку, другой стоит на табурете и молится.
Шмуле-Сендер не перечит Эфраиму. Два так два. Пусть победит не тот, кто намыливает веревку, а тот, кто стоит на табурете. Но разве, стоя на табурете, победишь?
Вот и мишкинская почта.
После Воскобойникова (он отравился кабаниной) почтарем там служит Ардальон Игнатьевич Нестерович – бывший их урядник. Прежний почтарь не только подтирался чужими письмами, но и скручивал из них самокрутки. Бумага тонкая, заграничная, с приятным ароматом. Сколько он, нечестивец, писем скурил – одному богу известно. До сих пор над крышей мишкинской почты не облака плывут, а дымки от писем – горькие, сладкие, недосягаемые дымки!
Ардальон Игнатьевич в отличие от Воскобойникова не курит и к письмам оттуда относится иначе – с почтением и тайным любопытством. Ни одному не даст пропасть. Как можно: люди из-за моря-океана пишут, и не кому-нибудь, а своим родичам, родителям, на веки вечные оставшимся в России.
Правда, и за Нестеровичем водится грешок – любит подношения. Но разве при почтарском жалованье подношения – смертный грех? Придешь за письмом, Ардальон Игнатьевич непременно справится: ну как они там, наши беглецы, деньги, небось, лопатами загребают? Бросили отчизну ради златого тельца… Его, Ардальона Игнатьевича, на кусочки изруби, сунь в чемодан, перевези за границу, он там соберет себя и пешком домой, в Россию, потопает. Привет им, беглецам, передайте… от бывшего урядника… Твой Берл, наверно, уже забыл, как я ему уши надрал, когда в мой сад за яблоками лазил… А в чей нынче лазит?.. А твоя, Эфраим, Церта с моей Катюшей на речку белье полоскать ходила… пигалица… Говоришь, в Киеве она?.. Ну, Киев – не беда… Киев, Эфраим, наш, русский…
Ардальон Игнатьевич гневается, когда с ним вестями не делятся. От своих вестей тоска зеленая – там голод, тут недород, а там горцы снова бунт подняли. Он, Нестерович, делится с ними, бородачами, всем: и новостями, и хлебом. Иван, сын, в Туркестанском крае, на самой границе с Персией, а Катюша, та под боком, в Могилеве, за приказчика вышла, двойню родила.
Телега Шмуле-Сендера сворачивает с большака, и лошадь заученно цокает по булыжнику к почте, как будто не водовоз, а она получает письма из Америки.
Белый Берл давно грозится прислать отцу деньги – доллары на новую конягу. Мог бы сынок и саму конягу прислать, да уж больно накладно: по суху нельзя, а по воде за все плати: на кой ляд Шмуле-Сендеру новая лошадь? На его век и этой хватит.
– Знаешь, Шмуле-Сендер, чего я больше всего на свете хочу? – вдруг обращается к водовозу Эфраим.
Тоже мне загадка! Разбуди Шмуле-Сендера среди ночи, и он, не моргнув глазом, скажет, чего Эфраим больше всего на свете хочет. Он хочет получить хорошее письмо от Церты, хочет, чтобы она бросила своего фармазона и вернулась домой, пусть безмужняя, пусть с байстрюком. Он, Эфраим, их примет с радостью. Примет и дом им отпишет, какой-никакой, а все-таки дом с окнами и крышей, под которой еще Цертин прадед жил, под которой они все родились – и он, и его дети. Кто-то из них – об этом и подумать страшно – под этой крышей и умереть должен. И еще Эфраим хочет, чтобы Эзра перестал мотаться туда-сюда, обучился какому-нибудь ремеслу (ну, хотя бы стекольщика), женился на дочери почтенного рабби Авиэзера (Нехама до сих пор не замужем, того и гляди, девкой-вековухой останется); хочет, чтобы помиловали Гирша – ну если не помиловали, то хотя бы… хотя бы оставили в живых.
– Когда умру… хочу, чтоб меня похоронили там, где похоронят – дай Бог им жизни еще на сто двадцать лет! – моих детей. Хочу лежать вместе с ними.
– Наши дети не приедут сюда умирать. Не приедут, – твердо и печально говорит Шмуле-Сендер. – Так что лежать тебе не с детьми, а рядом со мной. Взять моего Берла. Какой ему резон деньги тратить?
– На что?
– Чтобы лечь рядом со мной… Далеко ехать… И твоим, Эфраим, далеко, хотя им дорога обошлась бы дешевле.
– Когда опустеют наши кладбища, кончится народ Израиля.
Шмуле-Сендер ежится. Он всегда ежится от правды, как от стужи.
– На обратном пути, – говорит он, – к Юдлу Крапивникову заедем. Камень посмотришь.
– А я решил ничего не делать… Мое надгробие подождет… – бормочет Эфраим. – Есть дело поважней.
Дело поважней! Гирш! Ему бы жить да жить, а он не сегодня-завтра предстанет перед военно-полевым судом, а что это за штука, Шмуле-Сендеру объяснять не надо. Как пораскинешь мозгами, несчастнее отца, чем Эфраим, во всей округе нет. Может, это от того, что от разных жен дети… С женами, как с водой. Когда черпаешь ее из одного колодца, то спишь спокойно, а вот когда бегаешь с черпаком то к реке, то к пруду, то к озеру, то к болоту, то и водой немудрено отравиться.
Эфраим входит в избу, где выдают письма и присланные богатыми родственниками деньги. До того как в избе обосновалась почта, тут был главный штаб мятежников, потом, после шестьдесят третьего, когда бунт усмирили, изба отошла к монастырю. Чуть поодаль от нее печалился легкий, почти игрушечный костелик. Костелик сгорел (в него угодила молния), а куда настоятель девался, никто толком и по сей день не знает. Одни говорят, будто его в Сибирь сослали, другие (евреи) уверяют, будто он вместе с пятью россиенскими паломниками отправился в Иерусалим – пешком, через султанскую Турцию.
Старики озираются, ищут взглядом почтаря, но Ардальона Игнатьевича не видно.
Наверно, спит где-нибудь в затишке. Его благородие не намного моложе их – седой, лицо в морщинах, как будто плетеная корзинка, глаза потухшие. Только усы прыткие – так и норовят, как тараканы при дневном свете, уползти во тьму ноздрей.
Спит. Ну и пусть. Эфраим и Шмуле-Сендер подождут.
Водовозу не к спеху. Белый Берл, видно, еще даже пера в чернильницу не обмакнул. Не спешит и Эфраим. От Церты чего ждать?
Пусть Ардальон Игнатьевич спит. Они посидят на крыльце. Тоже маленько вздремнут. Человек спит – горе спит.
А горе у них у всех – и у Эфраима, и у Шмуле-Сендера, и у почтаря.
Померла у Ардальона Игнатьевича жена – Лукерья Пантелеймоновна, преставилась перед самым Покровом, сама намучилась и его, солдата своего верного, измучила. Пусть спит. Пусть. Человек спит – горе спит.
Старик Эфраим, Шмуле-Сендер, Авнер, жена корчмаря Ешуа Морта со своими близнецами шли за гробом Лукерьи Пантелеймоновны чуть ли не до самого православного кладбища. Рабби Авиэзер, и тот проводил мученицу до парикмахерской Аншла Берштанского. Повезло им с властью! Повезло! А когда евреям везет с властью, они забывают о том, что они евреи, и могут даже пойти на православное кладбище.
– Когда вы умрете, я вас тоже провожу, – пообещал растроганный почтарь-урядник. – Ей-богу.
И позвал их всех на поминки.
Один рабби Авиэзер отказался.
– Шма-Исроель, – восклицал захмелевший Ардальон Игнатьевич, первый урядник, изъяснявшийся с ними на их родном языке. – Слушай, Израиль.
И Израиль в лице Эфраима, Шмуле-Сендера, Авнера слушал, не смея прикасаться ни к еде, ни к выпивке.
– В день смерти хорошего человека все боги усаживаются за поминальный стол вместе. Кушайте, пейте… Шма-Исроель! Ваш бог чокается с нашим! – рокотал безутешный Ардальон Игнатьевич, и у всех у них в глазах стояли слезы, одинаковые, как небо над головой.
Вот и он, почтарь.
– Шолом алейхем, идн, – здоровается он с ними по-еврейски.
– Здравия желаем, ваше благородье, – по-солдатски отвечают рекруты Эфраим и Шмуле-Сендер.
– Мир вам, евреи, – Ардальон Игнатьевич улыбается, оглаживает усы, крякает по-молодецки. – Тебе, Шмуле-Сендер, нема… пишут еще… А может, забыл тебя твой Берл?
– Никак нет, ваше благородье! Еврейские дети не забывают своих родителей, – обижается за своего сына уязвленный Шмуле-Сендер.
– Все забывают. И еврейские, и русские, и татарские.
– Никак нет.
Старик Эфраим не вмешивается в разговор, не перебивает Ардальона Игнатьевича, не требует от него письма, смотрит на двор, на лошадь, на ее свалявшуюся гриву и думает о том, что Шмуле-Сендер давно не купал ее, а надо бы… непременно надо бы… некупаная лошадь, что пашня в сушь.
– Почему ваши не забывают?
– Потому что другой страны у евреев нет.
– Другой?
– Кроме памяти… Наша страна, ваше благородье, не Россиенский уезд, не Америка, а память. В ней мы все вместе и живем: живые и мертвые, и те, которые еще не родились, но родятся под нашими крышами.
– А у нас что, по-твоему, такой страны нетути? – осаждает водовоза Ардальон Игнатьевич.
– Есть, ваше благородье. Но вдобавок еще имеются необъятные просторы… быстрые реки… большие города… Курск… Вологда… Туркестанский край…
В Туркестанском крае служит сын Нестеровича – Иван. И от него давно нет писем. И он пишет так же редко, как белый Берл из Нью-Йорка. Жалуется на жару, на каких-то ядовитых змей, на свое, как водится на Руси, начальство.
– Какой ты, водовоз, умник! Одного только в толк не возьму, почему ты всю жизнь при таком уме воду возишь?
– Уже не вожу, ваше благородье.
– Ну, возил… Почему?
– Потому что вода, как и жажда, никогда не кончается.
– Почему же ты, Шмуле-Сендер, не торгуешь воздухом?
– Как можно, ваше благородье, торговать тем, чем дышишь.
– Хват! Ей-богу, хват!
Нестерович достает из ящика обшарпанного дубового стола письмо со штемпелем, вертит в руке, словно взвешивает, и с какой-то почти церковной торжественностью протягивает, как облатку, терпеливому Эфраиму.
– С тебя причитается. Но ты лучше слово дай… Слово дороже денег… – говорит почтарь.
Письмо дрожит в руке Эфраима, и сама рука дрожит, а может, все вокруг дрожит от старости, от нестерпимой голубизны, от предвкушения мимолетной радости, спрятавшей в белый листок свое голубиное крыло. Эфраим слушает Ардальона Игнатьевича, и ему, несчастному отцу, кажется, будто он не письмо держит, а руку Церты, и рука дочери, такая похожая на руку любимицы Леи, тоже дрожит мелкой и благодарной дрожью, и Эфраим гадает по руке, как по письму, и далекое приближается, и тайна перестает быть тайной.
– Дай слово, что сделаешь памятник Лукерье Пантелеймоновне…
– Ваше благородье, я православным не делаю…
– А что, раз православный, значит, не человек?
– Человек.
– А ведь моя Лукерья вас, евреев, любила!
И Ардальон Игнатьевич принимается расписывать достоинства своей покойной супруги. Ангелом была, чистым ангелом. Вот и изобрази на камне серафима или там херувима. Пусть летает, каменный, по кладбищу. Ну, ежели ангела не можешь, Эфраим, то какую-нибудь поникшую березку… Лукерья Пантелеймоновна из-под Вязьмы. А там, Эфраим, знаешь, сколько берез. Там берез больше, чем евреев на Руси, ей-богу.
Старик Эфраим кивает – мол, будет вам, ваше благородье; березка будет; вскрывает письмо и, косясь, как кошка на сметану, начинает читать.
– Читай, читай, – подбадривает его почтарь. – А мы со Шмуле-Сендером покалякаем. – Нестерович тычет кулаком водовозу в бок. – Не поверишь, твой сынок мне нынче приснился. Приехал из Америки и всем в округе часы золотые подарил… Со звоном… Открываешь крышку, а они динь-динь… динь-динь…
Диньканье Ардальона Игнатьевича мешает Эфраиму, он не может сосредоточиться, смысл письма ускользает от него, и он снова и снова спускается по шаткой лесенке строк сверху вниз, и чем ниже блуждает взгляд, тем темней и тягостней становится на душе.
Нестерович продолжает стрекотать про свой сон. Он, видно, придумал его в угоду Шмуле-Сендеру, от тоски. На самом деле Ардальону Игнатьевичу снилось (если снилось) другое, не Америка вовсе, не удачливый Берл, а что-то свое, родное, Катюша или Иван на персидской границе, пригрезились, наверно, родина, Беларусь, река Сож и сосновая роща над ней. Но кого удивишь родиной, рекой, сосновой рощей? Вот американские часы со звоном!., из чистого золота!., динь-динь-динь!..
«Ты за меня, отец, не беспокойся. У нас все есть. На жизнь, слава богу, хватает, – читает Эфраим. – Заработаю на дорогу, и летом с Давидом приедем к тебе в гости… А может, не в гости. Может, навсегда».
Почему летом? Почему не сейчас, думает старик Эфраим. Он вышлет ей деньги, те самые, которые ему посылает Шахна, пусть только не мешкает.
«Давид все время спрашивает о тебе – есть ли у деда мама, папа, умеешь ли ты говорить по-русски… мы дома говорим по-русски… я рассказываю ему про Литву, про Неман, про Мишкине и плачу».
В глазах Эфраима сверкают предательские слезы нахлынувшей нежности. Он плачет вместе с Цертой, ничуть не стесняясь ни почтаря, ни Шмуле-Сендера. А чего их стесняться? Разве они не такие же горемыки-отцы, как он? Что с того, что у одного сын торгует где-то за морем-океаном часами, а другой сторожит от коварных персов границу империи? Стоит ему, Эфраиму, вслух прочитать письмо, и каждый из них начнет оплакивать свою горькую, свою распроклятую судьбу, свою старость, свое знойное, как пустыня, одиночество.
Эфраим читает письмо Церты и словно молодеет от слез. Слезы смывают с него, как дождь с оконного стекла, въевшуюся пыль, тавро морщин, он снова сорокапятилетний, снова качает люльку, а в люльке маленькая безбровая девочка, она морщит лобик и смотрит на него, огромного и чужого. Эфраим чмокает губами и зовет ее, запеленутую, как бабочка в кокон: «Церта! Цертеню!», а потом к колыбели подходит Лея, берет на руки девочку, расстегивает кофту, достает розовую, как спелая груша, грудь с упругим, величиной с изюминку, соском, и от этой изюминки, от этой наготы, от этого слияния трех существ в одно возвышенное ожидание все оживает и светлеет в доме.
«Я уже, кажется, писала тебе, что мы живем то в Киеве, то в Каневе. В Киеве имеют право жить только богатые евреи и еврейки-проститутки. Здесь нас очень не любят. Как ты, наверно, догадался, я говорю не о себе и не о Давиде, а о других евреях. Но где нас любят? Где?»
Старик Эфраим переводит дух. Шутка ли – зараз столько, без запинки.
– «Где нас любят?» – повторяет он вслух, как бы заново разгоняясь.
– Что ты там бормочешь? – для приличия допытывается Шмуле-Сендер. В самом деле – они приехали сюда за письмом Церты, а не за тем, чтобы слушать россказни Ардальона Игнатьевича. Сон, даже самый хороший – а сон Ардальона Игнатьевича про Берла Лазарека, одарившего всю округу золотыми часами, просто замечательный, – не сравнится с коротким, пусть и скучноватым письмом, писанным на простой бумаге. Сон в карман не положишь, в комод не спрячешь, не пронумеруешь, во второй раз не перелистаешь, не прочтешь. А письмо! Лучшие сны для родителей – письма покинувших родное гнездо детей. Не потому ли Шмуле-Сендер хранит все лэттеры белого Берла. Он хранит их в особой шкатулке, пересчитывает, как банкноты, и, когда никто не видит, припадает к ним губами. Жена считает его сумасшедшим (она всегда считала его таким, но Шмуле-Сендер на нее не обижается. У сумасшедшей жены и муж сумасшедший, говорит он). Старик Эфраим, тот все письма рвет, а зимой пускает их на растопку: плохие вести, мол, как керосин.
– Ну, что твоя Церта пишет? – спрашивает Нестерович. – Прочти!
Ардальону Игнатьевичу толмач не нужен. За долгие годы службы он научился говорить по-еврейски лучше многих евреев. Рабби Авиэзер, новый человек в здешних местах, присланный вместо усопшего рабби Ури, чуть в обморок не упал, когда к нему первый раз явился Ардальон Игнатьевич, в сапогах, с шашкой на боку, и на чистейшем еврейском языке уведомил пастыря о кончине государыни-императрицы, потребовав, чтобы почтенный рабби отслужил поминальный молебен-кадиш.
Эфраим делает вид, будто не расслышал просьбу почтаря.
Он снова погружается в чтение, взгляд его что-то выискивает между строчками, как будто там, в пустотах и промежутках, и скрыто самое главное.
С Эфраимом всегда так. Чем больше он читает, тем сердитей пыхтит.
«Пишут ли тебе Шахна и Гирш?.. Как братец Эзра?»
Странно, отмечает про себя Эфраим, раньше она о них не спрашивала. О Шахне и Гирше вообще никогда не писала, понятия не имела, кто они – разбойники, воры, богачи, нищие? Неужто ее и впрямь на родину потянуло? А может, тот фармазон, сманивший ее, дурочку, поиграл с ней и выбросил как игрушку? Ах, Церта, Цертеню!.. Что за мир, что за время! Правду о родных детях, и ту нельзя узнать.
«Знаешь, кого я недавно вспомнила – меламеда Лейзера. Жив ли он? Учит ли еще ребятишек?»
Видно, худо ей, думает Эфраим, если про меламеда вспомнила. Когда из дому удирала, с отцом родным не попрощалась, ушла, как воровка. А сейчас на тебе – меламед Лейзер! Зарыли его, Цертеню, скоро год, как зарыли.
Эфраим продирается через заросли строк, шепчет чужие слова и в ответ складывает свои, неумелые, теплые – их только что наседка-обида снесла.
«Господи, как летят годы! Не успеешь оглянуться, как уже не тебе, а твоим детям пора в хедер. В праздник кущей Давиду исполняется семь лет. Через год-два его можно будет и в ученье отдать…»
Дальше зачеркнуто, слов не разобрать, сплошная зола, была чаща и сгорела дотла. Что же в ней росло?
Давида в учение? К кому? Сердце Эфраима ухает, как филин. Беда, сущая напасть, когда мать – ветрогонка. А во всем он сам виноват. Выгнал бы его в ту ночь, и горя бы не знали. Но Церта: «Впусти! За ним жандармы гонятся!» Почему за Эфраимом никогда в жизни никакие жандармы не гнались? Почему? Потому что жил по совести, по правде. Что это за правда, на которую науськивают собак, в которую стреляют? К тому же дом Эфраима Дудака – не ночлежка, не постоялый двор. «Впусти, отец!» И впустил, дурень, на свою голову.
Эфраим не будет дожидаться лета, он привезет внука, не мешкая, сделает его своим помощником, обучит своему ремеслу, вложит ему в руки кирку, а в сердце вдохнет искру божью, и станет он славным на всю Литву каменотесом. На каменотесов никто не охотится, каменотесов никто не вешает, у каменотесов одна правда – каменная, вечная, как Моисеевы скрижали. Кто-то в семье должен наследовать и его, Эфраима, дело, не завлекать фармазонов, не палить в губернаторов, не смешить на ярмарках честной люд и даже не прислуживать, как Шахна. Тесать! Тесать! Тесать камни! Пока кирка из рук не выпадет!
Ардальон Игнатьевич и Шмуле-Сендер спорят о том, наступит ли конец света при их жизни или после. Нестерович уверяет, что «при», а Шмуле-Сендер не соглашается. Какой может быть конец света, если у Берла так хорошо идут дела?
– Конец! Конец света, – хрипит Эфраим. – Если еврейские дочери бегут с фармазонами из дому, если сыновья отрекаются от своих отцов или откупаются шуршащими американскими или русскими бумажками, если виселица им дороже, чем ласка матери, – конец!
Эфраим недовольно сопит большим, как огурец на грядке, носом.
Ардальон Игнатьевич удивленно переглядывается со Шмуле-Сендером, но тот только втягивает свою уставшую от спора голову в замызганный воротник.
– Поехали домой, – говорит Эфраим.
Домой так домой, хотя Шмуле-Сендеру спешить некуда. Еще не все сны истолкованы, еще не все новости обглоданы, но раз Эфраим просит, так тому и быть. Жаль только, что от Берла ничего нет.
Из Киева письма долго идут, а из Америки еще дольше – пока переплывут океан, пока их на корабле привезут в Россию, в Петербург или Ригу, пока оттуда на перекладных доставят сюда, в Северо-Западный край, к мистеру Шмуле-Сендеру Лазареку (Берл на каждом конверте так и пишет: мистеру Шмуле-Сендеру Лазареку. А что такое «мистер», никто в местечке не знает), полгода пройдет, а может, и больше.
– Поехали, – говорит Шмуле-Сендер, и печаль бледнит его лицо.
– И я с вами, – напрашивается в попутчики почтарь Ардальон Игнатьевич. – До имения Завадского. Газету отвезу.
Час от часу не легче. Но разве откажешь его благородию? Посадят на его место другого, и годами письма не получишь.
Эфраим и Ардальон Игнатьевич забираются в телегу, устраиваются поудобней, и Шмуле-Сендер дергает вожжи, как в юности косы своей жены.
Обычно Эфраим идет на почту или с почты пешком. Идет и все восемь верст беседует с Цертой (она одна ему и пишет). И тогда белый листок – не белый листок, а как бы играющая в прятки Церта, спрятавшаяся за каракулями, и буквы не просто буквы, а ее губы, нос, глаза. Тогда в руке старика Эфраима не письмо шелестит, а волосы Церты – длинные, ласковые, втекающие в его ладонь, как речка.
Старику Эфраиму ничего не стоит превратить листок бумаги в лицо. Он может одушевить и камень, и тележные колеса.
Бывало, уставится на свою пророчицу-козу, на ее всклокоченную шерсть, и по шерсти, как по испятнанному чернилами листу бумаги, читает слова Церты или Шахны, Гирша или Эзры.
Коза-письмо всегда рядом. За ним никуда не надо ехать.
Почта Эфраима в отличие от почты Ардальона Игнатьевича, Шмуле-Сендера и других жителей местечка связывала его не только с миром здешним, но и миром потусторонним, и эта двойная связь не обременяла Эфраима, не тяготила, не выделяла среди прочих, а придавала его затухавшей жизни еще какой-то дополнительный и необыденный, может, самый важный смысл.
В местечке поговаривали, будто он умеет вызывать духов, будто почти ежедневно общается со своими покойными женами, особенно с любимицей Леей, рассказывает ей об Эзре и Церте или, присев на край какого-нибудь надгробия, чертит ореховой веткой на земле последние местечковые новости.