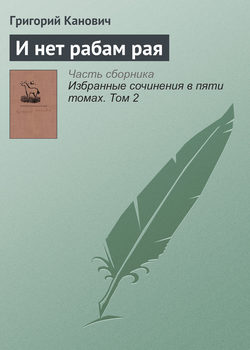Читать книгу И нет рабам рая - Григорий Канович - Страница 2
Оглавление«Страж! Сколько ночи? Страж, сколько ночи?»
Страж сказал: «Утро настало, и все-таки ночь».
Исайя
I
Ему снилось, будто он женщина и не просто женщина, а старуха, и не просто старуха, а дряхлая еврейка в нелепом, топорщившемся ежовыми иголками и покрывавшем ее крохотную птичью голову, парике, в длинном, застиранном до дыр, ситцевом платье, в тупоносых, не знающих износа ботинках с тонкими, как ее морщины, шнурками и лишаями сдобной рыночной грязи.
Далекая и чужая, стояла она не в рыбном ряду на местечковом рынке, рядом со своей товаркой, конопатой Хаей-Леей, а в просторном, по-церковному необжитом зале губернского суда на углу Георгиевского проспекта и Жандармского переулка, по правую руку от Алексея Николаевича Турова, товарища прокурора, и, безбожно картавя, шмыгая носом – высохшей берестяной жалейкой – произносила жаркие и бессвязные слова.
Мирон Александрович несколько раз пытался проснуться, перейти от одного сновидения к другому, юркнуть, как в детстве, из темного, промозглого двора, где он родился и вырос, в светлый, где из булочной всегда пахло корицей, но темный двор, казалось, тянулся бесконечно, и всякий раз – стоило только смежить воспаленные, набрякшие от усталости веки – в нем вырастала она, эта старуха, изъяснявшаяся с Туровым на какой-то чудовищной смеси ломаного русского, почти забытого Мироном Александровичем еврейского и витиеватой, совершенно не вязавшейся с торговлей рыбой, латыни.
Товарищ прокурора Алексей Николаевич Туров, плотный, приземистый, с поповской бородкой – жестким пучком засушенных, как бы для гербария, волос, в кителе, застегнутом на все пуговицы, смотрел на старуху, застыв на своем карающем месте и моргая густыми ресницами, как водомерки, трепетавшими над водянистыми, всегда надменными глазами.
Ускользающая неверная нить сна соединяла Мирона Александровича то с угрюмым, немногословным Туровым, то со старухой, упрямо не уходившей из зала и размахивавшей своими костлявыми неистовыми руками в мелкой гречке родинок и рыбьей чешуе. Порой нить сна обрывалась, и теплая волна облегчения, какой-то ниспосланной свыше искупленности захлестывала Мирона Александровича, но, увы, не надолго. Старуха в парике возникала с прежней неотвратимостью, и тогда он вздрагивал на пуховой перине, как бы уличенный в постыдном, до отвращения, страхе. Больше всего его замороченный ночной небывальщиной мозг смущало и угнетало то, что в зале суда он, Мирон Александрович, никого, кроме Турова и старухи, не видел: ни председателя Бориса Евгеньевича Чистохвалова, ни присяжных заседателей, ни публики, а главное – не видел самого себя. Его там не было, все происходило без него, помимо его воли, но так мучительно наглядно, так горестно неотменимо, что Мирон Александрович громко и беспомощно стонал, но стоны только вспарывали тишину квартиры, ударяясь в высокий лепной потолок.
Сон, подчинивший его волю, затягивал, как затягивает река пустую бутылку; плывет, качается на стрежне, и вдруг, наполнившись по горлышко, летит на дно, а там, на дне, вокруг нее вдруг начинают сновать безгласные рыбы и тыкаться в стекло своими плоскими слизистыми пастями.
Такой вот слизью обволакивало и его, невидимого, стеклянного, наполненного мутной жижей безотчетного страха.
– Вы кто? – спросил приснившийся Туров у приснившейся Мирону Александровичу старухи и поморщился, как от зубной боли (Мирон Александрович ясно слышал его низкий, с чахоточной хрипотцой голос, но лица Алексея Николаевича не было видно).
– А вы что, не знаете? – с простодушной наглостью ответила вопросом на вопрос еврейка и всплеснула костлявыми руками, так и повисшими в воздухе.
Мирон Александрович сквозь сон чувствовал, как нарастает, пузырится раздражение Турова, но пресечь разговор не решался. Товарищ прокурора не любил, когда его без нужды перебивали во время судоговорения, одергивал всех с грубоватой прямотой и постукивал костяшками коротких, безжалостных, как пульки, пальцев по дубовому судейскому столу.
– Я – Злата, мать, – охотно пояснила старуха. Руки ее по-прежнему висели в воздухе, образуя не то коромысло, не то сломанный меч.
– Чья мать? – не изменяя себе, бесстрастно полюбопытствовал Туров.
– Мейлаха… Ходатая, – борясь со сползающим на висок париком, пробормотала та.
– Мироналександрыча? – удивился товарищ прокурора, как всегда выговаривая имя и отчество присяжного поверенного слитно. Он разевал рот, как рыба, и из его бездонной полости на Мирона Александровича веяло брезгливостью и Сибирью.
– Для кого, может, он и Мирон Александрович, а для матери был и навеки останется Мейлахом. Так звали моего покойного отца, его деда… Мейлах – по-еврейски король.
Болтливость старухи коробила Турова. Какое ему дело до того, как звали ее отца! Но еврейка не унималась, безостановочно треща и выплевывая слова, как вишневые косточки.
– Господин товарищ прокурора! – закричал из сна Мирон Александрович, но Туров, похоже, не услышал. Он продолжал исподлобья смотреть на старуху, ожидая от нее новых признаний и плотоядно предвкушая сладость раскрытия какой-то неслыханно важной тайны.
– Позвольте, позвольте, – помрачнел Туров. – Мироналександрыч что – еврей?
– Все мы евреи, – сказала старуха и, умаявшись от борьбы с непослушным париком, сняла его и положила на дубовый судейский стол.
– Кто – все? – обомлел товарищ прокурора.
– Все Вайнштейны, Гольдштейны, Каганы, Коганы, Мандели, Спиваки.
– Позвольте, позвольте. Но причем тут Мироналександрыч? Он же – Дорский! – с напускной яростью заступился за присяжного поверенного Туров.
– Для кого, может, Дорский, а для матери был и навеки останется Вайнштейном… Ни с каким Дорским, чтоб мне с этого места не сойти, я не лежала…
Туров покосился на старуху, на парик, черневший на незапятнанном судейском столе, ужас, смешанный с жалостью и любопытством, круглым и красным тавром заклеймил его крутой неуступчивый лоб и чуткие уши с белыми, продолговатыми, как вареники, мочками.
– Не слушайте ее! Гоните взашей! – взмолился Мирон Александрович. – Господин товарищ прокурора!.. Милостивый государь Алексей Николаевич!.. Я не имею чести знать!..
– Ну что ты, байстрюк, зря глотку дерешь? – укорила его старуха и повернула к Турову остриженную наголо (этого требовал обычай) седую голову – колючую осеннюю стерню. – Он с самого рождения такой… голосистый… Когда мэел, прошу прощения, совершал над ним обряд обрезания, он орал так, что у ангелов закладывало уши.
– Милостивый государь Алексей Николаевич! – прохрипел истерзанный страхом Мирон Александрович. – Позвольте я выведу… Я мигом… Развела базар!..
– А что? Разве я не на базаре?
– Что? – возмутился и бесстрастный Туров. – Суд – базар?
– Всё – базар. И базар – базар, и суд – базар… Я торгую карпами, а вы законом… Скажите, пожалуйста, почем у нас ныне фунт справедливости?
– Вон! – не выдержал Туров.
– Вон! – подхватил его праведный гнев Мирон Александрович.
К великому его удивлению и радости, старуха не огрызнулась, а медленно, уперев руки в боки, направилась мимо казенных, отшлифованных задами скамей к выходу.
– А парик? – неожиданно воскликнул Туров, и Мирон Александрович весь сморщился, съежился, боясь, что старуха вернется и больше никогда не уйдет ни из его сна, ни из зала, ни из его жизни. Он немо, исковерканным гримасами лицом, искательным, почти молящим взглядом принялся подавать товарищу прокурора знаки: мол, ради бога, Алексей Николаевич, не задерживайте ее, пусть убирается подобру-поздорову к своим рыбам, к своим тараканам, на свой базар, где каждый, начиная от урядника Нестеровича и кончая меламедом Лейзером (если он жив!), знает ее, а парик я выкину, сожгу. Но Туров был неумолим. Парик, осквернявший судейский стол, вызывал в нем неприкрытое чувство гадливости. Товарищ прокурора почти не сомневался, что в нем, в том парике, копошатся мерзопакостные насекомые, которым только дай волю, и они расплодятся, и поползут, поползут со стола к нему, от него к Борису Евгеньевичу, председателю окружного суда, от председатели окружного суда к генерал-губернатору, а от генерал-губернатора во дворец к самому монарху!
– Парик! – воскликнул он, не обращая внимания на гримасы и взгляды Мирона Александровича. Не хватает еще, чтобы Борис Евгеньевич обнаружил на своем мундире или на настольном сукне, или в деле откормленную в перхоти вошь!
– Парик! Парик! – возопил Мирон Александрович и живо представил себе, как председатель суда Борис Евгеньевич Чистохвалов, седой, благообразный, в позолоченном пенсне, пожалованный за верную службу престолу и отечеству Владимиром третьей степени, пялится на сукно, по которому ползет осиротевшая местечковая вошь. С Борисом Евгеньевичем шутки плохи. Борис Евгеньевич вхож к самому генерал-губернатору. Одно его слово, и он, Мирон Александрович, никто, нуль, дождевой чернь, не присяжный поверенный Дорский, а снова Мейлах Вайнштейн. И всему виной будет одна белесая, одна коварная вошь из парика его матери! Господи, Господи!..
С именем Всевышнего на устах он и проснулся.
Мирон Александрович лежал в холодном поту, сбросив пуховое одеяло, оголив тощие, заросшие щенячьим пушком, ноги и противная испарина покрывала его лоб и виски, теплой струйкой стекала вниз, орошая пышные, с завитками, бакенбарды. Он тяжело дышал – ощущение было такое, будто разложили у него внутри костер, плеснули воды, и пар от тлеющего хвороста повалил из грудной клетки, из ноздрей, из каждой поры.
Разбитый и подавленный, Мирон Александрович боялся даже пошевелиться.
Лепной потолок нависал над ним, как расписная крышка гроба, а светильник казался причудливым надмогильным цветком с фарфоровыми лепестками. Сколько он заплатил за него? Кажется, десять марок. Он купил его в Веймаре, во время своего первого заграничного вояжа у немца с толстой вонючей трубкой в зубах и в диковинных, почти до колен, ботинках.
– Гнедиге фрау!.. Гнедиге фрау! – источал моло́ки вежливости немец и вьюном вертелся вокруг Кристины.
При мысли о Кристине Мирону Александровичу сделалось еще тяжелей, и остывший было пот снова залил его измученное осунувшееся лицо. При жизни Кристины никогда такое не снилось. Никогда. Когда она была жива, ночи пролетали, как вспугнутые ветром облака, оставляя только почти неуловимый шелест волос и кожи в темноте. Тогда Мирону Александровичу вообще ничего не снилось – ни мать, ни суд, ни русские, ни евреи, потому что ночь была не временем суток, а состоянием, пламенем, расплавлявшим все, кроме самого пламени.
Мирон Александрович обвел взглядом пустую спальню, высокую кровать из мореного дуба, нетронутую подушку рядом со своей, с вензелями К. Д. на наволочке, и полынная горечь снова подступила к горлу, хоть в голос вой.
Утренние сумерки, мягкие, как бы разбавленные молоком, всегда успокаивающие и умиротворяющие, растравляли сейчас душу и сеялись лениво и уныло на постель, на ворсистый персидский ковер, где, как два щенка, дожидались хозяина меховые шлепанцы.
Мирону Александровичу вдруг смертельно захотелось закурить – вот так, лежа, не поднимаясь с перины, сунуть в рот папиросу или вонючую трубку и дымить, дымить, пока не удастся выкурить остатки сна, всколыхнувшего не то страх, не то стыд, не то сожаление. А может, все вместе, ведь человек никогда не испытывает одного чувства, даже когда счастлив.
Светало. Мирон Александрович покосился на соседнюю нетронутую подушку, но, кроме белизны, ничего не увидел. Странно, поймал он себя на мысли, совсем недавно он находил еще ее волосы. Неужели за два года, минувшие после смерти Кристины, от нее даже волоска не осталось? Ни разу Мирон Александрович не дозволял уносить прачке ни одной ее вещи: ни полотенца, ни платья, ни наволочки… Смешно и глупо!.. Время – лучшая прачка. Оно все отстирывает. Все. И кровь, и память, и запахи. И нечего себя утешать и обманывать. Что значит один найденный волосок по сравнению с целой копной, пахнущей яблоками и грехом… О, как сладостно пахнут они вперемешку!
Мирон Александрович по-прежнему лежал раскрытый, не в состоянии одолеть апатию, остывший, как покойник. Пытаясь как-то отвлечься от привидевшегося кошмара, Дорский заставлял себя думать о чем угодно – о кофейных сумерках, разбавленных молоком, о меховых шлепанцах, о покойной Кристине, о веймарском торговце. Но как ни старался, мысли его воровато, как мальчишки в чужой сад, забирались в рыбный ряд на местечковом рынке, где столько лет – сколько, он и сам не знает! – торговала свежей речной рыбой высокая сухопарая женщина со звонким, как монета, именем – Злата. Злата, Злата, Злата!
Мирон Александрович перекатывал во рту ее имя, как когда-то, в незапамятные времена свои камешки знаменитый Демосфен, чей бронзовый бюст стоял у него в кабинете на письменном столе и вызывал зависть у его друзей, особенно у доктора Самуила Яковлевича Гаркави, с которым Мирон Александрович учился в державном и ошеломительном Петербурге.
– Злата, – произнес Дорский вслух и осекся.
Он напряг память, постарался вспомнить мать, но кресало высекло мимолетную искру, высветившую на миг местечковый базар, тяжелые крестьянские возы, выстланные сеном, визжащих в холщовых мешках поросят, мудрые и вневременные конские морды, коровьи лепешки, выразительные и безоговорочные, как сургучная печать, а вот лица матери память не вернула, только приблизила и укрупнила облезлый парик, тупоносые ботинки и застиранное до дыр ситцевое платье в подол которого он тыкался своей кучерявой, напичканной всякими проказами головой.
– Байстрюк! – бывало, ласково отчитывала его мать. – Опять сбежал из хедера на реку!
– А там не учат.
– А чему учит река?
– Там бьют.
– Вас не бей, кем вы, негодники, станете? Еврея, Мейлахке, должны бить…
– Зачем?
– Чтобы не забывал, что еврей. – Она звонко рассмеялась и добавила: – Сейчас я тебе загадку загадаю. Слушай! Кому лучше – гусю или лошади?
– Гусю. Гуся погоняют хворостиной, а лошадь кнутом.
– Ишь, какой мудрец!.. Не угадал!.. Лучше, Мейлахке, лошади. Потому что, в отличие от гуся, она никогда в суп не попадет и еще хозяина похоронит. – И мать снова задорно рассмеялась.
Мирон Александрович давно, ох, как давно не вспоминал о ней, и, если бы не этот нелепый сон, он вряд ли бы выудил ее из затянутого ряской прошлого. Как ни странно было ему в этом признаться, но он даже не знал, когда она умерла и где похоронена. Неведение мучило его, он чувствовал себя виноватым перед ней и дядей Нафтали Спиваком – без его помощи не видать бы Мирону Александровичу, как своих ушей, ни гимназии, ни университета – посылал в местечко письма, порывался поехать туда на каникулы; но что-то его неизменно и властно удерживало: то ли страх лишиться вида на жительство (уедешь, а потом тебя обратно в столицу не впустят), то ли укоренившаяся отчужденность (пожалуешь на родину, а там не с кем и словом перемолвиться, все погрязли в мелких хлопотах и заботах, в жалобах на чиновников-хапуг), то ли ранняя женитьба на Кристине, дочери известного виленского адвоката Станислава Дорского (не брать же ее с собой в глухомань, в самую гущу черты оседлости, не водить же ее напоказ по единственной улице, чтобы какая-нибудь зубастая Хая-Лея или сварливая Шейне-Рохл кривили в усмешке рот и шептали тысячелетние проклятия).
Из года в год откладывал Мирон Александрович свою поездку, отыскивая все более убедительные, роковые причины, пока родина не отдалилась от него настолько, что стала только щемящим и бесплотным звуком наподобие визга пилы на дровокольне, стрекота швейной машинки или заунывного, гнусавого голоса старьевщика Мотла:
– Беру кости, перья, покупаю тряпки, ветошь.
Мирон Александрович, бывало, ругательски ругал себя, что отчетливо помнит какую-нибудь мелочь – пейсы своего первого учителя меламеда Лейзера или фуру того же старьевщика Мотла, а мать с каждым годом теряла свои отличительные черты, превращаясь в некий отвлеченный символ, пахнущий рыбой, одетый в дешевое ситцевое платье и говорящий с ним на застывшем, не меняющемся языке, состоящим из затертых слов, набивших оскомину наставлений и сетований на свою горькую вдовью долю.
Порой, уже будучи присяжным поверенным и живя в Вильно, Мирон Александрович застывал как вкопанный, встретив на улице сухопарую еврейку в бескрайнем, как небо, платке, поразительно похожую на ту, которая вскормила его своей любвеобильной, долго еще не иссякавшей грудью. В такие минуты Дорский испытывал ни с чем не сравнимое волнение, тело наливалось свинцом, глаза застилали слезы, искренние, невольные, поминальные.
Мирон Александрович, конечно, понимал, что сходство это чисто случайное, внешнее, ни к чему не обязывающее, но после такой встречи замыкался в себе, становился мрачным и угрюмым, просиживал часами без дела в кабинете и глядел на обитую цветными обоями стену, разрисованную всякими там мотыльками, зверюшками, рыбами, и чудилось ему, будто это не нарисованные рыбы, а живые лещи и лини его матери, Златы Вайнштейн, приплывшие к нему сюда, на Завальную улицу, оттуда, с местечкового базара, из ржавого ведра, глубокого и бездонного, как море, из мира его детства, взъерошенного и озябшего, как воробышек. Наверно, он остался бы там навсегда, если бы мать не слегла и ее не увезли бы в больницу не то в Ковно, не то в Шавли, а может, в Поневеж.
– Слушайся дядю Нафтали, – наказала она обожженными лихорадкой губами. – Я скоро вернусь… Там, в чулане, рыба. Сходи на базар и продай!.. Будут у тебя свои деньги… У человека всегда должны быть свои деньги…
Сколько ему тогда было? Шесть или семь?
Когда мать увезли, он шмыгнул в чулан, нашел рыбу – Злата покупала ее в окрестных деревнях у рыбаков-литовцев – понес через все местечко на базар, устроился рядом с конопатой удачливой Хаей-Леей, у которой были две плетенки с бархатными, как ермолка рабби Ури, линями, и принялся вслед за ней упоенно выкрикивать:
– Свежая рыба!.. Свежая рыба!
У Хаи-Леи рыбу покупали, а у него – нет. Он стоял в рыбном ряду, покусывая от злости губы, и обида на весь мир булькала у него в груди, урчала у него в желудке.
– А у меня почему не покупают? – спросил он конопатую Хаю-Лею.
– Маленький ты еще, – ответила торговка. – Потерпи. Купят и у тебя. – И, помолчав, добавила: – Придет время, и тебя самого купят…
Мирон Александрович поднялся с постели, сунул ноги в меховые шлепанцы, накинул на плечи махровый халат и пьяными шагами, надсадно кашляя, направился в ванную. Но мыться не стал. Подошел к зеркалу и принялся изучать свое помятое, как бы навощенное воском, лицо. Он разглядывал себя как чужого, с какой-то чрезмерной придирчивостью, почти брезгливостью, морщил пустой стрючок носа, ожесточенно двигал челюстью, цыкал губами, собрал в пучок горсть волос на макушке, перекинул его слева направо, легким постукиванием пальцев помассировал лоб и виски. Господи, да мне самому уже, пожалуй, нужен парик, подумал он, и его снова окатило жарким, до испарины, ознобом.
Вот это был бы номер! Присяжный поверенный Мирон Александрович Дорский, златоуст, судебный вития, является на заседание суда в кудрях! Двадцать с лишним лет выступал лысым и вдруг – кудри!
Мирон Александрович снова посмотрелся в зеркало и попытался представить себя без лысины, не только с густыми бакенбардами, остатками прежней роскоши, а с пышными, как в молодости, иссиня-черными волосами. Нет, нет! Черные волосы, конечно, благо, но они только подчеркнут его происхождение. Хватит с него на всю жизнь носа с горбинкой и легкой картавости, унаследованной от матери! Его и так за глаза, в кулуарах, величают французом. «Смотрите, наш француз идет!», «А наш-то француз каков! Как подкузьмил Бориса Евгеньича!» Мирон Александрович знает про это прозвище. Знает и сносит. Хоть горшком называй, только в печь не сажай. А печь империи жаркая, огонь в ней лютый, сунут туда, и ты – головешка! А ему, Мирону Александровичу, еще грех жаловаться. Подтрунивают, но ценят, уважают. Конечно, будь он, при его способностях и хватке, не выкрестом, не православным из иудеев, он бы всем утер нос и, может статься, мог рассчитывать на должность в министерстве, в стольном граде Питере – по меньшей мере в качестве товарища министра. Ведь с самим министром Мирон Александрович протирал штаны в университете, даже дружил с ним. Да что дружил – снимал на Мойке общий угол, койки рядом стояли, его, Дорского, у окна, а будущего министра – напротив, под картиной, изображавшей страдания Христа. Его сопостельник, как Мирон Александрович шутил, и уговорил батюшку, чтобы тот благословил молодую пару.
Помнит ли он, приближенное к монарху лицо, как они на Васильевском острове пили на брудершафт шампанское?
– С сегодняшнего дня ты, Мирон, наш, православный! – воскликнул его однокурсник, скрещивая свои руки с его руками.
Дорский побрился – он всегда брился сам, парикмахеров не терпел, обращался к ним в крайнем случае – смыл остатки пены, вытерся, покосился на Кристинино полотенце, по-прежнему висевшее на вешалке, как и при ее жизни, и еще раз невесело подивился загадочной магии сна – сколько же всколыхнул он, сколько взбаламутил и поднял со дна, оттуда, куда он, Мирон Александрович, давно, даже в мыслях, не опускался. Опустишься и не выплывешь, останешься среди жалких обломков, увязнешь в донном иле, превратишься из живого человека в никому не нужную мумию. Разве его жизнь до того, как вырвался он из местечка, не была таким липким, сковывающим все существо, илом? Разве не была дном? Дно, беспросветное дно! Загон. Тут родился – тут и подыхай, и ни шагу вперед или в сторону, как твои деды и прадеды, как твои бабки и прабабки. И все потому, что были не того поля ягоды, не той веры. А ведь у разумного человека и вера должна быть разумная. Не вера тех, кто на дне, а вера тех, кто наверху. Останься он там, в местечке, кем бы сейчас был? Портным или старьевщиком, или – если бы счастье подвалило – лавочником, запирающим на десять замков свое мнимое добро: скобы, бороны, упряжь, деготь, бочки с селедкой, дешевый ситец, какой носили все бедные еврейские матери.
Когда-то, правда, он мечтал стать старьевщиком – они казались ему богатеями. Как же, разъезжают по градам и весям и скупают всё поношенное, заплесневелое, отжившее. Тогда, в те далекие, почти немыслимые времена, и он хотел скупить всю нужду, все пейсы и бороды, все хвори и беды и вывезти их на своей фуре из местечка. Но скоро, очень скоро убедился, что если на свете есть такая фура и лошадь, то покупателя нет. Нет и никогда не будет. Кому их сбудешь?
Напольные часы с большим позолоченным циферблатом, римские цифры которого медно светились в сумерках, показывали восемь, и Мирону Александровичу надо было торопиться: в девять, ровно в девять он должен быть в Лукишкской тюрьме, а на одиннадцать назначено слушание дела о подделке завещания купца первой гильдии Юлиана Семенова. Дорский не любил опаздывать, приходил в тюрьму или суд на полчаса раньше, мало ли что случится: то слушание начнут без четверти одиннадцать, то без пятнадцати девять срочно поведут подзащитного на дознание, то часы за ночь возьмут и уйдут вперед.
Пунктуальность Мирона Александровича стала в городе притчей во языцех. Над ним даже слегка посмеивались и домочадцы, и судейские. Но он упорно придерживался своих, еще в студенческие годы установленных правил. Выкрест на Руси, считал Мирон Александрович, все должен делать лучше других – и шить, и паять, и лудить, и торговать, и защищать, и служить отечеству, если он хочет чего-то в жизни добиться.
Была у Дорского еще привычка в любую погоду – льет ли как из ведра, лютует ли стужа, палит ли солнце – всегда ходить пешком, быстрым молодецким шагом, не брать извозчика, не потому, что жалел полтинник, а потому, что не выносил тряски и запаха конского пота.
Теперь, после смерти Кристины, Мирону Александровичу приходилось недосыпать, вставать раньше, чтобы успеть где-нибудь наспех и без аппетита поесть. Обычно он столовался у пана Млынарчика, съедал в его полуресторации-полукофейне яичницу с ветчиной, выпивал чашечку кофе по-турецки – пан Млынарчик когда-то был солдатом, участвовал в русско-турецкой кампании и привез из Болгарии не только шрам, свидетельствовавший о его несомненной воинской доблести, но и умение готовить крепкий восточный напиток, столь же наглядно свидетельствующий о его безусловной торговой жилке.
Прихлебывая кофе, Мирон Александрович успевал бегло прочесть утренние газеты, полные всякой чепухи и в последние полгода кишмя кишевшие описаниями беспорядков и погромов на юге Украины, и с приятным ощущением сытости и полной своей безопасности направлялся в суд на угол Георгиевского проспекта и Жандармского переулка или в Лукишкскую тюрьму к своим подзащитным.
Дел у него было много – криминальных и цивильных, легких, суливших бесспорный выигрыш, и безнадежных, где все заранее предопределено – можно даже и не заседать. Такие дела Мирон Александрович в узком кругу называл сибирскими, обожал рассказывать доктору Самуилу Яковлевичу Гаркави или кому-нибудь другому из числа своих друзей головоломные, чудовищные сюжеты, смаковал подробности членовредительства, насилия или убийства.
Первое время, сразу же после окончания Петербургского университета и получения звания присяжного поверенного, Дорский охотно брал к защите все без разбору – будь то мелкая кража или избиение мещанином Бородовским своей сожительницы мещанки Спириной. Но по мере того, как набирал силу, стал предпочитать дела с большим, как он говаривал, скандальным резонансом, о коих в присутственных местах, изнывая от скуки, судачат благопристойные чиновники, благородные дамы, завсегдатаи конных бегов, щелкоперы, чувствительные гимназистки, мечтающие о сильных страстях и переустройстве мира, как его недотепа сын Андрей, оставивший отцовский дом и подавшийся в пролетарии.
Решительно и непререкаемо отказывался Мирон Александрович от дел политических. Увольте! Будьте добры, поищите другого адвоката! На чем на чем, но на политике в империи далеко не уедешь. Куда как благородно, конечно, защищать какую-нибудь Веру Засулич провинциального пошиба, печального еврейского отрока с выпирающими, как недоразвитые крылья, лопатками или бледную волоокую девицу, купившую на родительские деньги бомбу и подложившую ее в клумбу, в саду генерал-губернатора, страстного любителя гвоздик и гладиолусов. Покорно благодарю за честь! Он, Мирон Александрович Дорский, – человек трезвый: такое благородство подозрительно и в конце концов выходит боком. Спору нет, приятно заслужить у публики репутацию заступника угнетенных, снискать славу бесстрашного судебного бойца. Но ведь могут напомнить! Еще как могут. Напомнить и взыскать. Кого это вы, многоуважаемый Мирон Александрович, берете под свое крылышко? Вероотступников, врагов престола, подрывателей устоев? А может, вы, Мейлах Вайнштейн, сами такой? Может, и ты, морда, ночами не спишь и только и делаешь, что вынашиваешь какую-нибудь подлость, злодеяние против империи, против страны, давшей тебе все: и звание присяжного поверенного, и жену-христианку, и дом в самом центре Вильно, на Завальной, и… Могут взыскать, могут. И будут правы.
К нему уже не раз подкапывались и в начале его карьеры, и позже, когда о нем заговорили в газетах, и совсем недавно, когда Туров, почесывая свою поповскую бородку, в упор спросил:
– Мироналександрыч! Почему бы вам, батенька, не взять дело Лехема?
– Лехема? – неискренне удивился Дорский.
– Присяжный поверенный Тихвинский, по-моему, недолюбливает евреев, даже когда они правы, что уж говорить, когда виноваты…
– А я, милостивый государь Алексей Николаевич, никому исключения не делаю…
– Тихвинский уверяет, что все евреи – братья, – сказал Туров с сардонической улыбкой. – Братья и бунтовщики… Простите великодушно, – добавил он после паузы, ласково поглаживая свой вереск. – Я, было, подумал, что вам тут и карты в руки.
Нет, нет! Мирона Александровича не проведешь. Ему что Лехем, что Иванов – все одно. Политических он защищать не станет, хоть озолоти его, хоть произведи его в статские советники. У него другой круг виновных (или невиновных). И несть им числа. А политические? Политические – не товар. Лихоимцев – уйма, насильников – уйма, мошенников – уйма, а политических – единицы, раз-два и обчелся. Для них хватило бы одного суда, одного прокурора, одного присяжного поверенного. Тут он, Мирон Александрович, не нужен. Империя вполне справится с ними и без него…
Дорский вышел на балкон. День выдался пригожий. Небо было чистым и целомудренно-голубым. Головная боль, мучившая Мирона Александровича после кошмарной ночи и грозившая снова уложить его в постель, притихла, но Дорский решил на всякий случай все же принять лекарство – благо доктор Гаркави выписал целую кучу порошков, пилюль, приторно-сладких микстур, которые Мирон Александрович аккуратно и суеверно принимал три раза в день в самых разных сочетаниях.
Он вернулся с балкона в спальню, полез в ящик ночного столика, извлек оттуда пилюлю, но та застряла в горле, и Мирон Александрович никак не мог протолкнуть ее внутрь. Голодная тошнота выталкивала ее наружу, и Дорский, помучавшись, побагровев, выплюнул ее на ковер.
Только он нагнулся, чтобы поднять таблетку, как кто-то дернул дверной колокольчик.
Домоправительница Дорского пани Катажина уехала на неделю в Гродно на поминки, и Мирон Александрович был вынужден сам открывать двери. Он выпрямился, прислушался: по силе и частоте звонка Дорский мог безошибочно определить, кто пришел.
Доктор Самуил Яковлевич Гаркави звонил так, как говорил: резко, отрывисто, бесцеремонно. Пани Катажина, забыв по рассеянности ключ, клевала звонком тишину, как воробей на булыжной мостовой ниспосланную Богом кроху: боязливо, с оглядкой, негромко. Сын Андрей – у Мирона Александровича язык не поворачивается называть его сыном! – дергал колокольчик так, словно намеревался оборвать его, и трезвонил изо всех сил, без перерыва, пока ему не открывали.
Но этот звонок не был похож на другие.
Мирон Александрович почему-то растер ногой пилюлю и, теряясь в догадках, засеменил в меховых шлепанцах и махровом халате к двери. Не иначе какой-нибудь попавший в переплет субъект, подумал Дорский. Приспичило им! Смешные люди! Думают, что только позвонят и им откроет сама справедливость!.. А справедливости нет по обе стороны двери. Так-с, господа!
Дорский щелкнул засовом, и в прихожую вошел огромный – косая сажень в плечах – еврей с тяжелыми, длинными ручищами, не умещавшимися в рукавах пальто, в чистых сапогах, – видно, он долго сдирал с них на лестнице наросты грязи – без шапки, шапка была засунута за пазуху, со спокойным, несколько холодноватым взглядом.
Судя по всему, приехал он издалека. Может, даже из сновидения Мирона Александровича.
Приезжий поздоровался кивком головы и, не решаясь пройти внутрь, сказал:
– Я от ваших земляков.
– От моих земляков?
– Я не ошибся: Завальная, семнадцать?
– Да.
– Мейлах Вайнштейн?
– Мирон Александрович Дорский, – сухо, почти враждебно произнес хозяин.
– Беда у нас, – коротко объяснил приезжий, почему-то засовывая еще глубже за пазуху шапку.
– У кого беда?
– Пять человек под стражей… Среди них и дядя ваш… Нафтали Спивак.
– А что – разве Нафтали Спивак жив? Давно их взяли? – невпопад спросил Мирон Александрович, совершенно не расположенный к долгой беседе.
– Перед самой Пасхой… Второй месяц пошел… Беда, и только…
– У меня, к сожалению, ни одной лишней минутки… Я очень спешу… И потом…
Мирон Александрович не знал, что делать. Оставаться он не мог, а выгнать человека – тем паче. В девять, ровно в девять у него свидание со Стрельниковым. Дело-то непростое, женоубийство… Господи, надо же было ему задержаться из-за таблетки!..
– Хорошо, с вашего позволения… я приду позже… – сказал приезжий, повернулся и с бугрившейся под пальто шапкой вышел за дверь.
Мирон Александрович даже возразить не успел. Сон в руку, подумал он, запахивая халат и оглядываясь.
II
Редко бывает, чтобы католическая и еврейская Пасхи праздновались одновременно. Но на сей раз они совпали – видно, Всевышнему было угодно даровать веселье и умиротворение всем, без различия племени.
Корчмарь Ешуа, предусмотрительно запасавшийся товарами, особенно водкой, до праздников отправился на винокуренный завод не в Вилкавишки, как обычно, а в Россиены. Пусть с него в Россиенах лишний грош сдерут, но не хотелось Ешуа далеко ехать, надолго отлучаться из дому по причине куда более важной, чем скупость и прижимистость.
За спиртным он мог и не ездить: водки в погребе было вдосталь, чуть ли не целая бочка, да и пили в дни предпраздничного поста по капле – забежит какой-нибудь ушлый мужик, попросит бутылочку или завернет с лесосеки умаявшийся лесоруб, опрокинет стакан, крякнет, проведет корявой ладонью по корявым губам, поблагодарствует, и жди неделю, пока другой забредет.
Водка была только предлогом для поездки.
На самом же деле собраться в дорогу Ешуа заставило другое, небывалое событие, просквозившее душу негаданной радостью и возвышенным нетерпением.
Морта ждала ребенка.
Рожать она должна была вскоре после Пасхи, а может, даже на Пасху – Ешуа это считал не только добрым знаком, но неслыханной милостью, явленной ей Господом, всемогущим покровителем евреев, за то, что она, Морта, приняла и любовь Ешуа, и его веру, наперекор всему: наветам и оговорам (дескать, зарится на стариковское добро), проклятьям и поношениям, наперекор всему своему прошлому и, может быть, будущему. Слыханное ли дело, чтобы христианка по доброй воле перешла в еврейство! Когда еврей бежит от своего рода-племени, перекрашивает в иной цвет и бороду, и душу – это ладно, это в порядке вещей. Никто, кроме его сородичей, дурного слова не скажет. Пожалуйста – крестись хоть завтра. Сам исправник Нуйкин похлопает такого по плечу и имя поможет выбрать, как по святцам. Желаешь, Пейсах, Павлом быть – будь Павлом, хочешь, Шая, Александром называться, так и запишем: Александр.
Но чтобы христианка пожелала стать дщерью Израиля!.. А ведь это не то же самое, что один чепец на другой сменить – снял с головы старый, надел новый, и гуляй себе в нем по свету! Нет! Это все равно что вылезти из одной кожи – без ссадин и нарывов и влезть в другую – с волдырями от ожогов, с рубцами от порки, а главное – с клеймом, как на скотине, даже кровью его не смоешь.
Что ни говори, рассуждал про себя Ешуа, глядя на верную гнедую, трусившую по размокшей от щедрых весенних дождей дороге, не каждый отважится на такое, как Морта. И дело тут не в любви – за что его, Ешуа, любить? За надвигающуюся, как туча, старость? За кусок хлеба? Да Морта добудет его не только в корчме, пойдет в услужение к ксендзу Аницетасу Барткусу и будет сыта. Может, отчаянье толкнуло ее на такую жертву? Связаться со стариком – уже жертва, а со стариком-евреем – и подавно. Может, злые языки правду говорят, и Морта просто рассчитывает на куш, на его, Ешуа, богатство. Да какое это, к черту, богатство? Серебряные подсвечники на комоде, бочка водки в погребе, осевшая в землю корчма и повредившийся в рассудке Семен, целыми днями пропадающий на развилке?
Как Ешуа ни тщился понять поступок Морты, он – с какой стороны ни подходи – казался ему непостижимым, и от этой непостижимости, от этого обрушившегося на него счастья он и сам погружался в какое-то тихое, просветленное безумие.
Видит Бог, Ешуа не преследовал никакой выгоды, никакой корысти. Страсть его не мучила, греховные желания не томили, он и к Хаве редко забирался в постель, спал отдельно, на топчане с выпирающими пружинами.
Иногда в бане, когда Ешуа нахлестывал себя березовым веником или обливал себя из шайки, он нет-нет да поглядывал на свои обомшелые гирьки, на свой поникший корешок, но взгляд его не выражал ни страха, ни сожаления, а только смирение и печаль. Ничего не попишешь. Время не щадит даже то, что не употребляешь. Все цветет и отцветает, высыхают даже реки.
Морта нужна была ему для чего-то большего, чем ночные утехи. Он этому сам не мог подыскать названия: бегство от одиночества, страх перед неминуемой смертью, вызов всему миру, обрекшему его на постылое, пусть и обеспеченное, существование?
Ешуа, бывало, охватывала непреодолимая, мучительная тревога, когда он представлял себя мужем Морты, видел себя с ней в постели, в той самой постели, где столько лет он чувствовал ровное, как у курицы, не омраченное вожделением, дыхание Хавы, да будет ей пухом земля, и где были без любви зачаты покойная Хана и свихнувшийся Семен. Казалось, разденется, ляжет рядом с Мортой и застынет, как бревно, не смея не то что прилепиться – прикоснуться к ней, и она, обиженная его холодностью, столкнет его на пол, и будет он, Ешуа, лежать, неуклюжий, волосатый, в одной ермолке, стыдясь своей равнодушной наготы, и потерянно глядеть в темноту, как обленившийся кот, разучившийся ловить мышей и насыщающийся собственной ленью.
Может, от того, узнав о решении Морты, Ешуа поначалу не высказал особой радости – Морта блаженная, одному Богу известно, что она выкинет завтра, – а принялся осторожно, исподволь допытываться о причинах, толкнувших ее на такой неслыханный шаг, даже уговаривать не делать этого, мол, столько прожили так, и дальше так проживем, разве важна вывеска, важно какой товар.
Морта слушала его, не перебивая, а он говорил, говорил, как заведенный, пытаясь скрыть свое тревожное изумление.
– Тогда ты крестись, – сказала она, измученная его увертками и уговорами.
– Никогда, – отрезал Ешуа.
– Значит, мне можно, а ты – никогда?
Лицо у нее побелело, брови сдвинулись, слились, губы омертвели, сузились в тонкую нитку. В такие минуты в ней просыпалась какая-то отупляющая суровость, что-то мстительное, почти звериное, сказывавшееся во всей ее плотной фигуре, недобром молчании и, и тогда Ешуа как бы оказывался в дремучей, без единой просеки, принеманской чаще, где безмолвные деревья таят смутную, рвущуюся наружу, угрозу.
– Никогда! – повторил он. – Засмеют! Забросают камнями!
– А меня, по-твоему, ромашками осыплют?
Что правда, то правда. Ромашками ее и впрямь не осыплют. И без того ей не сладко, свои от нее отвернулись, уже и в костел не пускают, ступай в синагогу, кричат, а чужие смотрят косо, улыбаются при встрече, но он-то, Ешуа, знает, чего стоят эти улыбки, тусклые, как свечные огарки.
– Ты молодая, – утешил он ее.
– Гм, – хмыкнула в ответ Морта.
Когда-то она и впрямь была молодая. Но прошла ее молодость, покоробилась, поблекла от трактирного дыма, задубела от стирки белья, от мытья полов, от латанья их штанов и лапсердаков – будто новые не могут купить!
– Грехи молодых – не грехи, а добродетели, – улещивал ее Ешуа.
Теперь он уже боялся, что Морта передумает, откажется от своего намерения, пошлет их к черту, со свету сживет, если он не согласится креститься, но волнения его были напрасны.
– Поехали, – сказала однажды Морта.
– Куда? – опешил он.
– А куда у вас в таких случаях едут? В синагогу?
– К Ерухаму, – пробормотал Ешуа.
– А кто он такой? – насторожилась она.
– Мишкинский раввин.
– Поехали… Больше мочи нет. Для одних – не христианка, для других – не еврейка.
Ешуа заморгал глазами, на лбу вздулись вены, ноздри вдруг залепило пчелиным воском, он громко высморкался, раз, другой, и в этом судорожном сморкании, в этих жгутах, наполненных голубоватой, совсем не старческой кровью, перехвативших его лоб, Морта почувствовала и растерянность, и решимость.
– Надоело!.. Запрягай! – прошептала она и впервые в жизни обратилась к нему не как к хозяину, а как к мужу.
Он уловил перемену в ее голосе, в ее осанке и послушно отправился запрягать гнедую. Запрягал он ее как никогда долго, словно на самом деле готовился к свадьбе – подтянул подпругу, придирчиво осмотрел постромки и подковы, смазал жирным дегтем колеса, выстелил дно телеги трескучей соломой. Лошадь незлобиво ржала, тыкалась в него мордой, как бы торопя и благословляя. Все против нас, думал Ешуа, возясь с упряжью. Все, кроме нее, лошади… Только она все понимает. Скажешь ей: к ксендзу, повезет в костел, скажешь: к раввину, затрусит в Мишкине. Нет для нее ни сутаны, ни талеса. Для нее каждый либо погонщик, либо седок.
Кончив запрягать, Ешуа метнулся в дом и вынес оттуда большой, почти не ношенный, пропахший нафталином, платок покойницы Хавы, протянул его Морте и сказал:
– Без платка к Ерухаму нельзя.
– Мне пока можно, – отметила Морта. – А вдруг этот Ерухам выгонит нас?
– Не выгонит. Надень!
Морта напялила платок, потрогала его кисти, белые, мягкие, как завязь у вербы, и телега выкатила со двора.
Случалось Ешуа и раньше бывать у рабби Ерухама, но большей частью по пустякам.
Мишкинский раввин славился во всей округе своей ученостью и мудростью. Говорили, будто по уму ему нет равных в Жемайтии, а может, и во всем Северо-Западном крае. Если бы не глухота, не корпел бы Ерухам в этой дыре, а блистал бы, как бриллиант, где-нибудь в Ковно или в Вильно. Но глухота простительна только Господу, а не его слуге.
Был мишкинский раввин не только знатоком Священного Писания, но и целителем. О его врачевании рассказывали просто чудеса. Лечил Ерухам не травами, не заговорами, а руками: прикоснется к больному, подержит свои руки над больным местом, как над огнем, и хвори как не бывало! Возил к нему Ешуа и Семена. Рабби Ерухам простер над ним свои чудодейственные длани, но тут же опустил, сказав, что больного надо было ему показать раньше, когда мозг его не был еще выжженной пустыней, а пустырем, заросшим чертополохом и репейником. С чем они приехали, с тем и уехали.
В бархатной потертой камилавке, в тусклых очках, обесцвечивавших его как бы прятавшиеся от мира глубоко посаженные глаза, с тяжелым брелоком, который он не выпускал из своей сухой, наделенной колдовской силой, длани, мишкинский раввин выслушал Ешуа и, не глядя на Морту, спросил:
– А что, реб Ешуа, на это скажет наш уездный исправник?
У корчмаря перехватило дыханье. Он озадаченно посмотрел на рабби Ерухама, на присмиревшую и отрешенную Морту, расстегнул ворот рубахи – так ему легче думалось – непристойно облизал запеченные в испуг губы и, одолев одышку, выдавил:
– А причем тут, рабби, наш уездный исправник?
– Громче, пожалуйста, – потребовал Ерухам и, по-прежнему не глядя на Морту, наклонил к корчмарю свое правое, вместительное, как кружка для пожертвований, ухо.
– Я говорю: причем тут наш уездный исправник?
– Вот теперь я слышу, – по-детски обрадовался Ерухам. – Что на это скажет наш всемилостивейший Господь, я, положим, знаю. Он скажет: в добрый час!
– А нам, рабби, больше ничего не надо!
– Громче, пожалуйста!
– Я говорю: нам больше ничего не надо, – протрубил корчмарь. – Не может же наш уездный исправник на равных тягаться с нашим Господом.
– Умный вы, реб Ешуа, человек, а вопросы у вас глупые, – остудил пыл Ешуа мишкинский раввин и покосился из-под очков на окоченевшую Морту. – Только для Господа нет лишних евреев, а для исправника – каждый еврей – лишний. Вы меня понимаете?
– Не понимаю, – разволновался Ешуа, и взгляд его застыл на Морте.
– Громче, пожалуйста!
Громче, громче, мысленно передразнил Ерухама корчмарь. Ну что этот глухарь тянет волынку? Стращает уездным исправником, будто он, Ешуа, кого-то зарезал! Евреи существовали до уездного исправника, будут, слава Богу, существовать и после него. Вон сколько исправников на своем веку пережили!..
– Умный человек, а не понимаете, – огорчился Ерухам. – Столько верст проехать и не понять… Лошадь бы пожалели…
– При чем тут лошадь? – набычился Ешуа.
– Хотя и не услышал я, что вы сказали, но догадался. При чем, при чем? – съязвил Ерухам. – Все в этом мире, реб Ешуа, связаны: и Господь, и лошадь, и исправник, и мы с вами… Беда только в том, что то, что угодно исправнику, неугодно Богу, а то, что хорошо нам с вами, то плохо лошади…
Мишкинский раввин повертел в руке брелок, снова посмотрел из-под очков на Морту и четко, как с амвона, сказал:
– Вы, наверно, ждете, чтобы я вам сказал: «Будьте счастливы!» Но я вам этого не скажу. Я вам скажу: «Не будьте несчастнее других!» И да хранит вас небо.
– Спасибо!..
Ешуа полез в карман полушубка, нашарил монету, но Ерухам опередил его:
– Кто же платит матери после родов?
– Какой матери? – воскликнул Ешуа.
– Да что это с вами?.. Не курицу же я превратил в петуха… – И Ерухам неожиданно подошел к Морте, его глубоко посаженные глаза вдруг вынырнули из своего укрытия, увеличились, налились каким-то благодарным неистовством, рука выпустила брелок, потянулась к женщине, повисла в воздухе, рабби быстро опомнился, поправил камилавку.
– А ты… ты не пожалеешь?
– Нет, – ответила Морта.
– Не проклянешь себя и нас?
– Нет.
– Не зарекайся… Ведь ты не знаешь, что такое быть еврейкой.
– Знаю… Главное быть человеком.
– Громче, пожалуйста!
– Главное быть человеком…
– Человеком, человеком, – пропел мишкинский раввин. – А что такое человек?
Морта молчала.
Молчал и Ешуа: чужая мудрость всегда утомляла его. Чего рассусоливать? Время – деньги, пора открывать корчму, они и так полдня ухлопали, а пока вернутся назад, и ночь нагрянет.
– Спасибо! – проронил Ешуа.
– Да, да, да, – зачастил Ерухам. – Человек – это, видно, то, чем мы никогда не станем…
И глаза его снова спрятались за непроницаемыми стеклами. А может, затянулись, как раны.
Ешуа вспомнил, как в сумерках возвращались они от Ерухама из Мишкине. Морта сидела, нахохлившись, кутаясь в Хавин платок, пощипывая пальцами его мягкие кисти, плечи ее подрагивали, то ли от тряски, то ли от холода – дело было осенью, в начале октября – то ли от сознания, что с сегодняшнего дня она больше не Морта и все-таки Морта, какое бы ей имя не предлагали взамен, а Ерухам предлагал даже библейские – Эсфирь, Суламифь – и ходкие, затасканные, какие она слыхивала и на базаре, и в корчме, и в лавке Нафтали Спивака, когда та еще была цела – Ривка, Брайне, Фейге. Хоть режьте ее, хоть четвертуйте, но она была Мортой и Мортой останется до гробовой доски.
Ешуа так и подмывало выведать у нее, о чем она думает, но чутье подсказывало, что с расспросами надо повременить. Пусть пообвыкнет, пусть пройдет через все омовения, о которых говорил ей рабби Ерухам, пусть переспит с ним, с Ешуа, ее законным мужем перед Богом и людьми, хотя бы одну ночь, пусть на праздник Иом-кипур переступит порог молельни, вот тогда она и без расспросов раскроется, распахнется, как дверь от сквозняка.
Что до синагоги, тут Ешуа одолевали сомнения – не пойдет она туда, калачом не заманишь, бабы обварят шепотками, как кипятком. Еще бы: в местечке семь вдов, а кого он, старый хрыч, греховодник, чтоб земля его не носила, выбрал – прислугу свою, подстилку сына! Срам, и только. Срам, срам, а ему, Ешуа, начхать на их пересуды. Когда любишь, все стерпишь. А он любит, Бог свидетель, любит, как никого не любил. Никого и никогда. Морта родит ему ребенка – сына или дочь, а может, двойню, чего только от разных кровей не бывает!
Единственный, кто омрачал радость Ешуа, был Семен.
Даже обращение Морты в еврейство не могло рассеять дурные предчувствия корчмаря. Ну что с ним делать? Безумие спасло его от каторги за убийство, но что спасет его от безумия? Что? Стоит на развилке в дождь, в стужу, в зной и ждет не кого-нибудь, а самого Мессию, и ни за что не выкуришь его оттуда, и так третий год подряд. Не ест, не пьет, стоит себе, и все. Спасибо Морте, бегает на развилку три раза на дню, носит ему еду и кормит, как малое дитя, с ложечки…
Ешуа готов поклясться на Торе, что тогда, когда они возвращались от Ерухама, Морта думала не о наставлениях мудрого пастыря, не о том, чем теперь попотчует ее жизнь как еврейку, а о нем, о Семене.
Однажды, придя с развилки, промокшая до нитки Морта, выжимая в сенях волосы, сказала ему с упреком:
– Это я виновата.
– В чем? – не сообразил Ешуа.
– В том, что он такой…
– Побойся Бога! – осерчал корчмарь. – Во всем виноват он сам, бездельник!
– Я виновата, я…
– Уж коли искать виноватых, так вот он, – Ешуа ткнул себя в грудь.
Как ни волновал Семен корчмаря, тот все же больше всего страшился другого, и этот страх с каждым днем все яростней сжимал сердце, проникал, как платяная моль, под рубаху, под кожу, откладывал там свои личинки, копошился, шуршал в мозгу, и от этого шершневого шуршания у Ешуа на теле то и дело появлялась какая-то сыпь, мелкая, красноватая, от которой не было спасу.
Ешуа боялся, что Морта родит мертвого.
Потому-то и выбрался он перед праздниками в Россиены, где, по слухам, жил доктор-акушер по фамилии Зайончик, которого корчмарь, не жалея денег, решил перед самыми родами пригласить на неделю-другую в местечко, чтобы тот честь по чести принял у роженицы ребенка – ни о какой повитухе Ешуа и слышать не хотел.
Ежели Зайончик заартачится, корчмарь надеялся договориться с ним полюбовно и незадолго до родов привезти Морту в Россиены, снять у кого-нибудь комнату для нее, чтобы акушер, не расставаясь со своим промыслом, мог вовремя, по первому зову, прийти на помощь.
Ешуа вез с собой задаток – два золотых с изображением Его величества императора всея Великия Белыя и Малыя, который своим монаршим ликом должен был как бы подкрепить его, Ешуа, нижайшую просьбу.
Деньги Ешуа спрятал в торбу, насыпав ее доверху овсом, и сунул на дно телеги. Нападут изверги-грабители, обыщут всего до мошонки, напугают до смерти, а вот лошадь не обидят, овес не тронут – зачем им, подлым, овес?
Ружье, то, которым его сын Семен ухлопал несчастного странника, ходившего по свету и собиравшего чужие грехи, Ешуа потопил. И хорошо сделал: следователь, разбиравший дело об убийстве сапожника Цви Ашкенази, попался дотошный, несговорчивый, нудно допрашивал каждого, даже рабби Ури, и с каким-то сладостным остервенением искал улики.
Ешуа понимал, что двумя золотыми не отделается, и был готов выложить в два раза больше, только бы все обошлось благополучно. Хоть корчмарь ни бельмеса не смыслил в том, как приходит на свет человек, он все же не сомневался, что роды предстоят трудные: Морте не двадцать и не тридцать, ничего заранее не предвидишь, всякое может случиться – и выкидыш, и смерть. Померла же, разродившись мертвым сыном, Ошерова вдова, Голда!.. Ежели ребенок выживет, а помрет Морта – разве ему, Ешуа, легче будет? Господь должен смилостивиться над ними и оставить в живых обоих. Ведь как подумаешь – не только мы его должники, но и Он наш должник. Кто подсчитает, сколько Он каждому задолжал?
При мысли о Всевышнем Ешуа поежился, дернул плечами, вобрал свою медвежью голову в воротник овчины и подбодрил веселым посвистом кнута гнедую.
А ежели Всевышний не смилостивится, предложит ему выбор: или-или? Кого же он, Ешуа, выберет: ребенка или Морту?
– Возьми меня, – скажет он.
Но вседержитель на такое не пойдет. Как от праотца Авраама, потребует он от него, раба своего, простого и ясного ответа. Но ответ раба – не ответ, а приговор кому-то. Потому что от него всегда зависит чужая жизнь. А Ешуа еще никого не приговаривал к смерти.
– Все вы к ней приговорены, – скажет Всевышний. – Выбирай.
А кого бы выбрала Морта? Ребенка, конечно. Что для нее он, Ешуа Мандель, кабатчик, старый пень, облезлый медведь, дрожащий за свою прокуренную, провонявшую спиртным и крестьянским потом, берлогу? Так почему же его выбор должен быть другим? Ребенка, конечно, ребенка… Ведь больше Морта ему никого не родит. Никого.
Ешуа устыдился своих мыслей, запахнул овчину, вытянул отекшие ноги.
Дул теплый встречный ветер. Он обвевал щеки, студил голову, слабо колыхал косматую гриву гнедой, нежил ее лоснящийся в лучах полуденного солнца круп.
По обе стороны дороги чернели сосновые перелески, пропитанные терпким смоляным запахом. Ешуа вдыхал его полной грудью, мало-помалу освобождаясь от снедавшей его тревоги, крысиными зубками впивавшейся в его все еще могучее тело. Уж чем не обидел его Господь, так силой, нерастраченной, неуемной, медвежьей.
Дорога была пуста, и ехать было легко и приятно.
Порой телегу подбрасывало на рытвинах, и Ешуа придерживал гнедую, властно натягивая вожжи и сворачивая на обочину.
Когда Ешуа надоедало смотреть вперед, на унылый и однообразный проселок, корчмарь переводил взгляд на перелески, на густые непроходимые ельники, на грибные березняки, светившиеся в мареве весеннего дня, как зажженные серебряные подсвечники. Свет их был теплым и тягучим, как кудель.
Глядя на них, Ешуа неожиданно вспомнил, что и сам родился весной, в первых числах июня, на переломе весны и лета, когда природа как бы готовится к плодоношению, удивительному переходу от зачатья к росту, от скупого и осторожного накопительства к безоглядной и нескромной щедрости, и от этого воспоминания его захлестнуло какой-то загадочной благодатью, какую он, может, не испытывал с самого рождения.
Растроганный, он остановил лошадь, выпряг ее, вынул из торбы золотые и, ведя гнедую за поводья, зашагал к сверкнувшему только что отлитой монетой лесному озерцу. Удивленная негаданной хозяйской добротой, лошадь шагала по узкой тропке, петлявшей среди ельника, откликаясь благодарным ржанием на рассыпчатый, как овес, щебет птиц, облепивших оттаявшие от зимней стужи ветки.
Подхлестнутый то ли ржанием гнедой, то ли цвеньканьем невидимых в гуще ветвей птиц, вдруг запел и сам Ешуа.
Гнедая горделиво вскинула голову – она слышала, как хозяин кричит, как ругается с Семеном, с завсегдатаями корчмы, как торгуется из-за каждого гроша на винокурнях, как клянет урядника или исправника, но чтобы пел!.. Такого с ним никогда не бывало!..
Ешуа пел старинную еврейскую песню про пастушка и его пропавшую овечку, самозабвенно выводя один и тот же куплет.
Но внезапно корчмарь осекся, издал какой-то звук, похожий скорее на крик о помощи, чем на песню.
– Посмотри! Посмотри! – шепотом, почти не дыша, сказал он лошади.
Он ткнул пальцем в непроходимый ельник, и гнедая, привыкшая к каждому его движению, повернула голову и сквозь гущу ветвей увидела поверженного мальчика. Он лежал неподвижно на почерневшем за зиму мху, испещренном зелеными лоскутками пробившейся травки, в сдвинутой на лоб поношенной кепчонке без козырька, в полотняных, порванных на коленях, штанах и деревянных башмаках, облепленных глиной. Тонкая струйка запекшейся крови, как ожерелье, обвивала его петушиную шею.
Привлеченная свежей травой, гнедая подалась в сторону, но Ешуа натянул поводья и закричал:
– Стой!
Лошадь застыла.
Не отпуская поводьев, корчмарь приблизился к стреловидной ели, под темным пологом которой лежал мальчик, наклонился, заглянул в его засыпанные хвоей глаза, почему-то подул на него, как на гаснущую свечу, потом стянул с него кепчонку, обнажил голову с легкими, спутанными, как омела, волосами, выпрямился, постоял над трупом, снова нагнулся, только теперь иначе, встав на колени, взял кепчонку, зажал ее между ладонями, словно собираясь отогреть, прикрыл ею еще не посиневшее веснушчатое лицо покойника и задумался.
Гнедая рядом пощипывала сухими губами траву, изредка пугая хвостом тощих лесных мух, перелетавших с ее крупа на как бы прикорнувшего под елью мальчика.
Дернула же нелегкая повести лошадь на водопой, подумал Ешуа, не зная, что делать.
Первой его мыслью было оставить мертвеца, напоить гнедую, вернуться на обочину и мчаться без оглядки в Россиены. Родные хватятся мальчика, кинутся искать и, может, еще засветло найдут.
Подальше от греха, уговаривал себя Ешуа. Потом объясняйся, растолковывай, где и когда нашел, был ли он еще жив или мертв. Зачем ему, Ешуа, лезть не в свое дело – у него и так сплошные заботы. Мальца все равно не воскресишь. Родители поплачут, поплачут и похоронят его. Видно, голодный волк задрал или на кабана во время гона нарвался. Вон сколько помета чернеет, видать, недалеко и логово.
Но что-то удерживало Ешуа. Он сам не понимал, что – сострадание, ответственность? Как же так? Найти и бросить. Это ж не дохлая ворона, не куница, попавшая в силки! Это ж человек! А человека, пусть и мертвого, бросать негоже. Господь не простит. Видно, ему, Всевышнему, угодно еще раз испытать Ешуа. И ежели он выдержит и это испытание, то, может, Морта разрешится от бремени счастливо и в урочный час? Нет, нельзя бросать несчастного, нельзя! Что с того, что, кроме гнедой, вокруг ни одного свидетеля? Лошадь – свидетель, еще какой свидетель, хоть и бессловесный. Он, Ешуа, не сможет спокойно смотреть ей в глаза, совесть загрызет. И Господь – свидетель. Такой же бессловесный, как лошадь, но и от Его ока ничего не скроется. Пусть твердят, что его нет – может, Его и на самом деле нет! – но в жизни бывают дни, когда человек, слабый, смертный человек, сам как бы принимает облик и полномочия Всевышнего, ибо, не сделай он этого, в какой грязи, в каком дерьме, в каких прегрешениях и кощунствах прожил бы он свою долгую короткую жизнь!
До ближайшей деревни тут, наверно, недалече. Ешуа отнесет мальца в телегу, положит его на солому так, чтобы торба с овсом и золотыми служила ему подушкой, накроет овчиной и отвезет его туда, где он вчера еще был бессмертен, как все дети, и за это Ешуа зачтется и на земле, и на небе, и долг Всевышнего перед ним возрастет на какой-нибудь один процент.
Ешуа поднял мертвеца на руки и, продираясь сквозь чертов ельник, напрямик – во всяком случае так ему казалось – потопал к оставленной на обочине телеге. Под ногами сухо и домовито, как поленья в печи, потрескивал валежник, острые ветки пиявками впивались в лицо, но корчмарь упрямо, как бы ослепнув, пробирался вперед, изредка хмуро окликая сбитую с толку гнедую, которая плелась за ним, обдирая из преданности бока и ухватистые губы.
Они уже шли не пять и не десять минут, а дороги все еще не было видно, и Ешуа обуяло зудящее сомнение, не заплутались ли они среди этих бесконечных, этих безмолвных, этих однообразных елей.
Ветки задевали ноги мальчика, и тогда они покачивались, как живые, ударяли Ешуа в бедро или пах, и от этого постукивания, от этих ударов у корчмаря в коротких толчках и удушье заходилось сердце.
Подбадривая себя, Ешуа что-то колыбельно и невнятно шептал, поправляя легкую ношу – тело мальца весило не больше, чем пустой бочонок из-под водки – и молил Господа, чтобы поскорей кончилось это блуждание, это кружение по густому, как деготь, ельнику.
Наконец ельник оборвался – свет, брызнувший со всех сторон, ножом отрезал его от открывавшегося простора, и Ешуа вышел на дорогу, в какой-нибудь полуверсте от телеги.
Мальчик лежал на руках Ешуа простоволосый, без кепчонки – видно, обронил ее среди елей. От его растрепанных волос веяло сыростью мха и плесенью.
Ешуа уложил мертвеца на дно телеги, запряг гнедую и двинулся дальше.
Округу эту он знал, как свои пять пальцев.
Когда-то – тогда он еще не был корчмарем – исходил он ее вдоль и поперек. Молодой коробейник с резвыми и безотказными, как у волка, ногами, Ешуа испытывал в ту пору только один страх – страх перед бедностью.
А сейчас?
Сейчас от прежнего коробейника и следа не осталось – ни стати, ни того благословенного страха не дававшего ему покоя, закалившего его дух и вознесшего над другими, пусть не так высоко, как он хотел, но все-таки вровень с трактирной крышей.
Помнит ли кто-нибудь его в деревнях сейчас – ведь чуть ли не полвека прошло!
Где-то поблизости должны быть Расчяй. Деревня, помнится, стояла у самого леса… Был там еще такой пруд с диковинным заморским лебедем. Этот лебедь по сей день белеет в памяти Ешуа. Больше никогда не видел он ни одной такой птицы.
Привезу мальца, привяжу к коновязи гнедую и хоть на минутку спущусь к пруду. А вдруг выплывет он, лебедь моей молодости.
Глупости, глупости, мысленно одернул себя Ешуа. Лебедь давно подох, и пруд высох. И вообще до лебедей ли, когда в телеге мертвец, когда Семен стынет на развилке, когда Морта вот-вот рассыплется.
Сбыть бы скорей мальца, сладить бы с акушером и вернуться домой к своим курам и гусям.
Но лебедь не шел у него из головы.
Ему вдруг до смерти захотелось – увидеть его, ну, если не его самого, то его потомков, выводят же лебеди птенцов, спуститься по мосткам к воде и уставиться на их белые крылья, на их царственные шеи.
Увидеть и… купить!
Купить и привезти в местечко, ей, Морте. Какой еврей когда-нибудь дарил своей жене живого лебедя? Дом – дарил, беличью шубу – дарил, а лебедя, лебедя – никогда.
То-то поднимется переполох, то-то разгорятся страсти, то-то зачешут языками!.. Слыхали – Ешуа Мандель, как и его сынок, совсем того… своей крале на Пасху трефного гуся привез!.. Вот бы ему с Хавой так!..
Ешуа выехал на околицу Расчяй.
Изб в деревне было немного, десятка два, а то и меньше, и все замшелые, скособочившиеся, огороженные невысокими частоколами, с бревенчатыми колодцами и дырявыми навесами да хлевками.
Корчмарь подъехал к крайней избе, слез с телеги, расчесал руками бороду, поправил на голове шапку, приосанился, нарочито громко хлопнул калиткой, прошел по обсаженной с обеих сторон туями дорожке к избе и постучался в двери.
– Добрый день! – сказал он, когда дверь открылась и на пороге вырос щуплый мужичонка в домотканых, не по росту сшитых штанах, в деревянных башмаках на босу ногу.
Мужичонка растерянно-заинтересованно смотрел на Ешуа, видно, прикидывая, звать в избу или не звать.
– Я кое-что привез… Может, посмотрите… – промямлил корчмарь.
– Спасибо, спасибо, – с достоинством ответил мужичонка. – У нас все есть… Керосин на прошлой неделе взяли… Нам ничего не надо…
– У меня не керосин… – попытался растормошить мужичонку Ешуа.
– Спасибо, господин, спасибо.
И мужичонка скрылся за дверью.
Надо было прямо, без обиняков, поносил себя Ешуа. Развел черт-те что: «Кое-что привез… Посмотрите!..» Народу нечего загадки загадывать, с ним надо коротко и просто…
Приглядевшись к избам на пригорке, Ешуа выбрал самую, на его взгляд, богатую – с резными наличниками, с садом, прикрывавшим своим надежным крылом драночную крышу, с большим, подступавшим к самому лесу хлевом, из которого доносилось недовольное хрюканье и сердитое мычание.
– Я привез мертвого мальчика, – тихо, пытаясь окрасить свое сообщение в скорбные тона, промолвил Ешуа.
– Какого мальчика? – удивился молодой хозяин.
– Этого я не знаю… Может, говорю, он из вашей деревни.
– Где он? – глядя на Ешуа в упор, спросил молодой хозяин.
– Там – тот в телеге.
– Не наш, – сказал, откинув овчину и гоняя твердые, как камешки, желваки.
– А чей?
– Не знаю.
И молодой хозяин, недобро оборачиваясь, побрел не к избе, а к хлеву – должно быть, примирять скотину.
Зашел Ешуа еще в одну избу, в другую, но никто мертвеца не опознал.
Почти ненавидя себя за слабость и опрометчивость, корчмарь забрался в телегу и, вымещая на гнедой нагноившуюся злость, выехал из Расчяй.
Хоть лошадь напою, подумал он, не доезжая до пруда. Одному Богу известно, сколько еще нам мотаться по деревням.
Ешуа поразило, что Расчяйский пруд был таким же, как в его молодости, глубоким, с каким-то золотистым отливом, с легкой рябью не от ветра, а от шелеста обступавших его тополей.
Только лебедя не было. Вместо него в пруду плескались ленивые утки, время от времени погружая свои костяные клювы в переливчатую застойную воду.
Пока лошадь пила, Ешуа глазел на ровную, незамутненную гладь, и жалость, как ленивая утка, плескалась в нем, жадно подбирая бог весть каким чудом сохранившиеся в глубине крохи.
Ни в Расчяй, ни в Ужежереляй, ни в Юодгиряй мертвеца не опознали, и Ешуа не осталось ничего другого, как везти труп в Россиены – сдаст в участок, и пусть там разбираются, им за это жалованье платят, и немалое. Как только приедет в Россиены, привяжет гнедую и – к Зайончику, акушер на то и акушер, чтобы принимать в любое время. Ну уж коли не примет, набивая себе цену, то придется где-нибудь заночевать на постоялом дворе, а утречком галопом к доктору. Время не терпит.
Но ни в день приезда, ни назавтра, ни через неделю Ешуа к Зайончику не попал – в тот же вечер его взяли под стражу.
– За что?! Не имеете права! – возмутился было Ешуа.
Он колошматил кулаками дверь темной, кричал, но крик его остался без ответа. Ешуа нагнул, как бык, голову и стал биться о равнодушную стену.
Наконец он изнемог, опустился на земляной пол и глухо, по-волчьи завыл.
III
Мирон Александрович позавтракал у Млынарчика, съел поджаренные на сале колбаски, выпил чашечку кофе без сахара – доктор Гаркави велел ему ограничить употребление сладостей во избежание сахарной болезни – расплатился, но против обыкновения не встал со своего облюбованного у окна места, откуда видны были короткая, как колбаска, улица и узкий, как нищенский посох, тротуар.
– Чего-нибудь еще желаете, пане меценасе?[1] – Неизменно вежливый, в чесучовом пиджаке, делавшем его моложе лет на десять, стройный, без единой жировой складки, с лихо и соблазнительно закрученными усами, он подлетел к столику и участливо, но не назойливо уставился на чем-то опечаленного присяжного поверенного.
– Нет, – рассеянно ответил Дорский. – Разве что стаканчик хереса.
– Сей момент! – поклонился пан Млынарчик и, выписывая ногами на полу, как на вывеске, свою фамилию, удалился.
Вина Мирон Александрович никогда по утрам не пил, только в компании; к спиртному вообще относился с нескрываемым презрением, ни разу не позволил себе выпить больше одной рюмки, но сегодня решил сделать исключение, чтобы отвлечься, сбросить с себя усталость и как-то унять снова проклюнувшуюся головную боль.
Пока он дойдет до тюрьмы, запах вина испарится, но херес поможет ему обрести столь необходимое в его ремесле равновесие и душевное спокойствие.
– Прошу, пане меценасе! – возвестил Млынарчик и поставил на столик вино. – Только что из погреба, як бога кохам.
– Спасибо.
Пану Млынарчику «спасибо» было мало. Он испытывал всегда бесценное удовольствие от беседы с паном Дорским. Но сегодня пан Дорский не настроен вести разговоры. Таким мрачным и озабоченным не бывает он даже на кладбище, где они и познакомились в позапрошлом году, через месяц после смерти пани Кристины, когда пан меценас пришел с пышным букетом осенних цветов, кажется, астр. Еще и памятника не было, торчал только железный крест с жестяной табличкой: «Кристина Дорская… скорбящие муж и сын».
– Нас с вами могилы свели, – шутил, бывало, Мирон Александрович.
Как же, как же, кивал головой довольный пан Млынарчик, наши жены рядышком лежат, моя – под липкой, а ваша – под открытым небом (он, как и отец Кристины Дорской, принял православие, хотя дома и разговаривал по-польски).
Пан Млынарчик и надоумил Мирона Александровича позаботиться о себе. Он, пан Млынарчик, уже позаботился – приобрел участок, тоже под липой, поблизости от покойницы жены. И вам, пане меценасе, пора; жизнь скоротечна, как забег на скачках…
Смотритель кладбища, кривоногий горбун с глазами одичалой собаки, встал на дыбы:
– У нас только православных хоронят. У евреев свое кладбище.
Мирон Александрович просто оцепенел. Откуда ему, уроду, пугалу поганому, известно, что Мирон Александрович – еврей? У него что, на лбу написано? Да мало ли на свете картавых и носатых – татар, грузин, тех же поляков? Председатель губернского суда Борис Евгеньич Чистохвалов по внешности вылитый иудей, а на самом деле чистокровный дворянин. Что прикажешь с ним делать, если явится к такому горбуну?
– Я буду жаловаться, – пригрозил смотрителю кладбища Дорский.
– Жалуйтесь на здоровье, – просипел тот.
Дорский собирался пойти к городскому голове, а если тот не поможет, то попросить аудиенции у самого генерал-губернатора. Что же это такое, ваше высокопревосходительство, мало того, что жить нельзя где хочешь, так и в землю нельзя где хочешь? Конечно, Мирон Александрович не посмел бы ляпнуть такое, слово – не воробей, выпустишь и в Сибирь попадешь, нашел бы другие слова, достойные, корректные, объяснил бы генерал-губернатору, что всю жизнь прожил как христианин, и никто не имеет права лишить его возможности сойти христианином в могилу, хоть в паспорте и значится, что он православный из иудеев.
Мирон Александрович почти не сомневался, что генерал-губернатор удовлетворил бы его просьбу. В конце концов можно и сердце его смягчить – дать через доверенных лиц взятку. Ведь у власть предержащих сердце испокон веков начинается в руке.
Но пан Млынарчик удержал его от такого необдуманного шага и пообещал уладить все без всяких аудиенций и высоких слов.
– Деньги, пане меценасе, открывают ворота и в рай, и в ад. Положитесь на меня, я все устрою…
– Сколько? – сник Мирон Александрович.
– А это уж сколько заломят, – уклончиво ответил пан Млынарчик.
Мирон Александрович так и не дознался, сколько заломили за место на православном кладбище. Ничего не попишешь: жид крещеный, что вор прощеный – так, кажется, говаривал его коллега присяжный поверенный Тихвинский.
Дорский отсчитал деньги, не без основания полагая, что половина их осела в кармане у пана Млынарчика. Ничего не поделаешь. И он, Мирон Александрович, не бессребреник, и он берет за посредничество не борзыми, а чистоганом, и он никого не защищает даром. За справедливость, как и за могилу, плати!
Теперь горбуна как будто подменили. Теперь он с Мироном Александровичем как шелковый: чего изволите, вашродье? Травку прополол не только на могиле Кристины, но и на его, будущей; цветочки, каналья, посадил, белым песочком дорожку посыпал, скамеечку, дьявол, соорудил, садитесь, вашродье!
Херес, видно, и впрямь был из погреба, со льда, с привкусом грецкого ореха.
Мирон Александрович и не заметил, как выпил весь стакан вина. В желудке у него потеплело, голова прояснилась.
– Ну как этот Стрельников, пане меценасе? – спросил Млынарчик.
– Держится, – просветленно ответил Дорский.
– Сколько он отхватит?
– Десять… Если признают вменяемым.
– Раны боске![2] Десять лет каторги! Женился бы на другой, и горя бы не знал.
Пан Млынарчик сочувственно почмокал языком и подал Мирону Александровичу легкое весеннее пальто с шелковым подбоем.
– Порой легче убить, чем второй раз жениться, – сказал Дорский на прощанье.
Из пана Млынарчика вышел бы отменный присяжный заседатель – великодушный, понятливый, сговорчивый. И брал бы он не больше, чем за могильное посредничество, меньше, чем сахарозаводчик Трусов, у которого одно мерило: коли угодил под суд, значит, виноват; или отставной пехотный капитан Воскобойников, грызущий на заседаниях свои слюдяные ногти не из сострадания к подсудимым, а от скуки; или старый филер Лысов, корчащий из себя самое неприступность и непогрешимость, думал Мирон Александрович, шагая по Большой улице вниз и направляясь через Кафедральную площадь к Лукишкской тюрьме. Знаем мы их неприступность и непогрешимость. Знаем, в такт шагам повторял про себя расстроенный Дорский. Позапрошлым летом только его, лысовского голоса, не хватало для оправдания того несчастного цыгана, обвиненного в конокрадстве. Как же, раз цыган – значит, конокрад. А ведь это не он увел с самойловского завода орловских рысаков, которые Самойлов поставляет во все страны Европы и даже Америки. Не он, а племянник городского головы, игрок и карточный шулер. Но Лысов, видно, решил, что для цыгана холодная лучше кибитки, в холодной кормят каждый день и стужа не пробирает до костей, как где-нибудь в чистом поле.
Как он, Мирон Александрович, ни старался, как ни изворачивался, но спасти своего подзащитного не сумел. А все потому, что виновный племянник городского головы дороже отечеству, чем правый кочевник.
Но донимали Мирона Александровича мысли не о присяжных, не о пронырливом пане Млынарчике, даже не о двадцатипятилетнем Стрельникове, Отелло с Погулянки, зарезавшем из ревности свою жену-ветреницу, а об утреннем посетителе, земляке не земляке, обдавшем Мирона Александровича каким-то колючим холодком и явившемся как бы продолжением его тягостного сна.
Что там у них стряслось, ломал голову Дорский. Пять человек под стражу зря не возьмут. Взбунтовались, что ли? Но Нафтали Спивак, насколько он, Дорский, помнит, совсем не похож на бунтаря. Может, проворовались? Хотя еврея куда легче склонить к бунту, чем к воровству. Да и что там в местечке красть? Нечего. Разве что беды, но кто же на чужую беду позарится, когда своих невпроворот?
Мирон Александрович перебирал в уме все возможные и невозможные провинности и преступления: поджог, контрабанду, убийство, но тут же с железной логикой сокрушал свои предположения. Не похоже, чтобы из-за поджога или контрабанды послали к нему из такой дали ходока.
С одной стороны, Мирону Александровичу не терпелось узнать о случившемся. Как-никак, речь идет о его родине, о маленьком островке, затерянном среди дремучих жемайтийских лесов, о людях, которые помогли ему, сироте, выжить в далеком, почти нереальном детстве, выкарабкаться из нужды, встать на ноги, достичь степеней известных – не на вырученные же за лещи деньги он так взлетел? Что бы с ним было, если после смерти матери (а из больницы она не вернулась) все отвернулись бы от него, оставили бы с гривенником, который он, Мирон Александрович, принес тогда с базара? Как бы сложилась его жизнь, не прими его Нафтали Спивак в свой дом, не отдай его в ученье сперва в Вилькию, потом в Ковно, а потом в Петербург?
С другой стороны, Дорский, мучимый дурными предчувствиями, страстно желал, чтобы утренний гость не дождался его, уехал или обратился к другому адвокату. Сейчас их в Вильно как собак нерезаных! И маститый Сокол Лев Соломонович, знающий назубок Платона и Аристотеля, вольнодумец, чуть ли не масон, и Ефим Евелевич Рабкин, доброхот, жертвователь на алтарь еврейского просвещения, и Федор Константинович Луцкий!..
Конечно, и он, Мирон Александрович, не пешка. И он почитывал древних, и он – не жмот, не сквалыга, не раз жертвовал на общественные нужды, на дом призрения для сирот, памятуя о своем трудном и поучительном прошлом.
Но… лучше, чтобы утренний гость оставил его в покое. Ведь порой – да что там порой, сплошь да рядом – знакомством, а то и родством с подзащитными можно больше им навредить, чем помочь. Разнюхает Борис Евгеньич Чистохвалов или тот же непогрешимый присяжный Лысов, что Дорский из того же жемайтийского местечка, состоит с подсудимым в родственной связи, дальней или близкой, не имеет значения, и все полетит в тартарары. «Еврей всегда защищает еврея – в суде ли, на базаре ли, в молельне ли. А такая защита равносильна выгораживанию». После такой реплики Турова присяжные заседатели, будь они непорочны, как святая дева Мария, с редким и дальновидным единодушием решат: виновен!
Кроме того, Бог свидетель, он, Мирон Александрович, по уши завален работой. Чего только стоит это дело Стрельникова? Оно уже отняло у него полгода, и, наверно, отнимет еще столько. Мирон Александрович никогда не взялся бы за него, если бы не питал к нему, так сказать, сугубо человеческого, личного интереса. Не взялся бы, ей-ей!
Докапываясь до истинных причин и мотивов преступления Стрельникова, Мирон Александрович как бы отождествлял себя с ним, представлял себя в его роли – обманутого, пришибленного изменой страстно любимой женщины, благородного рыцаря и безжалостного убийцы, залитого по уши чужой кровью. Как бы поступил он, Дорский, узнай он об измене Кристины? Смирился бы или, как Стрельников, схватил бы резак для хлеба и полоснул им в податливую мякоть ниже левой серьги? Наверно, смирился бы, простил бы, терпел бы и дальше, безумно ревновал бы – ведь глупо требовать, чтобы чья-то любовь принадлежала только тебе, тебе и больше никому. Если можно поровну делить свободу, почему же поровну не делить любовь? Любовь – это самая прекрасная неволя из всех существующих на свете, где каждый – раб и каждый – господин и где любой мятеж гибелен и бесполезен.
Мирон Александрович не заметил, как подошел к тюрьме.
В ее коридорах и камерах его всегда охватывало редкостное чувство – неподдельного участия и нескрываемого самодовольства. Самодовольства от того, что нигде – ни дома, ни в гостях у своих именитых друзей не чувствовал он так свою цену, как в ее казематах. Сознание того, что он в тюрьме свой, – а быть своим в тюрьме дано не каждому, – что беспрепятственно входит на ее территорию и без проверки выходит, возвышало его в собственных глазах. Каждый поклон надзирателя, дежурного офицера, конвоира Мирон Александрович воспринимал как поклон самой судьбы.
Порой он хаживал по ней даже без провожатых, и от этого доверия у Мирона Александровича приятно екало в груди.
В самом деле, ему, бывшему иудею, позволено безнадзорно ходить по заведению, где содержатся десятки его соплеменников, изолированных от общества за свои подрывные деяния – тайные сборища, покушения, распространение подметных листков, призывающих к бунту.
Эти робеспьеры и дантоны не раз пытались и через него передать на волю свою крамолу, свернув ее в бумажную трубочку или облепив подмокшим хлебом. Господи, думал в такие минуты Мирон Александрович, на что они, несчастные, надеются? Что это за мысли, умещающиеся на клочке бумаги или в жалкой тюремной крохе? Кого они, эти ратоборцы за равенство, братство и свободу, хотят ими напугать? Что значит вся их высосанная из пальца крамола по сравнению с некрамольным штыком часового на вышке, с этими некрамольными каменными стенами, с этими окнами, забранными в некрамольные решетки?
Особенно приставал к нему один рыжий юнец в длинной арестантской робе, делавшей его похожим на мельничный мешок, из которого только что высыпали зерно.
На прошлой неделе, возвращаясь из арестантского нужника, он ухитрился перехватить Мирона Александровича, пытаясь подсунуть ему какую-то бумажку.
– Передайте на Стефановскую… Малую Стефановскую, восемь.
– Простите, – нарочно громко при надзирателях ответил Дорский. – Я не понимаю по-еврейски.
– А по-русски понимаете?
– Русский – мой родной язык.
– Тогда я вам скажу на вашем родном языке: собака вы! Сторожевой пес!
– В карцер захотел? – заорал на юнца надзиратель и толкнул его тяжелой связкой ключей в бок.
Мирона Александровича не столько пришибла брань юнца, сколько угроза надзирателя. А что? И упечет в карцер, на хлеб и воду. А ведь у него, у этого сопляка, и так душа еле держится в теле. Раз угодит в карцер, другой, а в третий погрузят на подводу и – на кладбище, зароют где попало, без холмика, без знака, и будет ему братство с червями и равенство с сырой землей.
Мирон Александрович действительно больше его не встречал. Видно, перевели в другую тюрьму или отдал богу душу.
Приходя в Лукишки, Дорский всякий раз надеялся, что увидит юнца, что тот снова его облает, обзовет всякими словами. Пусть! Пусть поносит, пусть честит, пусть сравнивает с шакалом и гиеной, но пусть будет живой не ради равенства и братства, а ради своего несчастного отца и матери. Жизни нужны живые. Велика ли радость от верноподданных мертвецов?
Поступаясь своими привычками, Мирон Александрович как-то вскользь, чтобы не навлечь на себя подозрение, спросил у надзирателя, где этот юнец, который – помните? – обозвал его собакой.
– А хиба я знаю… Много их тут, жиденят. И чего им неймется?
Такой же вопрос Дорский задавал и себе. Чего им неймется?
Чего неймется его сыну Андрею? Уж он-то точно жил припеваючи – только учись, только перешагивай со ступеньки на ступеньку, поднимайся вверх, пользуйся тем, что создал для тебя отец – все дороги открыты. Так нет же! Давай фыркать, вертеть хвостом, строить из себя мученика, судью, обличителя, и то ему не так, и это. И родители-де неправедно живут, и учителя шкурники и лицемеры, и власть не власть, а скопище мерзавцев и лихоимцев. И где он всего этого набрался?
Дома ни он, Мирон Александрович, ни Кристина никогда ни о чем таком не говорили, никого – ни царя, ни Бога не чернили, и не потому, что были всем на свете довольны, нет, и им многое не нравилось, и они не были слепы, видели, что творится вокруг, и возмущались. Но возмущались как культурные люди, а не как хамы: негромко, осмотрительно, в меру, где-нибудь в спальне перед сном или в лесу во время загородной прогулки, где их могли слышать только деревья или птицы, во все времена поющие одни и те же песни. И делали это не из трусости, а из осторожности. Осторожность – сестра мудрости. А мудрость не в том, чтобы драть перед толпой, падкой до всяких откровений, глотку – это каждый дурак может! – а в том, чтобы дело свое делать. Дело – вот единственное откровение. Самый обыкновенный портной выше и счастливее монарха потому, что после любого переворота у него остается иголка – вечный его скипетр.
Мирон Александрович из кожи вон лез, чтобы уберечь сына от безделья. На нем, на безделье, и всходят цветы восстаний и мятежей. Когда голова пуста и руки свободны, легче всего схватить дубину или топор. Дубина и топор не требуют никакой выучки.
Дорский вовсе не настаивал, чтобы Андрей продолжил его дело. При желании он мог стать не адвокатом, а доктором или инженером. Лекари и строители мостов нужны при всех властях, при всех правителях. Никто не чинил бы Андрею никаких препятствий – ни в Петербурге, ни в Дерпте, ни в Киеве. В конце концов у сына была еще одна возможность – отправиться за границу, в Цюрих или Гейдельберг, кончить там какой-нибудь приличный факультет.
Такая перспектива казалась Мирону Александровичу необычайно заманчивой.
Ни слова не говоря Кристине, для которой разлука с сыном была бы невыносимой, Дорский тайно, в душе лелеял мечту о том, чтобы Андрей – если он остановит свой выбор на каком-нибудь заграничном университете – женился на француженке или немке и остался в Швейцарии или Германии.
Мирон Александрович отдавал предпочтение Швейцарии. Там и климат мягче, и люди не такие чопорные, как немцы. С немцем всегда держи ухо востро. Всем он хорош: и деловитостью, и мастеровитостью, но к чужеземцам особой любви не питает, а к евреям особенно. Правда, Андрей – не еврей, но все же… Поди знай, чем для него, полукровки, обернется такая смена местожительства. Тем паче, что он нарочито, назло ему, Мирону Александровичу, выпячивал свою вторую, нехристианскую, половину, вместо того, чтобы ее (для своего же блага!) затушевывать. Наивный, не вкусивший лиха, мальчик! Что и кому он хочет доказать, он, у которого, кроме болезненного чувства справедливости и личной порядочности, нет никаких доказательств? Увы, ни личная порядочность, ни святые порывы нынче не являются двигателями жизни. Отнюдь! Мирон Александрович знает это по себе.
Сколько раз Мирон Александрович вдалбливал сыну в голову, что никому еще на свете не удалось без жертв и кровопролития перепрыгнуть из непорядочного времени в якобы порядочное. А раз жертвы, раз кровопролитие, то о какой порядочности может идти речь?
– По-твоему, выход один – быть подлым, как время, – выпалил Андрей.
– Нет, нет! Упаси бог! Разве я ратую за подлость? – возмутился Мирон Александрович.
– А за что же ты ратуешь?
– Я ратую за то, чтобы не учить учителя. Иначе он поставит тебя в угол или выгонит из класса.
– Ну и пусть выгоняет!
– Ты, я вижу, ничего не понял.
– Понял! Понял! – горячился сын. – Ты хочешь, чтоб я у подлого времени, у твоего непорядочного учителя, получал за свое поведение пятерки?
– А тебя больше устраивают колы… дыба?
Направление Андреевых мыслей всерьез пугало Мирона Александровича. Может, поэтому он так страстно желал, чтобы сын – пока не стряслось непоправимое – уехал из России. Уедет и утихомирится. Там, в укромной и тихой Швейцарии, время не так слепит глаза, не так бередит раны. А у Андрея их хоть отбавляй.
Каждый пустяк, каждая мелочь выводит его из себя, восстанавливает против всех и вся, разжигает ненависть и нетерпимость.
Дорский, бывало, целыми днями бился над тем, чтобы доискаться до причины его неуживчивости и непримиримости. Он даже обращался за советом к своему другу доктору Гаркави, но Гаркави остался верен себе: ответил коротко и бесцеремонно:
– Причина – ты.
– Я?
– Не я же…
– Изволь объяснить!
– Уже на второй день после его рождения ты вознамерился из него сделать поборника православия. А он, может, хотел стать раввином.
– Мне нужен совет врача, а не заядлого палестинофила.
– Я и говорю как врач, – отрезал Гаркави. – Разве с тобой еще можно говорить, как с евреем?
Как ни странно, но Гаркави попал в точку. До десяти лет Мирон Александрович скрывал от сына, что он, Дорский, выкрест. Просто-напросто не видел в таком признании никакой надобности, нечего баламутить ребенка, пичкать его воображение будоражащими сведениями. Подрастет – узнает, не узнает – не беда. Тем паче, что Андрей никакого интереса к своему генеалогическому древу не проявлял, собирал с него плоды и был счастлив.
Но однажды он пришел из гимназии, весь зареванный, в синяках, в изодранном на локтях пиджаке.
– Что случилось, Андрюша? – перепугалась Кристина.
– Ничего, – ответил Андрей и проследовал в кабинет отца.
– Что с тобой? – обескураженный Дорский встал из-за письменного стола.
– Ничего.
– Кто тебя так разукрасил?
– Никто.
– Я этого так не оставлю…
– Больше я в гимназию не пойду, – заявил Андрей.
– Это еще почему?
Андрей нахмурился и, помолчав, продекламировал:
Шел по лестнице жидок,
Нес кошерный пирожок,
Эй, ребята, все сюда!
Свалим с лестницы жида!
Мирон Александрович во все глаза смотрел на сына и бессмысленно вертел в руке пресс-папье.
– Все? – выдавил он.
– Все.
– Чье это сочинение?
– Не Пушкина, конечно.
– Я спрашиваю: чье это сочинение? – побагровел Мирон Александрович.
– Шаликевича. Доволен?
– Шаликевича? Я такого не знаю.
– Он говорит, что ты еврей.
– Дурак!
– И что я еврей.
– Нашел кого слушать – дурака!
– Это правда?
Дорский подавленно молчал.
– Это правда? – повторил сын.
– Ты не расстраивайся… не расстраивайся… – выдохнул Мирон Александрович.
Каждое слово Дорский повторял по нескольку раз, как заклинание.
Андрей стоял перед ним, чужой, неожиданно повзрослевший. Он вдруг отшвырнул ранец, схватился за прореху на локте, рванул ее и разодрал рукав до самой кисти.
Целую неделю он в гимназию не ходил и с отцом не разговаривал.
Желая задобрить сына, Мирон Александрович купил ему ручные часы с золотым браслетом.
– Ну как этот дурак Шаликевич? Больше тебя не дразнит? – осведомился Дорский после того, как сходил к директору гимназии и, испытывая вполне понятную неловкость, попросил оградить его сына от гнусных и унизительных нападок, влияющих на успеваемость и на неокрепшую, подверженную нежелательным преувеличениям психику.
– Нет, – ответил Андрей. – Но лучше быть дураком, чем евреем.
Мирон Александрович не ждал благодарности, но и ответа такого не ожидал. Зачем же делать из хамства однокашника такие скоропалительные и беспочвенные выводы? В жизни, Андрюша, придется услышать слова и пострашней, и позабористей. Если на каждое хамство реагировать, то и свихнуться можно.
Но как ни старался Мирон Александрович сгладить впечатление от случившегося, в его отношениях с сыном наступил какой-то перелом, мало заметный, но существенный сдвиг к отчуждению.
Дорский не мог простить себе минутную слабость, то, что бессмысленно вертел пресс-папье вместо того, чтобы обнять сына, посадить рядом, поговорить по душам без всяких увиливаний и утайки. Так, мол, и так, Андрюша.
Не мог он себе простить и того, что послушался Кристину и десять лет скрывал от родного сына правду. С сокрытия правды все и начинается, сетовал Мирон Александрович, хотя и она, эта вожделенная, столь искомая правда, – не панацея и давит, душит, коверкает похлеще, чем ложь. Это только доктор Гаркави говорит своим больным правду. Но сколько их у него – сотни, от силы тысяча, а по каждому дому, по каждому городу и деревне бродят миллионы больных, единственное спасение которых – неведение. Кто не ведает, тот здоров. Кому, кому, а ему, Мирону Александровичу, это доподлинно известно. «Клянусь говорить правду, всю правду». Ха! За всю свою тридцатилетнюю практику он ни разу ее не слышал ни от подсудимых, ни от свидетелей, ни от судей. Вся правда? Ха! Вся справедливость? Ха! Вся человечность? Ха! Ха-ха-ха!
Мирону Александровичу безумно хотелось, чтобы его даровитый, обученный еще в детстве французскому сын, его опора и надежда, рос здоровым.
Но тот злополучный день, тот отвратительный, бог весть кем сложенный стишок, все смешали, опрокинули, отравили.
Желая как-то приблизить к себе сына, Мирон Александрович года через два, когда неприятный инцидент в гимназии вроде бы был забыт, взял его с собой в суд. Дело было прелюбопытнейшее и, как клятвенно уверял Дорский, беспроигрышное. Почему бы сыну не быть свидетелем его триумфа, его блестящей победы над Туровым и Чистохваловым?
Но дело Дорский начисто проиграл.
– Свалили с лестницы жида, – прошептал Андрей, выходя из зала.
– В суде проигрывают даже присяжные поверенные – князья, – сдерживая ярость, ответил Мирон Александрович. – Это самая обыкновенная судебная ошибка!
– А тебе, пап, не кажется, что это мы – ошибка… Мы…
– Мы! Мы! – закричал на четырнадцатилетнего Андрея Мирон Александрович. – Ты не «мы», а «они». Заруби себе на носу – «они»!
Погруженный в свои невеселые, ставшие теперь каждодневными, размышления, Мирон Александрович подошел к каменным воротам тюрьмы, предъявил свое удостоверение и, оглядывая тюремный двор, по которому серой цепочкой с заложенными за спину руками прогуливались безволосые узники, поднялся по лестнице на второй этаж и в сопровождении надзирателя вошел в камеру. Надзиратель щелкнул ключом и закрыл Мирона Александровича со Стрельниковым.
Дорский наперед знал, что ничего нового он из Стрельникова не выжмет. Тот снова примется рассказывать о своих чувствах, о своем негодовании, помутившем его рассудок и вложившем ему в руки простой резак для хлеба, и эта сказка про белого бычка будет длиться до тех пор, пока тот же вечно заспанный Петр-ключарь не явится за ним и не уведет из одиночки к следователю, или к парикмахеру, или в баню.
Мирона Александровича поражало в Стрельникове то, что было свойственно и Андрею – твердолобое сознание своей правоты, какой-то вседозволенной избранности, полное отсутствие раскаяния. Чего тут раскаиваться, хнычь не хнычь, а каторги не миновать.
Порой Стрельников призывал в союзники Бога, который не вырвал у него из рук резак, следовательно, был заодно с ним, чуть ли не его соучастником. Он, дескать, только исполнял Божью волю.
Спорить со Стрельниковым было бессмысленно, но бредни его натолкнули Мирона Александровича на спасительную, потрясающую по своей простоте, мысль, и Дорский тут же ухватился за нее. Если эксперты признают его невменяемым, то все кончится домом для умалишенных. Помучается бедняга год-другой и выйдет на свободу.
Мирон Александрович всячески поощрял и разжигал его бредовые фантазии, осторожно и ненавязчиво закреплял их в его памяти, чтобы потом на их основе построить величественное и неотразимое здание защиты.
Первая экспертиза, к сожалению, не нашла у Стрельникова никаких нарушений психической деятельности, но Мирон Александрович не отчаивался. Все свои надежды он возлагал на повторное обследование.
– Да нормальный я! Нормальный! Нечего делать из меня безумца! – противился затее Дорского подзащитный.
– Успокойтесь, голубчик. Никто из вас ничего не делает. Поверьте моему опыту, ни присяжные, ни судьи в медицине не петрят. Они – законники, а не медики. А что законникам нужно? Законникам нужна бумага, обыкновенная писчая бумага, испещренная каракулями. Вашему батюшке, правда, придется еще раз раскошелиться.
– Разве и эксперты берут?
– Все, голубчик, берут. Все. Неберущих нет. Есть недающие. Какой прок экспертам в том, что вас отправят на каторгу? Решительно никакого…
– Но ведь их самих могут… туда… – вяло возразил Стрельников.
– Это исключается.
– Почему?
– Потому что никто об этом не узнает. У денег, как и у власти, одно удивительное свойство: они узаконивают все. Только вы мне, голубчик, помогите…
Поразительно, подумал Мирон Александрович, выйдя за ворота тюрьмы. Убил человека, а о жизни никакого понятия. Жить-то, голубчик, трудней, чем убивать. Чтобы полоснуть резаком по шее, большого ума не надо, а вот чтобы прийти утром в лавку и купить каравай хлеба, нужны и мудрость, и терпение, и долгие каторжные годы безропотности и смирения перед изменой, предательством, злом…
В суд Мирон Александрович пришел без четверти одиннадцать, но слушание дела перенесли на конец месяца. Заболел Туров. Что-то частенько он стал прихварывать, мелькнуло у Дорского. Не дай бог, преставится, даже до пенсии не дотянет. А жаль… Хоть и топор, но топор, который зря не рубит. Почитай, двадцать лет вместе оттарабанили. Сводить его, что ли, к Гаркави? У того нюх на хвори, как у стервятника на падаль.
Может, и ему, Дорскому, к стервятнику заглянуть? Домой не хочется.
Решено: к Гаркави!
Мирона Александровича тянуло к доктору. Хоть и доставалось ему на орехи – кому только от Самуила Яковлевича не доставалось! – Дорский отводил в его доме душу. Ему импонировали беспредельное удивительное бескорыстие Гаркави – полгорода лечит даром! – его вулканический темперамент, как лава сметавший на своем пути все – империи, царей, целые эпохи.
После смерти Кристины Мирон Александрович бывал у Гаркави почти каждый вечер – резался с ним в карты, слушал музыку – доктор недурно играл на скрипке, вспоминал молодость – Петербург, неприступных барышень, петергофские фонтаны.
Мирон Александрович в чем-то даже завидовал Самуилу Яковлевичу. Придешь к нему – и понесется вскачь, начнет про резню, про погромы, про лихоимства чиновников.
В прошлый раз он так ошарашил Дорского, что Мирон Александрович и по сей день опомниться не может.
– Боже мой! – распинался Гаркави. – И птицы находят место для гнездовья, и хищные звери имеют свои берлоги. Если скотина служит человеку, то и ее награждают лугами и пастбищами. Червей топчут ногами, но и у них есть убежище в недрах земли. Только нам отмерили столько воздуха, сколько нужно для вздохов, и дали земли только для могилы!
Нет, Гаркави неисправим! Гаркави все видит в черном свете, раздувает все до размеров вселенской трагедии, любой прыщик на теле империи, любую бородавку выдает за смертельную опухоль. Когда-нибудь он еще поплатится за свой язык, и он, Мирон Александрович, не сможет его защитить. Пусть, болтун, выкручивается сам. И Дорский ничего не идеализирует, но зачем все сваливать в кучу? Земли только для могилы? Воздуха только для вздохов? Слова, высокопарные, пустопорожние слова! Кто прошлым летом ездил на Кавказ? Гаркави! Кто целый месяц купался в Черном море, дышал пальмами и кипарисами, ел грузинский виноград, пил восхитительное грузинское вино? Гаркави! Кто купил под Вильно дачу с садом и огородом? Гаркави! Кого зовут на консилиум к супруге генерал-губернатора? Его, Гаркави! Так стоит ли пересаливать? Он, Мирон Александрович, не за аллилуйю, но и против анафемы…
К Гаркави?
В последний момент Дорский передумал.
Надо где-нибудь убить время – до вечера, а может, до ночи. Только бы не домой, в эту роскошную пустыню, на этот необитаемый остров, где, кроме гиганта-еврея с шапкой за пазухой, явившегося к нему из глухомани, из неизвестности, из небытия, никто его не ждет.
Подождет, подождет и отправится к Соколу или Луцкому, поднаторевшим в таких делах, и разминется с ним, с Мироном Александровичем.
Дорский и сам не мог взять в толк, почему ему вдруг захотелось разминуться с приезжим так, как разминулся он сорок с лишним лет тому назад со своей матерью, торговкой рыбой, Златой Вайнштейн, со своим местечком, затерянным среди лесов и погруженным в вечную дрему, в привычный невозмутимый кошмар, и со своим, как бы сказал его наисправедливейщий, архисовременный сын Андрей, народом.
Господи, как еще долго до вечера!
IV
Среди ночи Морте почудилось, будто во дворе знакомо скрипнули тележные колеса. Держа в одной руке керосиновую лампу, она подошла к окну, раздвинула занавеску и уставилась в темень.
Во дворе было пусто.
Морта отошла от окна и, не гася лампу, вернулась в неуютную, вымершую горницу.
Свет лампы вырвал из темноты допотопный громоздкий комод, серебряные подсвечники, надраенные до блеска перед Пасхой, дубовый стол с крепкими и толстыми, как пни, ножками, покрытый чистой, постиранной к празднику, скатертью, стенные часы с тяжелым, как грузило, маятником, с круглым, как поплавок, циферблатом, удившие в мутной реке мрака время.
За окном полуночничал скиталец-ветер, и Морта прислушивалась к нему сторожко и благодарно.
Когда ей вконец стало невмоготу от темноты и одиночества, Морта поставила на стол лампу, вышла во двор и, спотыкаясь об обломки кирпича – Ешуа осенью перекладывал печь, – об обручи рассохшихся и развалившихся бочек из-под селедки, об опрокинутую пьянчугами дровяную колоду, добрела до конуры.
Собака спала.
То был тот самый пес, которого Морта восемь лет назад по велению Ешуа привела в корчму с кладбища после похорон наложившей на себя руки Хавы.
– Чернушка! – позвала Морта.
Собака сквозь сон услышала ее голос, завозилась, высунула облитую темнотой, как смолой, морду, дружелюбно тявкнула и выползла на животе из конуры.
Морта отвязала ее и виновато прошептала:
– Разбудила я тебя… Прости… Пойдем, расскажешь, что тебе снилось…
И повела в дом.
Узнай про такое Ешуа, он бы ей задал! Это, мол, не дело, это, мол, фуй!.. Сегодня – собаку впустила, завтра курей приведешь, а послезавтра – лошадь. У каждой твари свой дом – фуй!.. Фуй, фуй!.. Стены у каждой твари разные, а дом – один, земля наша, Ешуа!.. И коли одной какой-нибудь твари худо, почему бы ей не кликнуть, не призвать на помощь другую. Глядишь, отляжет от сердца, сгинет тоска.
Собака сидела напротив Морты, смотрела на нее усталыми, преданными глазами, щурилась от света керосиновой лампы и ждала не то угощения, не то приказа, не то ласки.
– Что ж тебе, Чернуха, снилось?
Чернуха завиляла хвостом, как бы отвечая виляньем на вопрос хозяйки.
– Понятно, – промолвила Морта. – Тебе снилось, будто ты маленький щенок, да?
– Да, – хвостом ответила Чернуха.
– Будто у тебя два брата…
– Да. – И снова исповедальный взгляд, и снова искреннее и согласное вилянье.
– Будто пришли солдаты и забрали их… и увезли за тридевять земель… в Сибирь… и осталась ты одна среди кур и гусей во дворе корчмы…
– Да.
– Одна… совсем одна… И не понимаешь ты ни их кудахтанья и ни их гогота… и вот ты уже собака, взрослый пес, тебя кормят и холят, тебе построили расчудесную конуру… с теплой печью… с погребом, где всякая всячина… с серебряными подсвечниками… с занавесками на окнах… и ты уже не лаешь, а кудахчешь и гогочешь, как они…
Собака слушала, слова Морты убаюкивали ее, исповедальный взгляд Чернухи постепенно гас, затягивался, как бельмом, дремотой, она прерывисто задышала и, уверившись в безнаказанности, растянулась у ног хозяйки и застыла, свернувшись калачиком. Пресвятая дева Мария, что я тут наплела, подумала Морта, и ей стало еще тоскливей.
Но куда же он пропал? С ним раньше никогда такого не бывало. Коли говорил: вечером приеду, вечером и приезжал. Может, ограбили? Может, избили до смерти? Нет, нет, теперь Ешуа даже мертвый приползет.
До вечера терпеливо ждала, думала – объявится, а ночью?.. Ночью и спросить-то некого. Не бежать же на ночь глядя на развилку к Семену. Да и что он, юродивый, знает?
Она дождется утра и, коли утром Ешуа не вернется, сама поедет в Россиены и разыщет его.
Но до утра еще – Господи ты, боже мой! До утра еще целых шесть часов.
Куда же деться?
Чернуха зарычала во сне и тут же замолкла.
– Куда же деться? – обхватив живот, вслух сказала Морта.
Ребенок торкнулся в чреве. Морта почувствовала толчок и, поглаживая живот, улыбаясь, продолжала:
– Ты слышишь меня?
И тут же ощутила еще два толчка, только более долгие и настойчивые, чем прежде.
– Ради бога, не торопись, – прошептала она. – Полежи еще немного… всю зиму лежал спокойно, а весной, весной зашевелился… как листочек… как теленочек… – скорей, скорей из хлева!.. Потерпи!.. успеется… Дай травке подрасти, дай солнышку разогреться!
Ребенок как будто внял ее просьбе, и толчки прекратились.
Морта взяла со стола керосиновую лампу и, оставив в горлице спящую собаку, осторожно, так, как обычно шла по воду, направилась в спальню. Лампа осветила новую, сделанную по заказу кровать из красного дерева с высокой резной спинкой, упиравшейся в побеленную стену.
Морта взбила подушки, тоже новые, но не легла, а только присела на краешек кровати.
Все в спальне было не так, как при Хаве.
Даже пол перестелили, покрыли оструганными, пахнущими лесом досками, покрасили городской липучей краской, поблескивающей в темноте, как глазурь на пироге.
Единственное, что осталось от Хавы, было зеркало.
– Пусть останется, – сказала Морта. – Я все равно в него не буду смотреться.
– Почему?
– Не буду, – заупрямилась она. – Посмотришься и еще не то увидишь.
– А кого, кроме себя, в нем можно увидеть? – полюбопытствовал корчмарь.
– Кого?.. Да мало ли кого…
Ешуа только осклабился.
Морта сидела на краешке кровати, и живот у нее всходил из-под платья, как солнце.
Когда еще она не помышляла о переходе в другую веру, когда еще надеялась на чудо, что из далекой Сибири, отбыв неправедное и жестокое наказание, вернутся ее братья-близнецы Пятрас и Повилас, старуха Шмальцене, эта змея подколодная, эта ханжа и святоша, прошипела в праздник тела Господня на паперти:
– Урода от них родишь! С головой птицы и ногами зверя!
Урода?
Морта снова погладила живот. Нет, у ее дитяти все будет, как и у всех: и голова, и ноги!
Она подкрутила фитиль, поставила лампу в изголовье и, не раздеваясь, сомкнула припухшие веки, и снова ее мысли, сбивчивые, растревоженные, пустились вдогонку за телегой, за гнедой, за Ешуа.
Хоть и не верила Морта в недоброе пророчество Шмальцене, каждая заковыка и каждая неудача приводила ее в трепет, в невыразимое состояние суеверного страха перед тем, самым главным днем жизни, когда от ее плоти, от ее крови отъединится маленький писклявый росток, дарованный ей за муки и долготерпение.
Случись что-нибудь с Ешуа, ловила она себя на мысли, и ноги ее тут не будет. Возьмет ребенка и уйдет куда глаза глядят – может, в Латвию, может, в Германию – чтобы никто не посмел заподозрить, что понесла она от старика из корысти, из желания заграбастать его добро, стать единоличной хозяйкой корчмы, погубившей ее молодость, развеявшей по угарному похмельному ветру лучшие ее годы.
С головой птицы и ногами зверя?
За что же?.. Чем же она так провинилась? Она, почти до сорока лет не знавшая, не отведавшая того, чему Господь дал название – мужчина.
Тискали ее и лапали, хлопали по спелым ягодицам, целовали бесчувственными пьяными губами, но никому – ни Семену, ни Ешуа, ни кому-нибудь другому не открыла она своего улья – не для трутней ее мед, не для прохожих ее соты…
Морта сидела на кровати, поглаживала живот и строила разные догадки о причинах столь долгого отсутствия Ешуа, и ночь, медленно ползущая к утру, весенняя ночь без звезд и звуков – если не считать негромкого бормотанья ветра – придавала ее догадкам что-то неумолимое и роковое.
Она погружалась в нее, как в бездну, и оттуда, из бездны, выбиралась на край обрыва, и с него, с края, вглядывалась в то, чего простым глазом не узреть, рукой не достать, к чему не дойти и не дотянуться.
Морта обращалась в мыслях к ним – к елозившему, как телок в хлеву, ребенку, к старой, вечной, как корчма, лампе под стеклянным колпаком, к прикорнувшей в горнице Чернухе. Они должны были помочь ей не только скоротать ночь, но и отодвинуть, стереть, рассеять, пустить по ветру все страхи, все недобрые пророчества и предсказания.
Бог, думала она, карает оборотней, и кара его неизмеримо больше, чем милость. Ребенок, конечно, милость, но какова будет кара?
Вдовство? Сиротство?
Голова птицы?
Ноги зверя?
Мысль о том, что она может родить урода, ужасала ее, выстуживала обремененное неугомонной ношей тело, впивалась в виски, как клещ, и выклевывала из головы – по крохе, по зернышку, по семечку – все, во что верила, чему столько лет безропотно поклонялась, стоя где-нибудь в углу местечкового костела и глядя на распростертого над алтарем Спасителя.
Как объяснить ему, вершащему свой суд в недоступных и грозных небесах, что не перевернулась она вовсе, не оборотилась, а осталась такой, как прежде, не святой, но и не ведьмой. Какая разница: отверженная христианка или не обласканная судьбой еврейка, раба-хозяйка или просто раба? Все равно терпи насмешки, получай пинки, увертывайся от плевков! Все равно стирай, латай, стряпай, тащи, нагружай!
Может, кара его безгранична потому, что он – не человек?
Только человеку дано все испытать на собственной шкуре.
А у него, вершащего свой суд в недоступных и грозных небесах, нет ни шкуры, ни горба.
Раны его зажили, зарубцевались. Кровь запеклась.
Ему – да простится ей такое кощунство! – не больно.
А ей, смертной, больно.
Не за себя – за всех, родившихся и не родившихся.
За Семена, ждущего на развилке Мессию, и за проезжающих мимо него с базара или на базар.
У нее кровоточит то, что никогда не заживет, не затянется коростой, – душа.
Еще сызмальства она, Морта, знала: с судьбой не поторгуешься. Назначит цену – и плати: неволей и безумием, головой птицы или ногами зверя. Но что бы ни случилось, какую бы судьба не назначила цену, Морта старалась платить любовью.
А что такое любовь, если не боль?
Что такое вера без боли?
Тот, кому не больно, ни во что не верит – обманывает себя и Всевышнего ради лишнего червонца, ради лишней десятины земли, ради дьявола, из корысти объявленного Богом!
Голова птицы и ноги зверя?
Теперь, в отсутствие Ешуа, Морта как бы вся состояла из такой, плотной и упругой, тысячеглазой и пронзительной боли.
Так, сразу же после новообращения она потребовала от Ешуа, чтобы тот более чем наполовину уменьшил продажу водки.
– Что? – опешил корчмарь. – Одну бутылку, и только?
– Грех наживаться на несчастных.
– Да, – промямлил Ешуа, – но люди требуют… Не дай – разнесут корчму в щепы.
– Ну и пусть разнесут.
– Что ты, Мортяле, говоришь? Ты только подумай: кто мы без корчмы?.. Нищие…
– Милей нищий, чем богач, от которого за версту чужой блевотиной несет.
– Ладно, ладно, – трудно согласился Ешуа.
Перечить Морте он не смел. Хоть и сказано в Писании: «Да убоится жена мужа своего», но Морта была женой необычной, среди тысячи только одна такая, может, и попадется – никакими изречениями из Писания ее не проймешь, ссылайся на него, не ссылайся, сделает по-своему, и все.
Первое время, до ее беременности, пока Морта крутилась в корчме, Ешуа ни распивочно, ни на вынос больше чем бутылку белого вина не давал. Торгуя почти всю свою жизнь водкой, он и представления не имел, что это такое – выпить целую бутылку. Если бы ему приказали выдуть зараз столько, он бы, наверно, с лавки не встал, окачурился на месте, а им, этим несчастным, хоть бы хны, словно не горькая на столе, а кружка родниковой воды или парного, только что из подойника, молока. И так изо дня в день, из года в год, с молодости до старости – сосут ее, как грудь матери, до гроба!..
– Ты что? – честил, бывало, его отставной солдат Ерофеев. – Сколько хотим, столько и пьем. Твое дело – наливать.
– Не могу, – угождая Морте, отвечал Ешуа. – Водки нет. Кончилась.
– Не ври, старик. Водка никогда не кончается. Никогда. Царь и водка всегда имеются, и слава богу.
– Нет, – злился Ешуа. – Выпил одну, и хватит. Ступай домой – жена, небось, глаза проглядела.
– Не будет водки – корчмы не будет, – пригрозил Ерофеев. – Подпустим красного петушка, и аминь.
А что? И подпустят, и спалят, как москательную лавку Нафтали Спивака, разорят до нитки, и насыпь им соли на хвост, лови ветра в поле – кто их с Мортой приютит, кому они, погорельцы, нужны?
Ешуа жаловался ей, рассказывал про угрозы, но переубедить Морту не мог.
Попозже, когда живот у нее округлился и она перестала заглядывать в корчму, избегая пьяных шуток и боясь сглазу, Ешуа, напуганный недовольством своей паствы, стал пускаться на всякие хитрости, чтобы и овцы были целы, и волки сыты: прятал пустые бутылки, приносил новые, иногда наливал водку в миски, потом бегал к колодцу и второпях отмывал с них сивушный запах.
Там, у колодца, за мытьем провонявших спиртным мисок Морта его и застукала.
– Ты хочешь, чтобы у нас родился урод… с головой птицы и ногами зверя? – спросила она.
О чем она, не сообразил Ешуа. О какой птице, о каком звере?
Он покаянно смотрел на Морту, на горочку мисок, на бадью, не зная, что делать.
– Прости, – наконец проронил он. – Черт попутал.
По виду ее – по щелкам глаз, по повисшим, как плети, рукам, по ногам, как бы врытым в землю, по тяжелому дыханию – как-никак дышала за двоих! – Ешуа чувствовал, что не дождаться ему прощения.
Слова его только выволокли наружу, усугубили ее неприязнь.
Об эту скрытую неприязнь Ешуа обжигался и раньше, особенно в постели, когда Морта вдруг поворачивалась к стене, и не выпотрошенная его ласками, настороженная, заряженная избыточной страстью, застывала до утра, дожидаясь, пока он уснет, захрапит, забудется. В такие ночи Ешуа не смыкал глаз – сомкнешь, мерещилось ему, и она тебя, чего доброго, придушит.
Только наутро, при свете дня, освобождался он от этих подозрений, посмеиваясь над своей бессонницей, старостью, а порой и женитьбой.
Морта догадывалась о его подозрениях, но не торопилась их рассеять – пусть поскребет в затылке, пусть не думает, будто осчастливил ее.
Просто ей хотелось видеть его другим. Каким, она сама не представляла, но раз стал ее мужем, то пусть переменится, это ж легче, чем перейти в другую веру.
– Полоть тебя надо, полоть! – говорила она, охваченная какой-то тихой, сострадательной нежностью.
– Ну и с чего ты начнешь? – отшучивался он. – С бороды или пейсов?
– С головы, – так же шутливо отвечала она.
– Поздно, – басил Ешуа. – Еще тяпки для моей головы не придумали, мотыги не изобрели.
Нет, не поздно, думала про себя Морта, мечтая выполоть из кудлатой головы Ешуа его вечные, изматывающие расчеты, его охотничье пристрастие к добыче – «бедный еврей на Руси трижды несчастней и беззащитней!»
Корчма – вот его враг, вот его губитель, считала Морта. Оторви его от стойки, вылей в Неман или в канаву всю водку из бочек, ждущих, когда их опорожнят, избавь его от этого золотоносного – золотоносного ли? – смрада, и он, Ешуа, станет таким, какой есть на самом деле – добрым, отзывчивым, щедрым. За такого она, Морта, и вышла, из-за такого решилась поехать к Ерухаму, от такого понесла и родит не урода, не птице-зверя, а человека. И не желает она, чтобы ребенок ее с колыбели, с малолетства дышал отравой, видел эти исковерканные хмелем рожи, слышал эти похабные зловонные слова. Не желает! Уж если Ешуа так, позарез, хочется чем-то торговать, пусть торгует тем, что не губит, а помогает жить – семенами, боронами, плугами. Да мало ли чем можно торговать на белом свете, кроме водки?
Каждое семя, которое взойдет, каждый колос, который зашумит, каждая борозда, которая проляжет в поле, там, возле ее родной деревни, будет не в укор им, а в радость. А что за радость от того, что кто-то на ногах не стоит, от того, что кого-то выворачивает?
Морта так и сказала Ешуа.
– За водкой приходят каждый день. А плуг и борону покупают раз в три года, – печально ответил корчмарь.
Морта молчала.
– Горло, Мортяле, есть у каждого, а вот земли…
– Тогда давай хлебом… только не белой… – глухо предложила она.
– Подумаем, Мортяле, подумаем… у меня у самого корчма в печенках сидит.
Предложение Морты обрушилось на Ешуа, как гром среди ясного неба. Закрыть корчму? После стольких лет трудов, борьбы с бедностью, неизвестностью, недолей! Да он же из-за нее, из-за корчмы, и на Хаве женился! А хабар! А мзда, многолетняя мзда уряднику Нестеровичу, исправнику Нуйкину, любому задрипанному чиновнику, хватающему тебя за грудки и грозящему тебе всякими напастями, если… не помажешь, не задобришь… не подкупишь. «Православный народ спаивает!» Благодетели нашлись, радетели! Только сунь им червонец, и они отдадут тебе тот же православный народ на съедение!
Да понимает ли Морта, что предлагает?
Морта понимала. Она и в Россиены отпустила его, взяв с него слово, что едет он за спиртным последний раз – продаст после Пасхи все запасы: и те, что в погребе, и те, что привезет, и больше никто не увидит его за стойкой, больше никто.
Ешуа нетвердо, со всякими оговорками, пообещал, но Морта добьется своего, она ж теперь не одна, союзник у нее, вот он, дубасит ее своими нетерпеливыми ножками в живот.
Голова птицы?! – снова мелькнуло у нее, и взгляд ее выхватил из темноты лисью морду Шмальцене.
Морта сложила бубликом пальцы и перекрестила угол спальни.
– Сгинь! Сгинь! – прошептала она.
И огляделась.
Лай Чернухи вывел ее из оцепенения.
Собака передними лапами царапала дверь спальни, где все еще, теперь уже в розовом киселе рассвета, горела керосиновая лампа.
Неужели вернулся?
Морта впустила в спальню собаку, отпрянула от ее сдобренной блохами ласки, на непослушных, почти негнущихся ногах доковыляла до окна, прислонила лоб к прохладному стеклу, но там, за стеклом, не было ни Ешуа, ни лошади, ни телеги. И вдруг она с какой-то неизбывной тоской ощутила студеное веяние беды, горькой и неотвратимой, и собственное бессилие, умноженное беременностью.
Ее внезапно охватило желание куда-то идти, почти бежать, только не стоять на месте.
Задув лампу, она в чем была кинулась на развилку, к Семену, единственному человеку, которому могла поведать о своей тревоге – Семен хоть выслушает, какой-никакой, а все-таки сын. Может, свалившаяся беда, – а в том, что стряслась беда, Морта уже не сомневалась – разбудит ото сна его рассудок, и в его больном мозгу, как в потухшей печи, под многослойной, непроницаемой золой безумия вдруг вспыхнет уголек, и от него, от этого уголька, займется то, что и она, Морта, и Ешуа, и каждый встречный и поперечный считают таким естественным, дарованным от роду и неистощимым – мысль.
Раздорожье, на котором целыми днями напролет стоял Семен, разбегалось в три стороны: в местечко, где он родился, в Вилькию и вниз, к Неману, к парому, переправлявшему возы на другой берег, чуть ли не в Германию.
После того как Семен помешался, никто прыщавым его не называл. Редко кто – кроме Морты и Ешуа – обращался к нему и по имени. И имя его, и состояние умещались в коротком, почти божественном слове «он». Оно не только исчерпывало его безумие, но и содержало в себе устойчивое, не меняющееся отношение, складывавшееся из вошедшего в привычку покровительства, испуганного сочувствия и жалостливого пренебрежения. Голос его, высокий, пронзительный, смахивающий на предсмертный клик диковинной птицы, с утра до вечера тревожил ухабистую дорогу, дремотные поля, раскиданные там и сям избы:
– Умрите богачи и бедняки! Умрите воры и благочестивцы! Умрите невинные и порочные! И тогда придет Мессия, воскресит вас и поведет за собой в Землю обетованную.
Призывы его отклика не находили – только эхо вторило им да местечковые мальчишки, бывало, прибегали на развилку и, перекрикивая друг друга, озорно и звонко подхватывали:
– Умрите богачи и бедняки! Умрите воры и благочестивцы! Невинные и порочные!
И после каждого выкрика какой-нибудь сорванец падал, как подкошенный, на проселок.
– Кыш! Кыш! – распугивала их, как коршунов, рассерженная Морта. – Кыш!
– Ничего, – бормотал Семен. – Пусть учатся.
– Чему? – недоумевала Морта.
– Умирать, – отвечал Семен, горбясь и подаивая тонкие, как мышиные хвостики, пейсы.
Она поеживалась от его слов, отводила в сторону опаленный чужой бедой взгляд, и в душе у нее, как одинокий огонек в тумане, высвечивалось что-то далекое, неосязаемое, жалящее. Морта невольно сравнивала того, прежнего Семена, необузданного, дикого, непредсказуемого, с нынешним, тихим, задумчивым, одухотворенным невидимой связью с чем-то запредельным, потусторонним, прикованным только одному ему принадлежащими цепями не к развилке, а к тому, к чему простому смертному даже во сне не приблизиться ни на шаг, ни на минуту, и это сравнение лишало ее преимущества, которым так кичатся разумные существа.
Безумие Семена перемежалось короткими, яркими, как молнии, вспышками удивительного, повергающего в неизъяснимую печаль, просветления, и тогда он казался Морте необыкновенно красивым и привлекательным. С таким она могла бы пойти на край света – только позови, только кликни. Но просветления были не только коротки, но и редки.
Направляясь после бессонной, невыносимо долгой от утомительного ожидания, ночи, Морта вспомнила, как зимой – снег только выпал – Семен, принимая у нее из рук еду, завернутую в холстину, чуть слышно сказал:
– Ты ждешь ребенка, да?
Она была на третьем месяце, и прозорливость Семена ошеломила ее.
– У тебя будет брат или сестра.
– Зачем? – спросил он, чавкая. – Сестра у меня уже была, а брат мне не нужен. Вон мои братья. – И Семен показал на придорожные деревья. – Видишь?
– Вижу, – сказала она. – Ты ешь, ешь!
Она боялась, что он еще что-то скажет – обидное, злое, оперяющееся в его бреду, как цыпленок в скорлупе.
– Ты ничего не видишь, – так же тихо промолвил он. – Ничего вы не видите… даже друг друга… А я вижу все… все… И твоего ребенка… Но я не смогу заступиться за него… Мессия все равно превратит его в волчонка…
– Ты ешь, ешь, – застыв от его слов, прошептала Морта.
От корчмы до развилки было версты две, не больше.
Морта шла не проселком – ни к чему мозолить людям глаза, – а огородами, потом подсохшим на весеннем солнце полем, и луговой простор, пробивавшаяся из-под земли зелень, маячившие в отдалении ожившие перелески, куда она порой вырывалась по грибы или по ягоды, только обостряли ее тревогу. В одну цепочку, в один тугой кожаный поводок вдруг выстроились недавнее заклятье Шмальцене и давние, но не забытые слова Семена.
Голова птицы и ноги зверя?
Волчонок?
Неужто она под сердцем носит волчонка? Господи, сохрани и помилуй!
Поводок страха натирал шею до крови, и не было от него никакого спасения.
Еще издали увидела Морта Семена. Он стоял на раздорожье, и какая-то птица – галка или грач – сидела у него на плече.
– Птаху не вспугни, – пробормотал Семен, когда Морта подошла поближе.
Но птица и не думала улетать. Ей, видно, было хорошо под правым ухом у Семена, она поворачивала свою любопытную голову, озиралась, высматривая бог весть что – то ли муху, то ли, как Семен, Мессию, то и дело долбя клювом рукав поношенного армяка или щеку, заросшую извивающимися, как черви, волосами.
– Отец пропал, – прошептала Морта.
– Тише, – попросил Семен. – Тише. Она видела его.
– Кого? – встрепенулась, как птица, Морта.
– Мессию, – ответил Семен. – Она только что прилетела оттуда… с Земли обетованной… он уже идет… он уже в пути…
– Уехал за водкой и не вернулся, – безнадежно продолжала Морта, коря себя за то, что зря тащилась две версты. Господи, с кем я говорю, сетовала она, глядя на прирученную птаху, безмятежно сидевшую на плече у Семена. Что с ним говорить, что с деревьями или птицами – все одно.
Галка вдруг взмыла с плеча Семена в по-весеннему распахнутое небо, покружилась над развилкой и улетела за лес.
Семен вскинул голову, проследил за ее полетом, благословил взглядом и перевел его на отчаявшуюся Морту.
Та закрыла руками живот, как бы оберегая его от этого взгляда – долота, в котором уже не было и намека на благословение.
– Ты не плачь, – неожиданно сказал Семен.
– Я… я не плачу, – съежилась под его взглядом Морта, превращаясь в комочек меньше той, взмывшей в поднебесье, галки.
– Плачешь… Все слезы высыхают, кроме этих… потому и нельзя их скрыть…
– Кроме каких? – принудила она себя спросить.
– Этих… невидимых… Они текут у тебя из глаз… И у птиц они текут, и у деревьев… И я утираю их, и деревья и птицы утирают мои, и нам весело страдать вместе… Дай я утру!..
И Семен протянул к ней руку. Но насытившись словами, запустил ее в волосы под ермолку и почесался.
Морта собралась было в обратный путь, но услышала скрип колес. Телега катила из местечка, и издали было трудно различить, сколько в ней седоков.
Поначалу Морте показалось, что только двое, но когда воз приблизился, она, кроме урядника Ардальона Игнатьевича Нестеровича, лавочника Нафтали Спивака и парикмахера Берштанского, увидела еще двоих – синагогального служку и солдата с ружьем на коленях и самокруткой в зубах.
Когда телега поравнялась с ней и Семеном, Морта, обращаясь неизвестно к кому, спросила:
– Куда вы?
– Да уж, наверно, в острог. На Пасху, – бросил парикмахер Берштанский, но, поймав сердитый взгляд солдата, замолк и привалился к грядке.
Солдат обдал его, как презрением, махорочным дымом.
– В Россиены мы, – снизошел правивший лошадью Ардальон Игнатьевич.
Но и он больше не проронил ни слова.
Синагогальный служка тер слезившиеся на ветру глаза, а Нафтали Спивак, вытащенный, видно, из теплой постели, походил на бескрылого филина – рад бы взлететь, да не может.
– Возьмите меня! – плетясь за телегой, проговорила Морта.
– Не велено! – прогудел солдат, натужно выдувая изо рта и ноздрей бело-голубые колечки дыма.
– Жена она, – прошамкал Нестерович, пытаясь умаслить стражника, – ну этого… корчмаря… Может, возьмем, а? – И, не дождавшись ответа, бросил Берштанскому: – Подвинься!
Парикмахер подвинулся, а синагогальный служка, перевесившись через грядку, помог беременной забраться в телегу.
Откуда солдат знает Ешуа, мелькнуло у Морты. Он до сих пор никакого дела с солдатами не имел.
За Видукле, в каких-нибудь двадцати верстах от Россиен, молчавшая всю дорогу Морта спросила по-еврейски:
– Стряслось что?
– Разговорчики! – насупился солдат.
– Господи! – вырвалось у Нафтали Спивака.
– Разговорчики!
– Ну и дожили! Даже с Богом нельзя!..
– Я покажу тебе Бога, морда, – ощетинился стражник и для острастки приподнял ружье.
Ардальон Игнатьевич Нестерович, который дохаживал в урядниках последние дни – после Пасхи его должен был сменить другой, построже да и помоложе, из Вилькии – участливо глядел на Морту, на погорельца Спивака, на парикмахера Берштанского, стригшего и брившего его почти что четверть века даром, за ради уважения к начальству, на чахлого синагогального служку, не забывая и про свою должность возницы, тускло отражавшую заходящее солнышко его прежней службы, пусть не ахти какой, но все-таки царевой.
Во дворе россиенского острога солдат высадил арестованных и, держа ружье наперевес, погнал их к одноэтажному каменному дому с крохотными, как скворечники, окнами.
Морта увидела во дворе привязанную к колышку гнедую, телегу, на которой Ешуа возил свой доходный и безнаказанный товар, и, удивляясь собственной смелости, ринулась к ней, как будто лошадь могла рассказать ей больше, чем все ее вымокшие в тихом и безропотном молчании попутчики; чем постаревший, похожий на осмоленного гуся, Нестерович и этот солдат, ружье которого всю дорогу упиралось в ее благодатный, как весенняя пашня, живот.
– Кузя! Кузя! – прошептала Морта.
Лошадь повернула голову, и в ее огромном зеленом глазу сверкнула слеза.
Сверкнула, покатилась по морде и затерялась в шерсти.
– Будет на чем вернуться домой, – услышала Морта за спиной голос урядника.
– За что его?.. За что? – спросила она.
– Да вроде бы… мальчишку зарезал…
– Это правда, Кузя? – задыхаясь, выдавила Морта.
Лошадь плакала.
V
Как еще далеко до вечера!.. Надо же было Турову не вовремя захворать! Могла же у него кровь хлынуть горлом в другой день или после слушания дела. Слушание, наверно, заняло бы часа три, не меньше, а с вынесением приговора и все четыре. Четыре часа в суде, час на скачках – глядишь, день и пролетел, и смерклось, и звезды высыпали. Такого звездного июня Мирон Александрович что-то не упомнит – поднимись на Крестовую гору, подставь ладонь и собирай небесное подаяние.
А теперь не то что до звезд – до полудня еще ого-го!
Куда же деться?
К кому – если не к Гаркави – пойти?
В Заречье, к Андрею?
Придет туда и от пани Мочар услышит: нету его, забрали, увели в наручниках.
Сколько раз Мирон Александрович зарекался не ходить к сыну – ноги моей в твоем свинарнике не будет! – но через неделю, через две гнев его улетучивался, и Дорский, давясь от отвращения и затыкая указательными пальцами чувствительный ко всякой вони нос, шмыгал в сырой, продуваемый сквозняками двор и по витой, сумасбродной лестнице поднимался в убогое жилище сына мимо ошарашенной пани Мочар, усатой особы с увесистыми, как цирковые гири, грудями, в потертом плисовом салопе, подозревавшей в нем кого угодно – филера, мужеложца, карточного шулера, но только не отца.
Предлагал Мирон Александрович Андрею – уж если тому так не нравится собственный дом на Завальной – снять угол подороже и попросторней, обещал помочь деньгами – зачем мне столько? – но сын с каким-то упоительным упорством отвергал все его предложения.
– Мне и тут хорошо.
– Тебе хоть на свалке, но только не вместе, – сетовал Дорский и истязал себя одним и тем же вопросом: ради чего его сын, единственный его наследник, променял все на эту дыру, на эту обшарпанную комнату, которую купеческая вдова пани Мочар сдавала гулящим барышням и иногородним гимназистам.
В отместку?
Но разве столь обожаемые Андреем Бакунин и Маркс жили в конуре, мстили своим родителям вонью и неуютом?
Бунтовать можно и в собственном доме на Завальной, где есть ванная и туалет, пуховые одеяла и перины. Будь ты трижды бунтовщик, мыться-то поутру все равно надо. Никакая революция не отменит ни мыло, ни воду.
Чего же ради прозябать на чердаке и пасти на себе клопов? Неужто их укусы могут на час, на минуту, на секунду приблизить желанное время всеобщего благоденствия? Может, начинать надо не с ниспровержения батюшки-царя, а с них – по клопику, по тараканчику вывести всю нечисть и оглянуться, авось на белом свете все и переменится к лучшему.
Но Андрею все нипочем. Шагая вдоль вертлявой Вилейки, прислушиваясь к ее ребячливому журчанью, Мирон Александрович вспоминал прошлое лето, когда его вызвали не куда-нибудь, а в охранку к ротмистру Лирову, и от этого воспоминания у него снова накипала утихшая было злость на сына.
1
Адвокат (польск.).
2
Раны божьи (польск.).