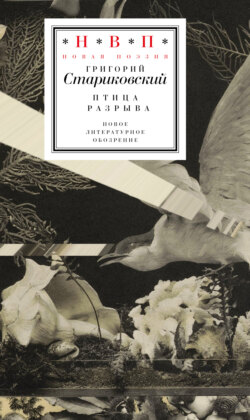Читать книгу Птица разрыва - Григорий Стариковский - Страница 3
Часть первая
Оглавление«говорить на кровельном, пригородном, с накипью…»
говорить на кровельном, пригородном, с накипью
ржавчины, одноярусном, снегоуборочном, –
тусклым наклоном лестницы,
легкостью алюминия.
речь – это бедная вещь шерстяная,
носи её вместо варежек, шапочки
лыжной, обмотай свое горло
словом дальнего следования.
«так голоса плывут…»
так голоса плывут,
как тишина в ведре,
и серый день скользит
по ободу его.
по образу его
над бельевой доской,
здесь тоже всюду жизнь,
и рукава чадят.
здесь тоже мятый воск
пустых воротников,
а пена – это песнь,
и боратынский – бог,
и нет других богов,
которые себя
вместили бы в себе
и выстояли над
зрачком слепой воды,
как этот талый снег,
выслаиваясь вслух
и вечерея вдаль.
«ловец шагов, глодатель холодов…»
ловец шагов, глодатель холодов,
обозреватель кровель, клочьев дыма,
автомобилей, льющих ближний свет
по дождевым обочинам, по стенам,
асфальт, асфальт, ты мой щербатый брат,
я тоже в трещинах лежу и вижу
кривую шляпу мусорного бака,
сутулое, как над пустым столом,
склонившееся небо и ржаной
февральский воздух, хоть ножом отрежь
или культей фонарной.
«где утром черный снег лежал…»
где утром черный снег лежал,
там хлюпает вода земли,
как незаконченное что-то,
а мне законченной не надо,
я шерсть люблю и запах шерсти,
и напряженное вниманье
питомицы, скулящей вверх,
где между влажными ветвями
висят, как глиняные чаши,
вороньи гнезда.
«голос птицы, порхнувшей насквозь…»
голос птицы, порхнувшей насквозь,
легкие звенья, пытливые линзы льда,
шепот подошв, всходит нá гору ржавчина
одноколейки. лестница, только держись,
злая собака летит по ступеням, –
отпрянуть, взобраться на замшелый валун,
человек – это то, что не рвется,
пока не порвется совсем. хорошо
и неветренно здесь, подвывает весна,
и на рыхлом снегу, шелудивая, пустит
слюну, и качается солнце, как вальс № 2,
до слезы пробивая тебя, до слезы.
«я в лес вошел, и был он внятен…»
я в лес вошел, и был он внятен,
и барбарис прозрачно-строг,
я злые ягоды заметил,
алеющие на восток.
нетронутая паутина
легко рвалась, велосипед
проехал мимо, над камнями
висел, как выдох, водопад.
я сам листаю эту осень
с мучнистым солнцем вдалеке,
и мне не нужно встречных жизней
с собачками на поводке.
«за штакетником начинается немота…»
за штакетником начинается немота,
трется брюхом о мерзлый грунт,
голосит губами, стертыми в сизый мох,
точит мертвые трещинки поручней.
я умею сказать только «о» сказать,
изобразить застывший неточно звук
и повесить его на гвоздь, на крюк,
этот бедный овечий летучий клок.
«солнце выгорит дочиста…»
солнце выгорит дочиста,
но припомнится запах,
тонкий воздух пунктирный,
простреленный птицей случайной.
доски снегом облеплены, но
нарушилось важное что-то;
бриз, его толстогубый порыв
отдает хрусталем или хрустом.
замечательно всё, что не мы,
а другое, делимое взглядом
на белесую пеночку льда
и скупое свеченье проталин.
«как туман туману видится…»
как туман туману видится, –
белой тенью, лошадиной мордой,
шерстяною вещью на снегу?
ветошь смотрит ветоши в лицо,
в скулы лодок перевернутых,
в выпуклость облезлых днищ.
мы идем сквозь персть молочную,
трогаем губами вещество
общего дыхания, скажи мне,
как тебя теперь зовут, родная,
невидимка, стертая как будто
тряпкой плюсовых температур?
«не надо, чтоб этот дым входил…»
не надо, чтоб этот дым входил
в голодную дверь зимы,
облизывал стены и долгую ночь
сладким узлом вязал.
ты такая даль, что на рукаве
аква крови, как моль звезды,
так соломенный малларме
режет фразу, делит ее на две.
o rus, кто кого перестоит на одной ноге,
вымолчит на одной губе
неопалимую ветку «э»,
дохлую укву «ы».
ночь густа, как гречишный мед,
мокрый летит по диагонали снег,
дай еще побыть, не уйти под лед,
почини голубиный свет.
«на развилке возня муравьиная…»
на развилке возня муравьиная,
зализы, приливы точечной жизни,
комар подпевает, трудится, тянет
кровь, насыщается мной.
высокое дерево с гладким
стволом, кроме гарри-и-мэри,
ножичком вырезал гарри,
он любит мэри, теперь
каждый скользящий по склону
знает, что гарри-и-мэри
пишутся слитно, они вживлены
в горькое мясо ствола.
спой мне, куколка-мэри,
о чем-нибудь прочном,
светящемся тканью древесной, –
под комариную жажду,
сквозь картавое имя свое.
«вот куст, и он неотделим…»
вот куст, и он неотделим
от обруча воскресших губ,
необрываемого «о», –
о куст, о в горле веток ком,
о боратынский бедный опыт,
обглоданное «о» куста,
о камень, я хотел быть камнем,
чтобы сказали, это – камень,
лежит державиным, но я –
одна из этих мокрых веток,
кривых, облупленных, ненужных,
и разве что весной несрочной
усядется здесь птица фет
и запоет.
«ленивый снег в каком-то пёсьем виде…»
ленивый снег в каком-то пёсьем виде
зализан на загривке и боках,
следы ботинок – сладкие зевки,
остановись, порыв исчезновенья.
дай лапу мне, непрожитое поле,
и распахни, как звенья скулежа,
ряды деревьев, но что там на самом деле,
на горизонте, лес или межа,
или фаланга фермерского сада
и дом с венком омелы на стене,
или кладбищенский забор, отсюда
не разглядеть, да и не надо мне.