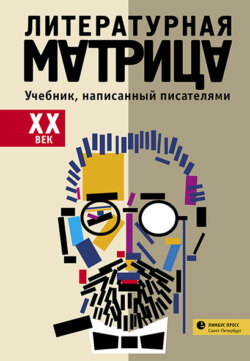Читать книгу Литературная матрица: учебник, написанный писателями. ХХ век - Вадим Левенталь, Группа авторов - Страница 3
Аркадий Драгомощенко
Одна-единственная нить ковра
ОглавлениеАнтон Павлович Чехов
(1860–1904)
Ранней весной 1985 года мне довелось попасть на спектакль Питера Брука[1] в Бруклинской академии музыки[2]. Шел «Вишневый сад». Пьеса, которая, несомненно, уступает в популярности «Чайке», «Дяде Ване» или «Трем сестрам», что отчасти всегда придавало ей ореол загадочности, – и здесь следует добавить, что в бытность студентом театроведческого факультета я однажды вознамерился писать курсовую работу о драматургии Чехова и по сию пору досконально помню, каким в итоге непреодолимым препятствием оказался именно «Вишневый сад». Известное высказывание Чехова о повешенном на стену в первом акте «ружье»[3], которому до́лжно выстрелить в последнем, неизъяснимым образом никак не «срабатывало» в отношении пьесы «Вишневый сад». Даже для неискушенного читателя это произведение являет собой нечто вроде целого пантеона никогда не паливших «ружей». Более того, порой в некоторых еретических умах возникает гипотеза, что в некоем «там», в цветущем пространстве чеховского сада, вообще нет последнего акта…
Задача драматургического анализа (полагаю, на театроведческих факультетах таковая дисциплина существует и поныне) заключается в том, чтобы скрупулезно реконструировать все причинно-следственные связи, прояснить мотивации действующих лиц (проще говоря – их микробиографии) и на этой основе в итоге сплести ткань возможного их взаимодействия, а затем и представления в целом.
Во всяком случае, подобной «дорожной карты» требуют основы метода Станиславского[4] – и для ее построения необходимо ориентироваться в синтаксисе обстоятельств, управляющих поведением персонажей.
Осмелюсь предположить, что Станиславскому (как, впрочем, и мне в пору писания той курсовой работы) было неведомо замечание Владимира Набокова касательно того, что сакраментальное условие о «ружье» существенно для хороших писателей, но отнюдь не для гениальных, к каковым принадлежал Чехов[5].
Постановка Питера Брука поразила: чеховская пьеса как бы «о разорении прошлого, терзаниях, наступлении хищного века» или же «о времени, переменах, о безрассудстве и ускользающем счастье» (список интерпретаций достаточно длинен, однако – не бесконечен) была выставлена в «коврах».
Появляясь на сцене, каждый из персонажей раскатывал собственный ковер. Ковры играли роль задников и кулис, ковры использовались в качестве выгородок, разделявших зеркало сцены в тех или иных эпизодах. Ковры разнились в цвете и узоре. Иногда образовывали зыбкие лабиринты.
Метафора, к которой обратился Брук, намеренно очевидна: ковер в своих символических смыслах чрезвычайно многослоен.
Прежде всего, ковер – это сплетение, образ единства различий. У суфиев, мусульманских мистиков, есть бейт (то есть двустишие, содержащее законченную мысль, своего рода сентенцию), в котором говорится о тех, кто «принял одну-единственную нить за целый ковер». Это можно понять как предостережение одновременно и от иллюзии усмотреть полноту там, где ее нет, и от желания лицезреть целостность, не обращая внимания на отдельные детали.
Кроме того, образ ковра адекватен фигуре сада – цветущей сложности перехода, трансформации.
Ведь недаром «ковер-самолет» играет столь значительную роль в древнейших представлениях о связанности мира живых и мира мертвых, реальности и сновидения – представлениях, благополучно перелетевших впоследствии в волшебные сказки детства, чтобы учить воображение не только уноситься, но и соединять несоединяемое, попирая правила гравитации, пространства, времени…
Так ведь театр и есть магическая машина такого перемещения/смещения (изменения мест, точек зрения, самого зрения…) – не удивительно, что Брук с присущей ему проницательностью предпочел для чеховской пьесы именно подобную зримую метафору.
Наконец, раз уж мы упомянули о «ружьях» – так ведь они обыкновенно размещались как раз на настенных коврах, становясь, таким образом, частью декорации, бутафорским реквизитом, в результате чего лишались способности выполнять утилитарную функцию. Но и это еще не все…
Кроме сценографии, в спектакле Брука поразительное впечатление производила еще и речь (ее интонации, мелодика) игравших на сцене.
Актеры едва ли не кричали, неумеренно при этом жестикулируя, словно выступали в площадном балагане. Шарлотта действительно показывала самые что ни есть настоящие фокусы, вплоть до пожирания огненных языков пламени, как если бы балансировала на проволоке commedia dell’arte[6]: «У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. ‹…› Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я – не знаю… ‹…› Ничего не знаю».
А из глубин памяти отчетливо всплывали слова Мережковского, некогда казавшиеся мне весьма точными: «Чехов никогда не возвышает голоса. Ни одного лишнего, громкого слова. Он говорит о самом святом и страшном так же просто, как о самом обыкновенном, житейском; о любви и о смерти – так же спокойно, как о лучшем способе “закусывать рюмку водки соленым рыжиком”. Он всегда спокоен, или всегда кажется спокойным. Чем внутри взволнованнее, тем снаружи спокойнее; чем сильнее чувство, тем тише слова»[7].
Впрочем, в антракте, выйдя с сигаретой на воздух, я подумал было, что знаю, почему актеры «кричат»: постановка Брука словно бы стремилась разодрать ткань пьесы, сплетенную Чеховым из пауз[8], тихих истерик в семейных рамах, сомнамбулических реплик, словом – «простой неаффектированной речи». Затем я подумал, что интонация играющих является сложноподчиненной системой жестов, не столько обслуживающей мысль, сколько создающей эту мысль, и тотчас поймал себя на том, что как бы скороговоркой произношу про себя хорошо известную сцену из второго действия:
Любовь Андреевна. Кто это здесь курит отвратительные сигары…
Гаев. Вот железную дорогу построили, и стало удобно. Съездили в город и позавтракали… желтого в середину! Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию…
Любовь Андреевна. Успеешь.
Лопахин. Только одно слово! (Умоляюще.) Дайте же мне ответ!
Гаев (зевая). Кого?
Любовь Андреевна (глядит в свое портмоне). Вчера было много денег, а сегодня совсем мало…
Допустим, следуя предположению А. П. Скафтымова, одного из лучших исследователей творчества Чехова, что в этом месте пьесы диалог «непрерывно рвется, ломается и путается в каких-то, видимо, совсем посторонних и ненужных мелочах»[9]. И что каждый говорит о своем, и это его «свое» оказывается недоступным для прочих. Проще говоря – каждый, будучи глухим, говорит будто с глухим. Буквально и просто понятая режиссером «разорванность», эдакая прореха на ковре, возникновение которой лишает взгляд созерцающего возможности пристально, стежок за стежком, исследовать рисунок ткани? Или, напротив, иной способ взаимосвязей, иная логика – логика для других?
Ведь каждый из них – и Лопахин, и Гаев, и Любовь Андреевна, и остальные – в сущности, говорит в зал, а это изначально полагает, что любой из них реплик всех прочих, кто присутствует на сцене, не только не слышит, но и не должен слышать, ибо даже не предполагает, что к нему кто-то обращается. Каждый из них говорит с другими. Со зрителями?
Поль Валери отмечает: «Когда в театре герои пьесы беседуют, они лишь делают вид, что беседуют; на самом деле они отвечают не столько на чужие слова, сколько на ситуацию, что значит на состояние (возможное) зрителя»[10].
Допустим. А для кого, спрашивается, «действующие лица» произносят свои реплики, когда пьеса еще только находится в процессе замысла/сочинения/написания, когда «зрительный зал» или «читатель» есть лишь одна из многих нитей того ковра, который создается в данный момент автором?..
Словом, кто он и каков он, этот другой?
Другой – это и некий историк словесности, обнаруживший, к примеру, факт продажи Чеховым в таком-то году имения, после чего новый обладатель вырубил под корень росшие там вишни, и принявший эту одну-единственную нить за целый ковер.
Или же другой историк словесности, нашедший в архивах письмо, полученное Чеховым в сентябре 1886 года от соседа Алексея Киселева, владельца перезаложенного имения Бабкино, в котором тот красочно повествует, как заставил жену «писать слезливое письмо пензенской тетушке, выручай, дескать, меня, мужа и детей… Авось сжалится, пришлет не только для уплаты пятисот рублей, но и всем нам на бомбошки»[11]. Согласно версии еще одного почтенного исследователя, именно это письмо и «явилось зародышем того семени, из которого позже вырастет “Вишневый сад”, – Гаев просит денег у ярославской тетушки, растратив свое состояние на леденцы»[12]. (Между прочим, впоследствии, окончательно разорившись, Киселев поступил на должность в банке – как и Гаев. Или наоборот – это уж не мне судить.)
Племянница «пензенской тетушки» и жена Алексея Киселева, Мария Владимировна, была известной детской писательницей и хозяйкой салона, в котором часто бывали известные художники, музыканты, актеры.
Ничего удивительного, что, когда в том же 1886 году в «Новом времени» была напечатана повесть Чехова «Тина», номер журнала с повестью писатель послал М. В. Киселевой. И по истечении дачно-осеннего времени получил от нее ответ.
Что же пишет хозяйка салона и детская писательница? Привожу ее письмо и ответ Чехова (написанный после двухнедельного молчания) в возможно полном объеме, поскольку они являют нам столкновение точек зрения одного (автора) – и другого (читателя).
«…Присланный Вами фельетон мне совсем и совсем не нравится, хотя я убеждена, что к моему мнению присоединятся весьма немногие. Написан он хорошо… бо́льшая часть публики прочтет с интересом и скажет: “Бойко пишет этот Чехов, молодец!” Может быть, вас удовлетворят… эти отзывы, но мне лично досадно, что писатель Вашего сорта, т. е. не обделенный от Бога, – показывает мне только одну “навозную кучу”. Грязью, негодяями, негодяйками кишит мир, и впечатления, производимые ими, не новы, но зато с какой благодарностью относишься к тому же писателю, который, проводя Вас через всю вонь навозной кучи, вдруг вытащит оттуда жемчужное зерно. Вы не близоруки и отлично способны найти это зерно – зачем же тогда только одна куча? Дайте мне зерно, чтобы в моей памяти стушевалась вся грязь обстановки: от Вас я вправе требовать этого, а других (курсив мой. – А.Д.), не умеющих отличить и найти человека между четвероногими животными, – я и читать не стану».
Выдержав паузу, Чехов резонно отвечает г-же Киселевой:
«Я не знаю, кто прав: Гомер, Шекспир, Лопе де Вега, вообще древние, не боявшиеся рыться в “навозной куче”, но бывшие гораздо устойчивее нас в нравственном отношении, или же современные писатели, чопорные на бумаге, но холодно-циничные в душе и в жизни? ‹…› Подобно вопросам о непротивлении злу, свободе воли и проч., этот вопрос может быть решен только в будущем. Мы же можем только упоминать о нем, решать же его – значит выходить из пределов нашей компетенции. Ссылка на Тургенева и Толстого, избегавших “навозную кучу”, не проясняет этого вопроса. Их брезгливость ничего не доказывает; ведь было же раньше них поколение писателей, считавшее грязью не только “негодяев с негодяйками”, но даже и описание мужиков и чиновников ниже титулярного. ‹…› Что мир “кишит негодяями и негодяйками”, это правда. Человеческая природа несовершенна, а потому странно было бы видеть на земле одних только праведников. Думать же, что на обязанности литературы лежит выкапывать из кучи негодяев “зерно”, значит отрицать самое литературу. Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда безусловная и честная. Суживать ее функции такою специальностью, как добывание “зерен”, так же для нее смертельно, как если бы Вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы. Я согласен, “зерно” – хорошая штука, но ведь литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель; он человек обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и совестью; взявшись за гуж, он не должен говорить, что не дюж, и, как ему ни жутко, он обязан бороть свою брезгливость, марать свое воображение грязью жизни… ‹…› Литератор должен быть так же объективен, как химик; он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые».
В этом эпистолярном диалоге речь идет, в сущности, о том, чем должно быть искусство в отличие от других практик: социальных, финансовых, мистических и т. д.
Но для нас сейчас важно обратить внимание вот на что: неожиданно и в какой-то мере благодаря мнению другого (в данном случае некой детской писательницы XIX в.) возникает, собственно, ответвление к теме «другого».
Кто такой/такая «Я»? Кто есть «Другой»? Кем (Я или Другим) является читатель по отношению к автору?
«Дайте мне» то, чего «от Вас я вправе требовать» – вот обычная апелляция читателя к автору. «Я должен быть объективен. Я должен отрешиться от житейской субъективности» – вот столь же обычная позиция автора. Хотя какая уж тут «объективность», если для «я» любого читателя автор, вне всякого сомнения, всегда предстает Другим.
В данном контексте Питер Брук интересует нас как еще один из множества читателей пьесы Чехова – откликающийся непосредственно спектаклем (то есть прочтением) на чеховское замечание о методе его собственного письма: «Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам». (О подобном позднее Осип Мандельштам скажет: «Я мыслю опущенными звеньями…» Недостающими.) Итак: недостающее.
«Опущенным звеном», «недостающим субъективным элементом» в пьесе «Вишневый сад» является собственно сад. Традиционно для читателя/зрителя и, уж конечно, режиссера «сад» есть landmark, то есть ориентир, «печь», от которой «танцуют» все возможные представления о саде[13].
Сад не менее удобная, нежели ковер, фигура для толкований. Но, как правило, в театральных постановках сад становится либо полем столкновения прошлого и настоящего, либо объектом смутных желаний.
Вот ведь, мы вновь возвращаемся к краю: не «принимай единственную нить за целый ковер». Как же, сколько веревочке ни виться… конца не найти. В центре любого ковра, то есть в основе симметрий, – смерть, нескончаемо обнаруживающая свое продолжение в жизни или ею же отраженная до ослепления себя самой.
«Я думаю, – пишет о вишневом саде, центральном символе пьесы Чехова, японский исследователь Икэда, – это чистое и невинное прошлое, символически запечатленное в белоснежных лепестках вишни, и одновременно это символ смерти»[14].
А вот Иван Бунин замечает о «Вишневом саде»: «Его (Чехова. – А.Д.) “Архиерей” прошел незамеченным – не то что “Вишневый сад” с большими бумажными цветами, невероятно густо белеющими за театральными окнами»[15].
И Икэда, и Бунин пересекаются в определенной точке.
Рассказ «Архиерей», законченный в 1901 году, Чехов писал два с половиной года (сравним: рассказ «Егерь» – не самый худший, а по-моему, даже и в числе «лучших» – он написал за час, скрываясь от домашних в купальне). И, как кажется сегодня, «Архиерей» потому создавался автором столь медленно, что «предмет» описания (ощущение ужаса смерти) не был отчетливо возможен в оптике его привычного литературного обихода, несмотря на почти ставшую привычной для Чехова в творчестве позицию отъединения: «это-не-я, Господи, но-я».
Итак, «Архиерей»:
«Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой; и преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог, и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает! Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало (курсив мой. – А.Д.), не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей.
“Как они сегодня хорошо поют! – думал он, прислушиваясь к пению. – Как хорошо!”».
Что же здесь сказано такого важного? Да все подряд, но паче всего – слова «чего-то еще недоставало».
Вот оно, вновь – недостающее. Опущенное звено.
Создается впечатление, что причиной множественного непонимания современниками того, что было написано Чеховым, чаще всего становилась именно неспособность их вообразить писателя, который «мыслит опущенными звеньями», и, как следствие, несхватывание ими скорости переходов между звеньями оставшимися. Это же касается и чеховского «нулевого письма» – то есть такого литературного стиля, который лишен любых идеологических и литературных кодов, индивидуальных характеристик и представляет собой нехитрую комбинацию речевых штампов и банальностей. И лишь примерно через полвека читатель оказался способен на должное «ускорение» и мог без раздражения прочесть первые фразы романа другого писателя (кстати, так или иначе отсылающие к предмету нашего разговора):
«Сегодня умерла мама. А может быть, вчера – не знаю. Я получил из богадельни телеграмму: “Мать скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезнуем”. Это ничего не говорит – может быть, вчера умерла»[16]. (Ср.: «…я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая… Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я – не знаю… Ничего не знаю».)
Впрочем, окончание романа в какой-то мере выдает автора как человека, заинтересованного в том, что называется «судьбой», «равнодушием мира»:
«На пороге смерти мама, вероятно, испытывала чувство освобождения и готовности все пережить заново. Никто, никто не имел права плакать над ней. И, как она, я тоже чувствую готовность все пережить заново. Как будто недавнее мое бурное негодование очистило меня от всякой злобы, изгнало надежду и, взирая на это ночное небо, усеянное знаками и звездами, я в первый раз открыл свою душу ласковому равнодушию мира»[17], –
но и эти строки отдаленно напоминают если не непосредственно монологи Раневской, то уж кого-то из «Чайки» – наверняка; напоминают немыслимым, тончайшим взаимопроникновением иронии и патетики, внутреннего и внешнего, значительного и незначительного, «прекрасного» и «безобразного» и т. д.
Мир медленно учился писать так, как то делал Антон Павлович Чехов. Но ведь все-таки научился! Словно ловя губами эхо того, что им же самим было уже сказано раньше. М. Бахтин[18], если мне не изменяет память, говорил: для того чтобы познать собственную культуру, к ней нужно возвращаться из другой.
Отсюда и произрастает приговор В. Набокова: «Человек, предпочитающий Чехову Достоевского или Горького, никогда не сумеет понять сущность русской литературы и русской жизни и, что гораздо важнее, сущность литературного искусства вообще. У русских была игра: делить знакомых на партии сторонников и противников Чехова. Не любивших его считали людьми не того сорта»[19].
(Это, как кто-то сказал (не помню…), что в детстве читают либо «Алису в Стране чудес», либо «Марсианские хроники», и разница между ними – как между холодной овсяной кашей на рассвете в нетопленой комнате и тем, как бежать босиком по траве утром. И там и там – ты один…)
Чтобы не изобретать колеса, я написал одному из, на мой взгляд, самых последовательных[20] писателей сегодняшнего дня – Анатолию Барзаху[21], моему соседу, с которым нас разделяют два «сада» по диагонали – Богословское кладбище и парк Политехнического университета, и в тех садах «электрическая почта» скользит покуда без помех. (В первом из этих садов, кстати, продают фальшивые цветы из крашеной бумаги – аллюзия на упомянутые Буниным «большие бумажные цветы, невероятно густо белеющие» на заднем плане чеховского «Вишневого сада», – которые, будучи положены на надгробия, тотчас теряют признаки искусственности и лжи. Ибо только цена смерти за плечами способна искупить фальшь декораций.)
«В чем заключается, – спрашивал я ученого соседа, – тот самый “гуманизм”, о котором, вероятно, все устали не только писать, но и прекратили помнить применительно к слову “Чехов”?», – спрашивал, имея в виду не только цитируемое выше письмо Киселевой.
Ученый сосед напомнил мне о письме Иннокентия Анненского[22] некоей неважной для нас Е. М. Мухиной: «Любите ли Вы Чехова?.. О, конечно любите… Его нельзя не любить, но что сказать о времени, которое готово назвать Чехова чуть-что не великим? Я перечел опять Чехова… И неужто же, точно, русской литературе надо было вязнуть в болотах Достоевского и рубить с Толстым вековые деревья, чтобы стать обладательницей этого палисадника… Ах, цветочки! Ну да, цветочки… А небо? Небо?! Будто Чехов его выдумал. Деткам-то как хорошо играть… песочек, раковинки, ручеечек, бюстик… Сядешь на скамейку – а ведь, действительно, недурно… Что это там вдали?.. Гроза!.. Ах, как это красиво… Что за артист!.. Какая душа!.. Тc… только не душа… души нет… выморочная, бедная душа, ощипанная маргаритка вместо души… Я чувствую, что больше никогда не примусь за Чехова. Это сухой ум, и он хотел убить в нас Достоевского – я не люблю Чехова…»
И сопроводил его собственным комментарием: «Вот так. И что бы, и как бы ни говорили о “недоразумении”, о “своя своих не спознаша”[23] – это глубоко продуманная позиция. В сущности, она недалека от знаменитых претензий Скабичевского к Чехову в “безыдейности”, “безыдеальности”[24]. К которым (при всей их примитивности) тоже не следует относиться высокомерно, как к некоей “народнической”, “добролюбовской” отрыжке, как всего лишь к призыву к унылой ангажированности, отрицанию “чистого искусства”. Здесь вскрывается истинный смысл пресловутой “гуманистической направленности” русской литературы: это грандиозный миф. Этос[25] русской веры, русского искусства – жесток и бесчеловечен (я не придаю этим словам никакого оценочного оттенка): от самосожжений раскольников и “гуманнейшего” Льва Толстого, в пылу охоты забывающего об истекающей кровью любимой собаке, до изуверски жестоких Сталкера Тарковского или героя Мамонова в “Острове”[26]. Чехов в этом смысле не вписывается в русскую традицию, чужд ей на глубиннейшем уровне. Чехов в русской культуре – cтрашный Другой, подрывающий ее основы. Я не хочу сказать, что он “гуманен”, “человечен” и т. п. в противоположность Достоевскому и Анненскому, это было бы чересчур примитивно, – но это коренным образом иной подход к миру и к эстетике. Это и не хорошо, и не плохо. Но это надо попытаться понять».
…В памяти бьется строка Игоря Лапинского[27], датированная 1962 годом, – «аист / одинокий как Чехов»…
Что ж, продолжим «делить знакомых на сторонников и противников Чехова». Среди собранных Игорем Лосиевским отзывов Анны Ахматовой о Чехове[28] находим:
– слова Ахматовой в записи Анатолия Наймана: «Чехов противопоказан поэзии (как, впрочем, и она ему). Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию»;
– воспоминания английского русиста сэра Исайи Берлина: «Ахматова говорила мне, что не может понять этого поклонения Чехову: его вселенная однообразно тускла, никогда не сияет солнце, не сверкают мечи, все покрыто ужасающей серой мглой – чеховский мир – это море слякоти с беспомощно увязшими в ней человеческими существами, это пародия на жизнь»;
– высказывания Ахматовой в записях Н. Роскиной и Н. Ильиной: «Все время жажда жить. Жить, жить, жить! Ну что это такое? Человек вовсе не должен быть одержим идеей жизни, это получается само собой»…
Все время жажда жить?..
Тогда откуда берется рассказ «Казак»? (Не уверен, что он представлен в школьной программе.)
Анекдот едва ли возможно артикулировать детально.
Ну, Пасха там… к празднику, надо понимать, готовятся. Жена главного героя два дня возится у печи. Заутреня (за кадром, но очевидно). Обычные колокола, растворение «блага в воздусях»… Собственно начало: «Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освященный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо… ‹…› На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, все представлялось ему светлым, радостным и счастливым». Ну, едучи, «по пути забежал в кабак закурить папиросу и выпил стаканчик», отчего «ему стало еще веселее».
Дальше у Чехова возникает то, что я бы назвал «обморочной скороговоркой». Это когда ты видишь до экватора, видишь, с какой скоростью летит зрение к звездам, падая между тем к магме, скорость которой несоизмерима с лучом от звезды[29], но понимаешь, что язык не может принять измерений вообще и потому становится черствым, как позавчерашняя хлебная корка, и, более того, стремится к собственной смерти в описании, где он, язык, – ничто… А смерть – это как смотреть в ноги…
«На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Торчаков и его жена увидели оседланную лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги».
Далее – разговор о том, что казак ехать не в силах, болен. «…Праздник в дороге застал. Не привел Бог доехать». Вот и просит «свяченой пасочки разговеться». Бердянский мещанин вроде бы и не против, но рукой пасху ломать не след, а отрезать нечем, да и жена говорит, что «резать кулич, не доехав до дому, – грех и не порядок, что все должно иметь свое место и время»… И вообще, «видано ль дело – в степи разговляться»!
Так тому и быть. Прошло. Типа – слили без следа. Но… «Всю дорогу до самого дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно отчего, им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было».
Дальше был дом, праздник. Но чего-то недоставало.
Хозяин напился. Молодая жена увиделась ему недоброй и некрасивой. Утром хотел опохмелиться и снова напился. «С этого и началось расстройство». И пошло-поехало.
С той поры Торчаков, «когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи, и ждал, не встретится ли ему казак…»
(Не тот ли это «казак», что повстречался Гоголю в конце его «Сорочинской ярмарки» в виде «музыканта в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами», который одним ударом смычка заставляет зрителей испытать «странное, неизъяснимое чувство» – что «все обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие»? Выходит, этого недоставало Максиму Торчакову? Без этого, по слову Лиотара[30], «не происходит происходящее, перестает происходить». И единственным ужасом становится отсутствие другого: сумерки, одиночество, безъязыкость, не-предметность в прикосновении, наконец – смерть, но не как удар, а как нескончаемое просачивание в поры жизни.)
Такого рода произведения еще недавно назывались «открытыми текстами» – то есть допускающими множественность интерпретаций, каждая из которых безусловно имеет право на существование. И каждая из которых при этом ведет по «одной-единственной нити ковра».
Потому-то и нет для «меня» и для «тебя» одного и того же писателя по имени Чехов. Как, впрочем, и любого иного писателя – если позволено так выразиться об умозрительной фигуре автора вообще.
Пенелопа[31] создавала портрет автора ежеутренне.
1
Брук, Питер (род. 1925) – английский режиссер театра и кино.
2
Бруклинская академия музыки (Brooklyn Academy of Music, BAM) – один из основных мировых центров исполнительских искусств; расположен в Бруклине, районе города Нью-Йорка.
3
Ставшее общим местом высказывание Чехова на самом деле представляет собой на разные лады перефразируемую цитату из письма писателя к С. А. Лазареву-Грузинскому («Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него») или же устного наставления молодому литератору И. Я. Гурлянду («Если Вы в первом акте повесили на сцену пистолет, то в последнем он должен выстрелить. Иначе не вешайте»). А вот что сообщает о происхождении этой фразы В. И. Немирович-Данченко: «Чехов сказал: “Публика же любит, чтобы в конце акта перед нею поставили заряженное ружье”. “Совершенно верно, – ответил я, – но надо, чтоб потом оно выстрелило, а не было просто убрано в антракте”. Кажется, впоследствии Чехов не раз повторял это выражение».
4
Станиславский, Константин Сергеевич (1863–1938) – русский театральный режиссер, актер и преподаватель, создатель теории сценического искусства, метода актерской техники, называемого «системой Станиславского», целью которого является достижение полной психологической достоверности актерских работ: актер в процессе игры испытывает «подлинные переживания» и это рождает жизнь образа на сцене.
5
«…Ружья Гоголя висят в воздухе и не стреляют; надо сказать, что обаяние его намеков и состоит в том, что они никак не материализуются» (В. Набоков. Лекции по русской литературе).
6
Commedia dell’arte (комедия дель арте) – комедия масок, импровизационный итальянский площадной театр (XVI–XIX вв.).
7
Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1865–1941) – русский прозаик, поэт, литературный критик, переводчик, религиозный мыслитель. Цитируемая статья «Чехов и Горький» написана в 1906 г. – Прим. ред.
8
«Особую роль в новой поэтике драмы играют паузы, о которых много писалось в литературе о драматургии Чехова. ‹…› Паузы ослабляют концентрацию эпизодов, высокую во всякой драме. Ритм движения эпизодов замедляется, прерывается искусственная каскадность; впечатление неупорядоченности усиливается. Как было неоднократно подсчитано, число пауз от пьесы к пьесе непрерывно растет» (Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971. С. 201).
9
Скафтымов А. П. К вопросу о принципах построения пьес А. П. Чехова // Три сестры. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 229–268. – Прим. ред.
10
Валери, Поль (1871–1945) – французский поэт, эссеист, критик. Цитируется фрагмент текста Валери «Из “Тетрадей”» (перевод В. Козового; в книге: Поль Валери. Об искусстве. М.: Искусство, 1976). – Прим. ред.
11
См. примечания П. С. Попова к воспоминаниям Н. В. Голубевой, сестры жены Киселева («Литературное наследство». М.: Изд. АН СССР, 1960. Т. 68. С. 574). – Прим. ред.
12
Доналд Рейфилд. Жизнь Антона Чехова / Пер. с англ. О. Макаровой. М.: Независимая газета, 2005. С. 207. – Прим. ред.
13
Ср. в стихотворении Беллы Ахмадулиной «Сад»: «Я вышла в сад, но глушь и роскошь / живут не здесь, а в слове: “сад”. / Оно красою роз возросших / питает слух, и нюх, и взгляд. / ‹…› Вместилась в твой объем свободный / усадьба и судьба семьи, / которой нет, и той садовый / потерто-белый цвет скамьи. / ‹…› И, если вышла, то куда я / все ж вышла? Май, а грязь прочна. / Я вышла в пустошь захуданья / и в ней прочла, что жизнь прошла. / Прошла! Куда она спешила? / Лишь губ пригубила немых / сухую му́ку, сообщила, / что все – навеки, я – на миг. / На миг, где ни себя, ни сада / я не успела разглядеть. / “Я вышла в сад”, – я написала. / Я написала? Значит, есть / хоть что-нибудь? Да, есть, и дивно, / что выход в сад – не ход, не шаг. / Я никуда не выходила. / Я просто написала так: / “Я вышла в сад”…» – Прим. ред.
14
Рехо К. Наш современник Чехов: обзор работ японских литературоведов // Литературное обозрение. 1983. № 10. С. 27. – Прим. ред.
15
Бунин И. А. Полное собрание сочинений: В 6 т. Пг.: Изд. т-ва А. Ф. Маркс, [1915]. Т. 6. С. 313. – Прим. ред.
16
Камю А. Посторонний (1942) / Перевод Н. Немчиновой. – Прим. ред.
17
Там же. – Прим. ред.
18
Бахтин, Михаил Михайлович (1895–1975) – русский философ, литературовед и теоретик искусства. – Прим. ред.
19
Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996. – Прим. ред.
20
Здесь, внизу, в сноске, скажу, что «из лучших».
21
Барзах, Анатолий Ефимович (род. 1950) – литературовед, критик. Автор книг «Ощущение тяжести» (СПб., 1994), «Обратный перевод» (СПб., 1999), «Причастие прошедшего зрения» (М., 2009). – Прим. ред.
22
Анненский, Иннокентий Федорович (1855–1909) – русский поэт, драматург, литературный критик. Письмо к Мухиной, написанное им под впечатлением от смерти А. П. Чехова, опубликовано в изд.: Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 460. – Прим. ред.
23
Своя своих не спознаша (церковнославянское) – цитата из Евангелия от Иоанна, гл. 1, ст. 11. – Прим. ред.
24
Скабичевский, Александр Михайлович (1838–1910) – критик, историк литературы. Речь идет о работе Скабичевского «История новейшей русской литературы» (1891), где критик упрекал Чехова в поверхностности и безыдейности. Однако в статье «Есть ли у г-на Чехова идеалы?» (1892) Скабичевский, напротив, доказывал наличие у Чехова прогрессивных идеалов и расточал упреки тем критикам, которые настаивали на его безыдейности. – Прим. ред.
25
Этос – здесь: совокупность нравственных норм, иерархия ценностей. – Прим. ред.
26
Речь идет о центральных персонажах фильмов А. А. Тарковского «Сталкер» (1979, по мотивам повести А. и Б. Стругацких «Пикник на обочине») и П. С. Лунгина «Остров» (2006). – Прим. ред.
27
Лапинский, Игорь Леонтьевич (род. 1944) – поэт, автор книг «Огни святого Эльма» (СПб., 1992), «Утро бессонных крыш» (Киев, 2002). – Прим. ред.
28
Лосиевский И. Чехов и Ахматова: история одной «невстречи» // Серебряный век. Киев, 1994. С. 46–54. – Прим. ред.
29
Кажется, так: «И Тамплисон взглянул вперед / И увидал сквозь бред / Звезды, замученной в Аду, / Молочно-белый свет. / И Тамплисон взглянул назад / И увидал в ночи / Звезды, замученной в Аду, / Багровые лучи» – Редьярд Киплинг. Если правильно помню известный перевод. (Неточная цитата фрагмента баллады Киплинга «Томлисон» («И Тамплинсон взглянул вперед / И увидал в ночи / Звезды, замученной в аду, / Кровавые лучи. / И Тамплинсон взглянул назад / И увидал сквозь бред / Звезды, замученной в аду, / Молочно-белый свет»), приведенного в повести В. Журавлевой и Г. Альтова «Баллада о звездах» (1961). Вероятно, в повести так же неточно процитирован ранний перевод А. Оношкович-Яцыны (1922): «И Томлинсон взглянул наверх и увидал в ночи / Замученной в Аду звезды кровавые лучи. / И Томлинсон взглянул к ногам, и там, как страшный бред, / Горел замученной звезды молочно-белый свет». – Прим. ред.
30
Лиотар, Жан-Франсуа (1924–1998) – французский философ. – Прим. ред.
31
Пенелопа – в греческой мифологии супруга Одиссея, которая в отсутствие мужа, находившегося в долгих странствиях, была вынуждена отваживать многочисленных претендентов на ее руку под тем предлогом, что, прежде чем выбрать нового мужа, должна соткать покрывало. Каждую ночь она распускала сотканное за день и таким образом смогла оттянуть окончательное решение до момента, когда Одиссей вернулся домой. – Прим. ред.