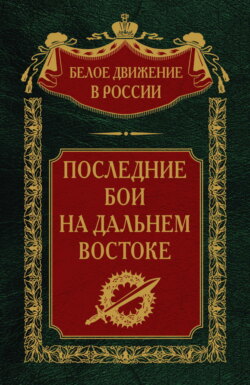Читать книгу Последние бои на Дальнем Востоке - С. В. Волков, Группа авторов - Страница 6
Последние бои на Дальнем Востоке
Б. Филимонов22
Белоповстанцы. Хабаровский поход. Зима 1921/22 года23
Войска Временного Приамурского правительства
ОглавлениеОсколки различных частей белых армий Восточного фронта, счастливо избегнувшие пленения за время своего движения через Сибирь, проделавшие так называемый Сибирский Ледяной поход, в течение которого за ними установилось прозвание «каппелевцев», проскочив в Забайкалье, по соединении там с частями атамана Семенова, так называемыми «семеновцами», образовали Дальневосточную армию, которая по оставлении Забайкалья в ноябре 1920 года почти целиком прошла в Южное Приморье, где впоследствии ее части получили официальное наименование Войск Временного Приамурского правительства.
Общая численность Белой армии по прибытии ее в Южное Приморье доходила до тридцати тысяч человеческих ртов и нескольких тысяч лошадиных. Многие годы походов, для одних начавшиеся еще в Великую войну, а для других в Гражданскую, давно оторвали чинов армии от родного очага и мирной жизни. С домом у них фактически все было порвано, казалось бы, что из них мог бы выработаться тип кондотьеров, но этого не случилось, и своей массой они остались честными гражданами России и терпимо относились к населению, недоброжелательно и даже враждебно к ним относившемуся.
Огромное большинство чинов Белой армии были родом из Приуралья, с берегов Волги, Камы, отчасти из Западной Сибири и Забайкалья. Уроженцев Средней и Восточной Сибири было немного. Обитателей Амурской и Приморской областей – всего лишь горсть. Населению Приморской области, состоящему главным образом из украинцев, бойцы Белой армии были «чужими». Исключение составляли только казаки оренбургцы и забайкальцы, нашедшие здесь своих сородичей.
Случай, преданность Белому делу, пассивность и упорство привели чинов Белой армии из столь отдаленных краев в Приморье. Многие «практичные» люди, не видя впереди никакого просвета, бросали расстроенные ряды белых войск после Ледяного Сибирского похода или оставления Забайкалья. В рядах остался тот, кто жил борьбой с большевиками, кто продолжал твердо верить в скорое Воскресение России, а пока считал нужным продолжать службу в кадрах будущей Русской армии тот, кто не решался или не желал самостоятельно бороться с жизнью вне рядов войск. Много было и таких, кто, не задаваясь высокими целями, довольствовался настоящим и жил, пока его кормили. Наконец, попадались единичные хищники, кои были не прочь пожить вволюшку на остатки казенных средств, а при случае и «погреть свои руки». Должно отметить, что после майского переворота 1921 года, когда в Приморье образовался Белый Центр, некоторые из оставивших ряды войск вновь вернулись на службу в свои части.
Осколки молодой Русской армии, развернувшейся из добровольческих отрядов и частей народных армий 1918 года (Сибирской30 и Народной31), до последних дней своих сохранили характерную особенность своей юности – крепчайшую духовную связь между начальником и подчиненным, происходившую от полной общности интересов, а нередко и близких отношений, предшествовавших службе под Белыми Знаменами. В тяжелой обстановке фронта и ближнего тыла трудами и энергией молодого русского офицерства были созданы белые части Восточного фронта. Волею судеб представители солидного русского генералитета в этой работе участия не приняли. Здесь уместно отметить то, что к этому времени офицерство состояло из бесчисленного ряда лиц различных классов, профессий, взглядов, убеждений и интересов. К тому же солдатами вначале были только добровольцы и самомобилизовавшиеся – учащаяся молодежь, казаки, крестьяне и рабочие. В результате взаимоотношения чинов оказались непринужденными, но вместе с тем, при отсутствии ряда формальностей, воинские чины были скованы на фронте строгой и даже суровой дисциплиной. Равномерного распределения офицерства по частям вначале не было. Не удалось его провести высшему белому командованию и в 1919 году, равно как и превратить добровольцев народных войск в солдат регулярной армии. После Красноярской катастрофы Белая армия по существу своему вновь стала чисто добровольческой, но подъема, как то было в 1918 году, уже не было в ее рядах. Части, пришедшие в Приморье, хотя и сохранили свой облик «добровольческих и народных» частей, тем не менее, под влиянием неудач и катастроф этот облик принял все же искаженные формы.
Нет и не может быть ничего удивительного в том, что при описании воинских частей Временного Приамурского правительства приходится наталкиваться на ряд явлений, чуждых понятиям старой Русской армии. Часть этих явлений, как указано выше, явилась как продукт новых взглядов на вещи и новых отношений, другая часть – болезненна по существу своему. Вместе с тем в частях Белой армии 1921 года сохранились также и многие положительные черты старой Русской армии.
Еще в Забайкалье количество бойцов в частях не соответствовало их «классу», если так можно выразиться. При проходе через полосу отчуждения КВЖД ряды полков еще более поредели. Раскол на две враждебные группировки вконец расстроил порядок, ибо многие боевые единицы распались совершенно или же раскололись на две части.
До отъезда атамана Семенова из пределов Приморья, последовавшего 13 сентября 1921 года, существовали два не зависящих друг от друга высших органа управления войсками: штаб главнокомандующего всеми вооруженными силами Российской Восточной окраины и штаб командующего Дальневосточной армией. Первый находился в Гродекове, второй – сначала в Никольск-Уссурийском, а позднее во Владивостоке.
К лету 1921 года в Приморье в подчинении главнокомандующего находилась только одна Гродековская группа войск, возглавляемая генерал-лейтенантом Савельевым32. В состав этой группы войск входили: все казачьи части и части 1-го корпуса33, пришедшие в Приморье (часть забайкальцев осела в районе Хайлара в полосе КВЖД), и две стрелковые бригады, выделившиеся из состава 2-го34 и 3-го35 стрелковых корпусов.
В подчинении командующего Дальневосточной армией (генерал-лейтенант Вержбицкий) находились 2-й Сибирский стрелковый (генерал Смолин) и 3-й стрелковый (генерал Молчанов) корпуса. В состав этих корпусов входили только стрелковые и кавалерийские части, не перешедшие весною в Гродековскую группу.
Организация подразумевала подразделение корпусов и Гродековской группы войск на бригады, полки, батальоны, роты и т. п. Так все это и было на бумаге. На деле же многие полки, состоя из двух-трех рот, в действительности представляли собою один батальон, причем роты нередко имели по 15–20 рядовых. В непосредственном подчинении штабов корпусов и Гродековской группы имелся ряд мелких единиц до отдельных рот, сотен и взводов включительно. Коротко: лето 1921 года – время мелких отдельных частей, делающих весь аппарат управления и снабжения громоздким, увеличивающих штабы и управления за счет людей в строю. Отдавая должное, следует отметить, что по приходе в Приморье генерал Смолин свел свой корпус в дивизию, сократив таким образом число штабов, но позднее дивизия вновь была превращена в корпус.
Только что описанная громоздкая и неправильная организация сохранялась по следующим мотивам:
1. Как указано выше, части 1921 года являлись осколками когда-то значительных частей. Каждый осколок старался сохранить себя отдельной единицей до того светлого времени, когда он сможет вновь развернуться.
2. Командиры и начальники, привыкнув командовать крупными частями, инстинктивно цеплялись за «класс» своей части, а потому понижение «класса», то есть сведение частей в менее крупные единицы, во многих случаях влекло за собою уход на покой или откомандирование в штаб ряда лиц, пребывание коих на несоответствующих их чину должностях противоречило психологии чинов армии.
3. Командиры частей определенно не желали терять свою хозяйственную автономию.
Сохранение старых территориальных наименований частей определенно выступало, и не только полки, но батальоны, роты и эскадроны сохраняли наименования тех полков, каковыми они были в 1918–1919 годах. Бригады же, образуемые от слияния сведенных в полки бригад, получали обобщающие наименования. Так появились: Поволжская36, Ижево-Воткинская37 и Сибирская бригады38. Каппелевские части, переходя в состав Гродековской группы войск, сохраняли свои старые наименования (Егерский39, Уральский40, Добровольческий41 полки, Красноуфимский42, Камский конные дивизионы).
О внешней подтянутости, выправке, однообразной форме одежды говорить не приходится. Хотя все белые бойцы ходили в погонах и в растерзанном виде солдаты сами не любили появляться, тем не менее особых требований в этом отношении не предъявлялось и предъявлять было нельзя, так как армия после своего прихода в Приморье обмундирования и жалованья не получала.
Если занятия с офицерами и солдатами в некоторых частях и производились, то в большинстве случаев к ним относились не серьезно. Осенью 1921 года во Владивостоке имел место следующий случай, ярко характеризующий психологию белых бойцов: когда одну из белых частей гарнизона вывели на занятия (рассыпной строй), то солдаты оказались премного обиженными: «Как? Всю Сибирь прошли, столько лет воюем? А тут опять учить, что мы и так хорошо знаем».
По уставу полагалось отдание чести всем генералам и офицерам без остановки во фронт, но на практике солдаты отдавали честь только офицерам своей части и тем из «чужих» офицеров, кои при больших чинах солидно выглядели. Недоразумений на этой почве не происходило, ибо офицеры считали вполне нормальным, что их приветствуют только свои солдаты.
Переходы из одной части в другую и выходы на сторону одно время происходили часто самовольно и проходили, за редким исключением, безнаказанно. Некоторые командиры и начальники сами переманивали к себе офицеров и солдат в целях пополнения или развертывания своих частей. Только в редких частях не принимали самовольно переходящих.
Ясное представление о численности и организации белых частей дает следующая сохранившаяся таблица:
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ГАРНИЗОНА РАЗДОЛЬНОГО
6-го марта 1921 года
В вышеприведенной таблице в графе воткинцев показаны Воткинский стрелковый полк43 и Воткинский конный дивизион44. Камский стрелковый полк45 не показан совсем, надо полагать, что камцы включены в число уфимцев; во всяком случае, в это время камцев было очень немного – они представляли собою батальон под командой капитана Васильева.
Во главе Белой армии в Приморье стояли молодые генералы. Вышедшие на Великую войну в обер-офицерских чинах, они остались совершенно не известными широким массам в течение ее. В Гражданскую войну они выдвинулись, но и здесь ни один из них не занимал столь видного положения, чтобы стать авторитетом для всей Дальневосточной армии. Генералы Молчанов и Смолин командовали на Уральском фронте дивизиями, генерал Бородин был в то время командиром полка, а генералы Савельев и Глебов только в дни крушения Белой армии в Забайкалье (1920 г.) были произведены в генералы. Один генерал Вержбицкий имел за собою командование более крупными силами, именно во время весеннего наступления 1919 года он командовал Южной группой Сибирской армии, действуя в направлении Сарапуль – Казань.
Претендентами на высшие посты являлись – генералы Лебедев46 (бывший при адмирале Колчаке наштаверхом до весенней катастрофы на фронте), Лохвицкий47 (бывший командармом 1-й осенью 1919 года), Бангерский48 (комкор 2-го Уфимского), но и они также не обладали достаточным весом и достаточной объективностью, дабы смирить враждующие группировки.
В прошлом Белой армии было слишком много вольных и невольных перемен в высшем командовании (Гришин-Алмазов49, Иванов-Ринов50, Болдырев, Лебедев, Гайда51, Дитерихс, Сахаров52, Каппель53, Войцеховский54, Лохвицкий, Вержбицкий), чтобы оно способствовало укреплению авторитета командующего просто даже как понятия. Все казалось и считалось легко сменимым и заменимым. В обстановке русской революции и гражданской войны создался тип «атаманов» – неограниченных и не ответственных ни перед кем маленьких владык. Болезнь эта к 1921 году окончательно поразила организм Дальневосточной Белой армии, и самые ярые противники «атаманов» превратились фактически в «атаманов». Соревнование начальников приняло в это время совершенно недопустимые формы и вело к постоянному несогласию. Особенно были черны дни Раздолинского сидения. Обливая грязью своих противников, самые старшие начальники упускали из виду то, что этим самым они сами погружались в грязь. В свои дрязги они стали втягивать офицеров и даже солдат.
Значительная ценность каждого бойца, как результат малочисленности частей, неудачи, частые перемены в командовании, отсутствие самого необходимого из пищи и одежды вырывали почву из-под ног начальника и заставляли его подчас смотреть на некоторые провинности подчиненного сквозь пальцы. Результат не заставил себя долго ждать – воинские чины стали распускаться.
Бессистемные производства и награждения орденами, наличие отдельных самозванцев как результат массовой затери послужных списков вели к тому, что каждого командира, офицера и солдата ценили его начальники, равные и подчиненные постольку, поскольку он был ценен сам по себе, а не по тому чину или званию, которое он носил.
Разделение на «каппелевцев» и «семеновцев», приведшее очень скоро к полному расколу, явилось скорее результатом соревнования начальников, чем антагонизма масс. Действительно, несмотря на ряд эксцессов, падающих на время наибольшего затемнения мозгов, отношение общей массы офицерства и солдат, как каппелевцев к семеновцам, так и семеновцев к каппелевцам, было вполне терпимо.
Все действия начальства, с легкой руки самих командиров, подвергались нещадной критике. Младший офицер в ответ на приказание мог получить молчок, в худшем случае – грубость. Положение обер-офицеров было неважно. Отчасти это объясняется тем, что многие офицеры, получив чины за боевые отличия, панибратствовали со своими друзьями-солдатами. Наличие офицерских рот почти в каждом полку способствовало подобному «равноправному» отношению. С другой стороны, видя, что офицер делает все то же, что и солдат, то же ест, так же спит, все это укрепляло доверие солдат к офицерству, не давало им повода видеть в нем барина, впрочем, многие офицеры барами никогда и не были. Вера друг в друга была полная. В своих солдатах все офицеры были твердо уверены. Боевые приказания исполнялись всегда быстро и беспрекословно. Браня подчас свое начальство, солдат все же верил ему и шел за ним.
При наличии не зависящих друг от друга двух командований вполне естественно существование двух главных интендантств в Белой армии. Одно из них находилось в Гродекове и снабжало части Гродековской группы войск, другое (армейское) после переворота обосновалось во Владивостоке и стало ведать снабжением правительственных войск (генерал-майор Бырдин55). Такое положение существовало до тех пор, пока у атамана Семенова имелись средства для прокормления своих частей. Позднее, вследствие острого недостатка продуктов питания, многие гродековские части, оставаясь в оперативном подчинении штаба главнокомандующего, устраивались на довольствие к Приамурскому правительству и получали продукты от каппелевского интендантства. Долго продолжаться такое положение, конечно, не могло, и к осени все гродековские части оказались не только на довольствии у правительства, но и на службе у него.
Питание частей, находившихся на довольствии у правительства, до Хабаровского похода было достаточным. Части получали 21/2 фунта хлеба (половина белого, половина черного), в обед – суп, вечером – каша, но различная мелочь интендантством недодавалась, и средств на приобретение оной не отпускалось. Гродековские части, не перешедшие на довольствие к правительству, летом 1921 года голодали форменным образом, и местное население из сострадания прикармливало голодных солдат и офицеров. Из гродековского интендантства эти части получали только рис и отвратительной выпечки черный с отрубями хлеб. Конский состав гродековских частей довольствовался исключительно подножным кормом и к осени 1921 года пришел в полную негодность. Особенно ужасный вид имели кони Забайкальской казачьей дивизии.
Армия, потерявшая значительную часть своего имущества в эшелонах, брошенных при отходе к ст. Маньчжурия, распродала и размотала другую часть его по линии КВЖД. В Приморье в марте и апреле 1921 года гродековские части получили дрелевое, желтое обмундирование и сапоги. Ожидались шитье и выдача шинелей. Каппелевские части в это время ничего и ни от кого не получали. После майского переворота положение изменилось. В руках каппелевского интендантства оказались некоторые интендантские склады в городах Владивостоке и Никольске, бывшие доселе в распоряжении красных. Части, находившиеся в подчинении каппелевского командования, получили белье, тонкий зеленый шевиот и шинельное сукно. Частям, поступавшим на довольствие к правительству позднее, но не вошедшим в подчинение каппелевского командования, двери интендантских складов открывались не так уж широко. 1-я стрелковая бригада56 и Оренбургская казачья бригада57 получили синий демсин, а шевиот им выдан не был. Между прочим, 1-я стрелковая бригада шевиота не получила даже летом 1922 года, хотя на складах шевиот имелся. Наиболее обделенными оказались части Забайкальской казачьей дивизии58 и «гродековцы» (позднее 3-я Пластунская бригада59). Эти части не получили ни шевиота, ни демсина под предлогом того, что весною им было выдано атаманом Семеновым дрелевое обмундирование. Шинельного сукна они не получили уже без всяких предлогов.
Жалованьем части Гродековской группы войск были удовлетворены по март или апрель 1921 года (установить точно не представляется возможным) золотом согласно ставок 1920 года. Оклады были мизерны, так, рядовой стрелок получал рублей 15, офицер-боец – 26 рублей, младший офицер – 28, командир отдельной части – около 40. Из-за отсутствия денежных сумм в дальнейшем части Гродековской группы войск жалованья больше не получали, каппелевские части по этой причине жалованья после отхода из Забайкалья совсем не получали. После переворота Временное Приамурское правительство утвердило оклады жалованья чинам войск (приблизительно такие же, как были в Забайкалье). После этого части стали заготовлять требовательные ведомости и посылать их во Владивосток, но так как наличность в казначействе была все время весьма малой, то ассигновки гасились мелкими частями, а посему и чины в частях получали жалованье по частям.