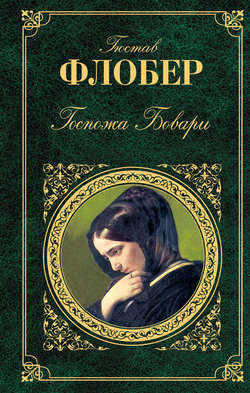Читать книгу Саламбо - Гюстав Флобер - Страница 2
В Сикке
ОглавлениеДва дня спустя наемники выступили из Карфагена. Каждому дали по золотому с условием, чтобы они расположились лагерем в Сикке, и сказали им, всячески ублажая лестью:
– Вы – спасители Карфагена. Но, оставаясь в нем, вы разорите город и доведете его до голода; Карфагену нечем будет платить. Удалитесь! Республика вознаградит вас за уступчивость. Мы тотчас же введем новый налог. Жалованье будет выплачено вам полностью, и мы снарядим галеры, которые отвезут вас на родину.
Они не знали, что ответить на такие речи. Привыкнув к войне, люди эти скучали в городе. Поэтому их нетрудно было уговорить, и народ поднялся на городские стены, чтобы видеть воочию, как они уходят.
Они прошли по Камонской улице и через Циртские ворота, идя вперемешку: стрелки с гоплитами[33], начальники с простыми солдатами, лузитанцы с греками. Они шли бодрым шагом, и каменные плиты мостовой звенели под их тяжелыми котурнами. Доспехи их пострадали от катапульт[34] и лица почернели в битвах. Хриплые звуки исходили из густых бород. Разорванные кольчуги звенели о рукоятки мечей, и сквозь продырявленные латы виднелись голые тела, страшные, как боевые машины. Пики, топоры, рогатины, войлочные шапки, медные шлемы – все колыхалось в равномерном движении. Они наводнили улицы, и казалось, что стены раздадутся от напора, когда длинные ряды вооруженных солдат проходили между высокими шестиэтажными домами, вымазанными смолой. За железными или камышовыми оградами стояли женщины, опустив на голову покрывала, и безмолвно глядели на проходящих варваров.
Террасы, укрепления, стены скрывали от глаз толпы карфагенян в черных одеждах. Туники матросов казались кровавыми пятнами на этом темном фоне; полунагие дети с лоснящейся кожей махали руками в медных браслетах среди зелени, обвивавшей колонны, и в ветвях пальм. Старейшины вышли на площадки башен, и, неизвестно почему, изредка вдруг появлялся и стоял в задумчивости какой-то человек с длинной бородой. Он смутно вырисовывался вдали, точно камень, недвижный, словно привидение.
Всех охватила одна и та же тревога. Опасались, как бы варвары, поняв свою силу, не вздумали вдруг остаться. Но они так доверчиво покидали город, что карфагеняне воспрянули духом и присоединились к солдатам. Их обнимали, забрасывали клятвами, дарили им благовония, цветы и даже серебряные деньги. Им давали амулеты против болезней, предварительно, однако, плюнув на них три раза, чтобы привлечь этим смерть, или же зашив в них несколько волосков шакала, чтобы сердце носящего преисполнилось трусости. Вслух призывали благословения Мелькарта, а втихомолку – его проклятия.
Потом потянулись поклажи, убойный скот и все отставшие.
Больные, посаженные на дромадеров, стонали; хромые опирались на обломки пик. Пьяницы тащили с собой мехи с вином, обжоры несли мясные туши, пироги, плоды, масло, завернутое в виноградные листья, снег в полотняных мешках. Некоторые шли с зонтами, а на плечах у них были попугаи. Они вели за собою собак, газелей или пантер. Ливийские женщины, сидя на ослах, ругали негритянок, покинувших лупанары[35] Малки, чтобы следовать за солдатами, кормили грудью младенцев, привязанных к их шее кожаными ремнями. Спины мулов, которых понукали остриями мечей, сгибались под тяжестью свернутых палаток. Затем шли слуги и носильщики воды, бледные, пожелтевшие от лихорадки, покрытые паразитами; это были подонки карфагенской черни, примкнувшие к варварам.
Когда они прошли, за ними заперли ворота, но народ не спускался со стен. Вскоре войско рассеялось по всему перешейку.
Оно разбилось на неровные отряды. Потом копья стали казаться издали высокими стеблями трав, и наконец все исчезло в облаке пыли. Солдаты, оборачиваясь к Карфагену, не видели ничего, кроме длинных стен, которые вырисовывались на краю неба пустыми бойницами.
Варвары услышали громкие крики. Они подумали, что часть солдат, оставшись в городе (они не знали в точности, сколько их было), вздумала разграбить какой-нибудь храм. Это их позабавило, и они, смеясь, продолжали путь.
Им радостно было шагать, как прежде, всем вместе, в открытом поле. Греки пели старую мамертинскую песню:
«Своим копьем и своим мечом я вспахиваю землю и собираю жатву: я – хозяин дома! Обезоруженный противник падает к моим ногам и называет меня властелином и царем».
Они кричали, прыгали, а самые веселые принимались рассказывать смешные истории; время бедствий миновало. Когда они дошли до Туниса, некоторые заметили, что исчез отряд балеарских пращников. Они, наверное, были неподалеку. О них тотчас же забыли.
Одни отправились на ночлег в дома, другие расположились у подножия стен, и горожане пришли поговорить с солдатами.
Всю ночь на горизонте со стороны Карфагена видны были огни; отсветы, подобно гигантским факелам, тянулись вдоль неподвижного озера. Никто из солдат не понимал, какой там справлялся праздник.
На следующий день варвары прошли по возделанным полям. По краям дороги тянулся ряд патрицианских ферм; в пальмовых рощах были водоотводные каналы; масличные деревья стояли длинными зелеными рядами; над рощами среди холмов носился розовый пар; сзади высились синие горы. Дул теплый ветер. По широким листьям кактусов ползали хамелеоны.
Варвары замедлили шаг.
Они шли разрозненными отрядами или же плелись поодиночке на далеком расстоянии друг от друга. Проходя мимо виноградников, они ели виноград, ложились на траву и с изумлением смотрели на искусственно закрученные большие рога быков, на овец, покрытых шкурами для защиты их шерсти, на то, как скрещивались в виде ромбов борозды; их удивляли лемехи, похожие на корабельные якоря, а также гранатовые деревья, которые поливались сильфием. Щедрость почвы и мудрые измышления человека поражали их.
Вечером они легли на палатки, не развернув их; засыпая и обратив лицо к звездам, они жалели, что кончился пир во дворце Гамилькара.
На следующий день после полудня был сделан привал на берегу реки, среди олеандровых кустов. Солдаты быстро бросили наземь щиты, копья, сняли пояса. Они мылись с криками, набирали воду в шлемы, а некоторые, лежа на животе, пили вместе с вьючными животными, которых освободили от поклажи.
Спендий, сидя на дромадере, украденном во владениях Гамилькара, увидел издали Мато с подвязанной рукой и непокрытой головой; он поил своего мула и, склонившись, глядел, как течет вода. Спендий быстро побежал к нему, протиснувшись сквозь толпу, и стал его звать:
– Господин! Господин!
Мато едва поблагодарил его за благословение. Спендий не обратил на это внимания и пошел за ним, время от времени беспокойно оглядываясь в сторону Карфагена.
Он был сыном греческого ритора и кампанийской блудницы. Сначала он обогатился, торгуя женщинами, потом, разоренный кораблекрушением, воевал против римлян в рядах пастухов Самниума. Его взяли в плен, но он бежал.
Его поймали, и после того он работал в каменоломнях, задыхался в сушильнях, кричал, когда истязали, переменил много хозяев, испытал неистовство их гнева. Однажды, придя в отчаяние, он бросился в море с триремы[36], где был гребцом. Матросы спасли его и привезли умирающим в Карфаген; там его заключили в мегарский эргастул. Но так как предстояло вернуть римлянам их перебежчиков, то он воспользовался сумятицей и убежал вместе с наемниками.
В течение всего пути он не отставал от Мато, приносил ему еду, поддерживал его на спусках, а вечером подстилал ему под голову ковер. Мато наконец тронули его заботы, и он стал мало-помалу размыкать уста.
Мато родился в Сиртском заливе. Отец водил его на богомолье в храм Аммона. Потом он охотился на слонов в гарамантских[37] лесах. Затем поступил на карфагенскую службу.
При взятии Дрепана[38] его возвели в звание тетрарха[39]. Республика осталась ему должна четыре лошади, двадцать три медины пшеницы и жалованье за целую зиму. Он страшился богов и желал умереть у себя на родине.
Спендий говорил ему о своих странствиях, о народах и храмах, которые посетил. Он многому научился, умел изготовлять сандалии и рогатины, плести сети, приручать диких зверей и варить рыбу.
Иногда он останавливался и издавал глухой горловой крик; мул Мато ускорял шаг, и другие тоже быстрее шли за ним, затем Спендий снова принимался говорить, по-прежнему обуреваемый тревогой. Она улеглась вечером на четвертый день.
Они шли рядом, с правой стороны войска, по склону холма; долина внизу уходила вдаль, теряясь в ночных испарениях. Линия солдат, проходивших под ними, колебалась в тени. Временами ряды войска вырисовывались на возвышениях, освещенных луной. Тогда на остриях копий как будто дрожала звезда, шлемы на мгновение начинали сверкать, затем все исчезало, и на смену ушедшим являлись другие. Вдали раздавалось блеяние разбуженных стад, и казалось, что на землю спускается бесконечная тишина.
Спендий, запрокинув голову, полузакрыв глаза и глубоко вздыхая, впитывал в себя свежесть ветра. Он распростер руки, шевеля пальцами, чтобы лучше чувствовать негу, струившуюся по его телу. Его душила жажда мщения. Он прижимал руку ко рту, чтобы остановить рыдания, и, замирая от упоения, отпускал недоуздок своего дромадера, который шел большими ровными шагами. Мато снова погрузился в печаль; ноги его свисали до земли, и травы, стегая по котурнам, издавали непрерывный свистящий шелест.
Путь все удлинялся, и казалось, что ему не будет конца. В конце каждой долины расстилалась круглая поляна, затем снова приходилось спускаться на равнину, и горы, которые как будто замыкали горизонт, точно ускользали вдаль, когда к ним приближались. Время от времени среди зелени тамарисков показывалась река и потом исчезала за холмами. Иногда выступал огромный утес, подобный носу корабля или подножию исчезнувшего колосса.
По пути встречались отстоявшие один от другого на равных расстояниях маленькие четырехугольные храмы; ими пользовались странники, направлявшиеся в Сикку. Храмы были заперты, как гробницы. Ливийцы громко стучали в двери, требуя, чтобы им открыли. Никто изнутри не отвечал.
Возделанные пространства встречались все реже. Потянулись песчаные полосы земли с редкими тернистыми кустами. Среди камней паслись стада овец; за ними присматривали женщины, опоясанные синей овечьей шкурой. Они с криком пускались бежать, едва завидев копья солдат между скал.
Солдаты шли точно по длинному коридору, окаймленному двумя цепями красноватых холмов, как вдруг их остановило страшное зловоние, и они увидели необычайное зрелище: на верхушке одного из рожковых деревьев среди листьев торчала львиная голова.
Они подбежали к дереву; перед ними был лев, распятый, точно преступник, на кресте. Его мощная голова опустилась на грудь, и передние лапы, исчезая наполовину под гривой, были широко распростерты, как крылья птицы. Все его ребра вырисовывались под натянутой кожей; задние лапы, прибитые одна к другой гвоздем, были слегка подтянуты кверху; черная кровь стекала по шерсти, образуя сталактиты на конце хвоста, свисавшего вдоль креста. Солдат это зрелище забавляло. Они обращались ко льву, называя его римским гражданином и консулом, и бросали ему в глаза камни, чтобы прогнать мошкару.
Пройдя сто шагов, они увидели еще два креста, а дальше появился внезапно целый ряд крестов с распятыми львами. Некоторые околели так давно, что на крестах виднелись только остатки их скелетов. Другие, наполовину обглоданные, висели, искривив пасть страшной гримасой. Среди них были громадные львы. Кресты гнулись под их тяжестью, и они качались на ветру, в то время как над их головой неустанно кружились в воздухе стаи воронов. Так мстили карфагенские крестьяне, захватив какого-нибудь хищного зверя. Они надеялись отпугнуть этим примером других. Варвары, перестав смеяться, почувствовали глубокое изумление. «Что это за народ, – думали они, – который для потехи распинает львов!»
Большинство наемников, особенно северяне, были к тому же охвачены тревогой, измучены, уже больны. Они раздирали себе руки о колючки алоэ; большие мухи своим жужжанием терзали им слух, и в рядах войска начиналась дизентерия. Их беспокоило, что все еще не видно было Сикки. Они боялись заблудиться и попасть в пустыню, страну песков и всяких ужасов. Многие не хотели продолжать путь. Иные повернули назад в Карфаген.
Наконец на седьмой день, после того как они долго шли вдоль подножия горы, дорога резко повернула вправо; их глазам представилась линия стен, воздвигнутых на белых утесах и сливавшихся с ними. Затем вдруг открылся весь город; в багровом свете заката на стенах развевались синие, желтые и белые покрывала. То были жрицы Танит, прибежавшие встречать воинов. Выстроившись вдоль укреплений, они ударяли в бубны, играли на лирах, потрясали кроталами[40], и лучи солнца, заходившего позади них в нумидийских горах, скользили между струнами арф, к которым прикасались их обнаженные руки. По временам инструменты внезапно затихали, и раздавался резкий, бешеный крик, похожий на лай; они издавали его, ударяя языком об углы рта. Иные стояли, подпирая подбородок рукой, неподвижнее сфинксов, и устремляли большие черные глаза на поднимавшееся вверх войско.
Хотя Сикка была священным городом, все же она не могла дать приют такому количеству людей; один только храм со своими строениями занимал половину города. Поэтому варвары расположились по своему усмотрению в равнине, дисциплинированная часть войска – правильными отрядами, а другие – по национальностям или как попало.
Греки разбили шатры из звериных шкур параллельными рядами, иберийцы расположили кругом свои холщовые палатки, галлы построили шалаши из досок, ливийцы – хижины из сухих камней, а негры вырыли ногтями в песке рвы для спанья. Многие, не зная, где поместиться, бродили среди поклажи, а ночью укладывались на землю, завернувшись в рваные плащи.
Вокруг них расстилалась равнина, окаймленная горами. Кое-где над песчаным холмом наклонялась пальма, а по откосам пропастей выступали пятнами сосны и дубы. Иногда в грозу дождь свисал длинным пологом, в то время как небо над полями оставалось лазурным и ясным; потом теплый ветер гнал вихри пыли, ручеек спускался каскадами с высот Сикки, где под золотой крышей стоял на медных колоннах храм Венеры Карфагенской, владычицы страны. Ее душа как бы наполняла все вокруг. Волнистой линией холмов, сменой холода и тепла, а также игрой света она являла бесконечность своей силы и красоту своей вечной улыбки. Вершины гор были похожи на рога полумесяца; иные напоминали набухшие сосцы полных женских грудей, и варвары при всей своей усталости чувствовали полное сладости изнеможение.
Спендий, продав дромадера, купил на вырученные деньги раба. Он весь день спал, растянувшись перед палаткой Мато. Иногда он просыпался; во сне ему мерещился свист бича, и он проводил руками по рубцам на ногах, в том месте, где долго носил кандалы. Потом снова засыпал.
Мато мирился с его обществом, и Спендий, с длинным мечом у бедра, сопровождал его, как ликтор, или же Мато небрежно опирался рукой на его плечо: Спендий был низкорослый.
Однажды вечером, проходя вместе по улицам лагеря, они увидели людей в белых плащах; среди них был Нар Гавас, вождь нумидийцев. Мато вздрогнул.
– Дай меч, – воскликнул он, – я его убью!
– Подожди, – сказал Спендий, останавливая его.
Нар Гавас уже подходил. Он прикоснулся губами к большим пальцам на обеих руках в знак приязни, объясняя свой гнев опьянением на пиру. Потом долго обвинял Карфаген, но не объяснил, зачем пришел к варварам.
Кого он хочет предать: их или Республику – спрашивал себя Спендий; но так как он надеялся извлечь пользу для себя из всяких смут, то был благодарен Нар Гавасу за будущие предательства, в которых он его подозревал.
Вождь нумидийцев остался жить среди наемников. Казалось, он хотел заслужить расположение Мато. Он посылал ему жирных коз, золотой песок и страусовые перья. Ливиец, удивляясь его любезности, не знал, отвечать ли на них тем же или дать волю раздражению. Но Спендий успокаивал его, и Мато подчинялся рабу. Он все еще был в нерешительности и не мог стряхнуть с себя непобедимое оцепенение, как человек, когда-то выпивший напиток, от которого он должен умереть.
Однажды они отправились с утра охотиться на львов, и Нар Гавас спрятал под плащом кинжал. Спендий следовал за ним, не отходя, и за все время охоты Нар Гавас ни разу не вынул кинжала.
В другой раз Нар Гавас завел их очень далеко, до самых границ своих владений. Они очутились в узком ущелье. Нар Гавас с улыбкой заявил, что не знает, как идти дальше. Спендий нашел дорогу.
Но чаще всего Мато, печальный, как авгур, уходил на заре и бродил по полям. Он ложился где-нибудь на песок и до вечера не двигался с места.
Он обращался за советом ко всем волхвам в войске, к тем, которые наблюдают за движением змей, и к тем, которые читают по звездам, и к тем, которые дуют на золу сожженных трупов. Он глотал пепел, горный укроп и яд гадюк, леденящий сердце; негритянки пели при лунном свете заклинания на варварском языке и кололи ему в это время лоб золотыми стилетами; он навешивал на себя ожерелья и амулеты, взывал по очереди к Ваал-Камону, к Молоху, к семи Кабирам[41], к Танит и к греческой Венере. Он вырезал некое имя на медной пластинке и зарыл ее в песок на пороге своей палатки. Спендий слышал, как он стонал и говорил сам с собой.
Однажды ночью Спендий вошел к нему.
Мато голый, как труп, лежал плашмя на львиной шкуре, закрыв лицо обеими руками; висячая лампа освещала оружие, развешанное на срединном шесте палатки.
– Что тебя томит? – спросил раб. – Что тебе нужно? Ответь мне.
Он стал трясти его за плечо и несколько раз окликнул:
– Господин! Господин!..
Мато поднял на него широко раскрытые печальные глаза.
– Слушай! – сказал он тихим голосом, приложив палец к губам. – Гнев богов обрушился на меня! Меня преследует дочь Гамилькара! Я боюсь ее, Спендий!
Он прижимался к груди раба, как ребенок, напуганный призраком.
– Скажи мне что-нибудь! Я болен. Я хочу излечиться! Я испробовал все средства! Но ты, быть может, знаешь более могущественных богов или неотвратимое заклинание?
– Для чего? – спросил Спендий.
Мато стал бить себя кулаками по голове.
– Чтобы избавиться от нее! – ответил он.
Потом, обращаясь к самому себе, он продолжал говорить с расстановкой:
– Я, наверное, та жертва, которую она обещала принести богам в искупление чего-то. Она привязала меня к себе цепью, невидимой для глаз. Когда я хожу, это идет она; когда я останавливаюсь, это значит, что она отдыхает! Ее глаза жгут меня, я слышу ее голос. Она окружает меня, проникает в меня. Мне кажется, что она сделалась моей душой! И все же нас точно разделяют невидимые волны безбрежного океана! Она далека и недоступна. Сияние красоты окружает ее светлым облаком. Иногда мне кажется, что я ее никогда не видел… что она не существует, что все это сон!
Так причитал Мато во мраке. Варвары спали. Спендий, глядя на него, вспоминал юношей с золотыми сосудами в руках, которые обращались к нему в былое время с мольбами, когда он водил по улицам городов толпу своих куртизанок. Его охватила жалость, и он сказал:
– Не падай духом, господин мой! Призывай на помощь свою волю, но не моли богов: они не снисходят на призывы людей! Вот ты теперь малодушно плачешь. Тебе не стыдно страдать из-за женщины?
– Что, я дитя, по-твоему? – возразил Мато. – Ты думаешь, меня еще трогают женские лица и песни женщин? У нас в Дрепане их посылали чистить конюшни. Я обладал женщинами среди набегов, под рушившимися сводами и когда еще дрожали катапульты!.. Но эта женщина, Спендий, эта!..
Раб прервал его:
– Не будь она дочь Гамилькара…
– Нет! – воскликнул Мато. – Она не такая, как все другие женщины в мире! Видел ты, какие у нее большие глаза и густые брови, – глаза, подобные солнцам под арками триумфальных ворот? Вспомни: когда она появилась, свет факелов потускнел. Среди алмазов ее ожерелья еще ярче сверкала грудь. Следом за нею точно неслось благоухание храма, и от всего ее существа исходило нечто более сладостное, чем вино, и более страшное, чем смерть. Она шла, а потом остановилась…
Он опустил голову. Глаза его были устремлены вдаль, взгляд неподвижен.
– Я жажду обладать ею! Я умираю от желания! При мысли о том, как бы я сжимал ее в своих объятиях, меня охватывает неистовая радость. И все же я ненавижу ее! Я бы хотел избить ее, Спендий! Что мне делать! Я хочу продать себя, чтобы сделаться ее рабом. Ты ведь был ее рабом! Ты иногда видел ее. Скажи мне что-нибудь о ней! Ведь она каждую ночь поднимается на террасу дворца, не правда ли? Камни, наверное, трепещут под ее сандалиями, и звезды нагибаются, чтобы взглянуть на нее.
Он в бешенстве упал и захрипел, точно раненый бык.
Потом Мато запел:
«Он преследовал в лесу чудовище с женским обликом, хвост которого извивался среди засохших листьев, как серебряный ручеек…»
Растягивая слова, Мато подражал голосу Саламбо, протянутые руки его как бы скользили легкими движениями по струнам лиры.
В ответ на все утешения Спендия он повторял те же речи. Ночи проходили среди стонов и увещаний.
Мато хотел заглушить свои страдания вином. Но опьянение только усиливало его печаль. Тогда, чтобы развлечься, он стал играть в кости и проиграл одну за другой все золотые бляхи своего ожерелья. Он согласился пойти к прислужницам богини, но, спускаясь с холма на обратном пути, рыдал, точно шел с похорон.
Спендий, в противоположность ему, становился все более смелым и веселым. Он вел беседы с солдатами в кабачках под листвой, чинил старые доспехи, жонглировал кинжалами, собирал травы для больных. Он весело шутил, проявляя тонкость ума, находчивость и разговорчивость; варвары привыкли к его услугам и полюбили его.
Они ждали посла из Карфагена, который должен был привезти им на мулах корзины, нагруженные золотом; производя наново все те же расчеты, они чертили пальцами на песке цифры за цифрами. Каждый строил планы на будущее, рассчитывал иметь наложниц, рабов, землю. Некоторые намеревались зарыть свои сокровища или рискнуть увезти их на кораблях. Но полное безделье стало раздражать солдат; начались непрерывные споры между конницей и пехотой, между варварами и греками; беспрестанно раздавались оглушительно резкие женские голоса.
Каждый день являлись полчища почти нагих людей, покрывавших себе голову травами для защиты от солнца. Это были должники богатых карфагенян, их заставляли обрабатывать землю кредиторов, и они спасались бегством. Приходило множество ливийцев, крестьян, разоренных налогами, изгнанников, преступников. Затем явилась орда торговцев: все продавцы вина и растительного масла, взбешенные тем, что им не уплатили, стали враждебно относиться к Республике. Спендий ораторствовал, обвиняя Карфаген. Вскоре стали истощаться припасы. Начали поговаривать о том, чтобы, сплотившись, идти всем на Карфаген или же призвать римлян.
Однажды, в час ужина, раздались приближающиеся тяжелые надтреснутые звуки; издалека на волнистой линии дороги показалось что-то красное.
То были большие носилки пурпурового цвета, украшенные по углам пучками страусовых перьев. Хрустальные цепи и нити жемчуга ударялись о стянутые занавеси. За носилками следовали верблюды, позванивая большими колокольчиками, висевшими у них на груди. Верблюдов окружали наездники в чешуйчатых золотых латах от плеч и до пят.
Они остановились в трехстах шагах от лагеря и вынули из чехлов, привязанных к седлам, свои круглые щиты, широкие мечи и беотийские шлемы. Часть всадников осталась при верблюдах, остальные двинулись вперед. Наконец показались эмблемы Республики – синие деревянные шесты с конской головой или сосновой шишкой наверху. Варвары поднялись со своих мест и стали рукоплескать; женщины бросились навстречу легионерам и целовали им ноги.
Носилки приближались, покоясь на плечах двенадцати негров, которые шли в ногу мелкими быстрыми шагами. Они ступали как попало, то вправо, то влево, натыкаясь на веревки палаток, на скот, разбредшийся во все стороны, на треножники, где жарили мясо. Время от времени носилки приоткрывались, и оттуда высовывалась толстая рука, вся в кольцах; хриплый голос выкрикивал ругательства. Тогда носильщики останавливались и пересекали лагерь другим путем.
Пурпуровые занавеси носилок приподнялись: на широкой подушке покоилась голова человека с одутловатым равнодушным лицом; брови вырисовывались на лице, как две дуги из черного дерева, соединенные у основания; золотые блестки сверкали в курчавых волосах, а лицо было очень бледное, точно осыпанное мраморным порошком. Все тело исчезало под овечьими шкурами, покрывавшими носилки.
Солдаты узнали в лежащем суффета Ганнона, того, который своей медлительностью содействовал поражению в битве при Эгатских островах; что касается его победы над ливийцами при Гекатомпиле, то его тогдашнее милосердие к побежденным вызвано было, как полагали варвары, корыстолюбием: он продал в свою пользу всех пленных, хотя заявил Совету, что умертвил их.
Ганнон некоторое время искал удобного места, откуда можно было бы обратиться с речью к солдатам; наконец он сделал знак; носилки остановились, и суффет, поддерживаемый двумя рабами, шатаясь, спустил ноги на землю.
На нем были черные войлочные башмаки, усеянные серебряными полумесяцами. Ноги стягивались перевязками, как у мумий, и между скрещивающимися полосами холста проступало местами тело. Живот свешивался из-под красной куртки, покрывавшей бедра; складки шеи лежали на груди, как подгрудок у быка; туника, расписанная цветами, трещала под мышками; суффет носил пояс и длинный черный плащ с двойными зашнурованными рукавами. Чрезмерное количество одеяний, большое ожерелье из синих камней, золотые застежки и тяжелые серьги делали его уродство еще более отвратительным. Он казался каким-то грубым идолом, высеченным из камня; бледные пятна, покрывавшие все его тело, придавали ему вид неживого. Только нос, крючковатый, как клюв ястреба, сильно раздувался, вдыхая воздух, и маленькие глаза со слипшимися ресницами сверкали жестким металлическим блеском. Он держал в руке лопаточку из алоэ для почесывания тела.
Наконец два глашатая затрубили в серебряные рога; шум смолк, и Ганнон заговорил.
Он начал с прославления богов и Республики; варвары должны радоваться, что служили ей. Но необходимо выказать больше благоразумия, ибо времена пришли тяжелые: «Если у хозяина всего три маслины, то ведь вполне справедливо, чтобы он оставил две для себя?».
Так старик-суффет уснащал свою речь пословицами и притчами, кивая все время головой, чтобы вызвать одобрение у слушателей.
Он говорил на пуническом наречии, а те, которые окружали его (самые проворные прибежали без оружия), были кампанийцы, галлы и греки, и, таким образом, никто в толпе не понимал его. Ганнон заметил это, остановился и стал тяжело переминаться с ноги на ногу, соображая, что делать.
Наконец он решил созвать военачальников. Глашатаи возвестили его приказ по-гречески – этот язык со времени Ксантиппа[42] был принят в карфагенском войске для приказов.
Стража отстранила ударами бича толпу солдат, и вскоре явились начальники фаланг, построенных по спартанскому образцу, а также вожди варварских когорт со знаками своего ранга и в доспехах своего племени. Спустилась ночь, и равнина огласилась смутным гулом; кое-где засверкали огни; все ходили с места на место, спрашивая, что случилось, почему суффет не раздает денег.
Он разъяснил военачальникам затруднительное положение Республики. Казна ее иссякла. Дань, уплачиваемая римлянам, разоряла ее.
– Мы не знаем, как быть! Республика в очень плачевном положении!
Время от времени он почесывал тело лопаточкой из алоэ или же останавливался, чтобы выпить из серебряной чаши, которую протягивал ему раб, глоток питья, приготовленного из пепла и спаржи, вываренной в уксусе. Потом он утирал губы пурпуровой салфеткой и продолжал:
– То, что стоило прежде сикль серебра, стоит теперь три шекеля золотом, и земли, запущенные во время войны, ничего не приносят!.. Улов пурпура ничтожный, даже жемчуг поднялся до невероятной цены, у нас едва хватает благовонных масел для служения богам! Что касается съестных припасов, то о них лучше не говорить: истинное бедствие! Из-за недостатка галер у нас нет пряностей, и очень трудно добывать сильфий вследствие мятежей на киренской границе. Сицилия, откуда прежде доставлялось столько рабов, теперь для нас закрыта! Еще вчера за одного банщика и четырех кухонных слуг я заплатил больше, чем прежде за двух слонов!
Он развернул длинный свиток папируса и прочел, не пропуская ни одной цифры, все расходы, произведенные правительством: столько-то за работы в храмах, за мощение улиц, за постройку кораблей, столько-то ушло на ловлю кораллов, столько-то – на расширение сисситских торговых обществ, столько-то стоили сооружения на рудниках в Кантабрии.
Военачальники, как и солдаты, не понимали по-гречески, хотя наемники обменивались приветствиями на этом языке. Обыкновенно в войска варваров отряжали несколько карфагенских чиновников, чтобы они служили переводчиками. Но после войны они скрылись, боясь, что им будут мстить. Ганнон не подумал о том, чтобы взять с собой переводчика; к тому же его сиплый голос терялся на ветру.
Греки, подтянутые железными поясами, напрягали слух, стараясь уловить слова оратора, а горцы, покрытые мехом, как медведи, недоверчиво смотрели на Ганнона или зевали, опираясь на тяжелые дубины с медными гвоздями. Галлы не обращали внимания на то, что говорилось, и, насмехаясь, с хохотом встряхивали пучком высоко зачесанных волос; жители пустыни слушали неподвижно, закутавшись в серые шерстяные одежды. Сзади прибывали новые толпы; солдаты из стражи, которых теснила толпа, шатались, сидя на лошадях; негры держали в вытянутых руках зажженные сосновые ветви, а толстый карфагенянин продолжал свою речь, стоя на поросшем травою пригорке.
Варвары, однако, стали терять терпение; поднялся ропот, все заговорили с Ганноном. Он жестикулировал своей лопаточкой; те, которые хотели заставить молчать других, сами кричали еще громче, и от этого общий гул только усиливался.
Вдруг к Ганнону подскочил невзрачный с виду человек и, выхватив рог у одного из глашатаев, затрубил; этим Спендий (ибо это был он) возвестил, что собирается сказать нечто важное. На его заявление, быстро произнесенное на пяти разных языках – греческом, латинском, галльском, ливийском и балеарском, – военачальники, посмеиваясь и изумляясь, ответили:
– Говори! Говори!
С минуту Спендий колебался, он весь дрожал; наконец, обращаясь к ливийцам, которых было больше всего в толпе, он сказал:
– Вы все слышали страшные угрозы этого человека?
Ганнон не возмутился – значит, он не понимал по-ливийски. Продолжая свой опыт, Спендий повторил ту же фразу на других наречиях варваров.
Слушатели с удивлением глядели друг на друга; потом все, точно по молчаливому сговору и, может быть, думая, что поняли, в чем дело, опустили головы в знак согласия.
Тогда Спендий заговорил возбужденным голосом:
– Он прежде всего сказал, что все боги других народов – призраки по сравнению с богами Карфагена! Он назвал вас трусами, ворами, лгунами, псами и собачьими сынами! Если бы не вы, Республике (так он сказал) не пришлось бы платить дань римлянам: ваше нашествие лишило их ароматов и благовоний, рабов и сильфия, ибо вы вошли в соглашение с кочевниками на киренской границе! Но виновных покарают! Он прочел список наказаний, которым их подвергнут: их заставят мостить улицы, снаряжать корабли, украшать сисситские дома, а других пошлют рыть землю на рудниках в Кантабрии.
Спендий повторил то же самое галлам, грекам, кампанийцам, балеарам. Узнав несколько имен, донесшихся до их слуха, наемники были убеждены, что он точно передает речь суффета. Несколько человек крикнули ему: «Ты лжешь!» – но их голоса потерялись в общем гуле. Спендий прибавил:
– Разве вы не заметили, что он оставил у входа в лагерь часть конницы? По его знаку они примчатся, чтобы всех вас умертвить.
Варвары повернулись в сторону входа, и, когда толпа расступилась, в центре очутился человек, двигавшийся медленно, точно призрак, сгорбленный, худой, совершенно голый, покрытый до пояса длинными взъерошенными волосами с торчащими в них сухими листьями и шипами, весь в пыли. Бедра и колени его были обмотаны соломой, смешанной с глиной, и холщовым тряпьем; сморщенная землистая кожа свисала с костлявого тела, как лохмотья с сухих сучьев; руки дрожали непрерывной дрожью, и он шел, опираясь на палку из оливкового дерева.
Он приблизился к неграм, державшим факелы. Тупая, бессмысленная усмешка обнажила его бледные десны. Он рассматривал широко раскрытыми, испуганными глазами толпу варваров вокруг себя.
Вдруг он бросился назад, прячась за их спины.
– Вот они, вот они! – бормотал он, указывая на охрану суффета, неподвижно застывшую в своих сверкающих латах.
Лошади вздымались на дыбы, ослепленные факелами, с треском пылавшими во мраке. Человек, казавшийся призраком, бился и вопил:
– Они их убили!
При этих словах, которые он выкрикивал на балеарском наречии, прибежали балеары и узнали его; не отвечая им, он повторял:
– Да, убили, всех убили! Раздавили, как виноград! Таких молодых, таких красавцев! Метателей из пращи! Моих товарищей и ваших!
Ему дали вина, и он заплакал; потом он стал без устали говорить.
Спендий едва сдерживал свою радость, объясняя грекам и ливийцам, о каких ужасах рассказывал Зарксас. Он боялся верить его словам, до того все, что он говорил, было кстати. Балеары бледнели, слушая о том, как погибли их товарищи.
Речь шла об отряде в триста пращников, прибывших накануне и слишком поздно вставших утром. Когда они пришли на площадь к храму Камона, варвары уже ушли, и они очутились без всяких средств защиты, так как их глиняные ядра были навьючены на верблюдов вместе с остальной поклажей. Им дали вступить в Сатебскую улицу и дойти до дубовых ворот, обшитых изнутри медью; тогда все население общим напором ринулось на них.
Солдаты действительно вспомнили, что до них донесся страшный крик; Спендий, бежавший во главе колонн, ничего не слышал.
Потом трупы положили на руки богов Патэков[43], которые стояли вдоль храма Камона. На убитых взвели все преступления наемников: обжорство, воровство, безбожие, глумление, а также убийство рыб в саду Саламбо. Тела их позорно изувечили; жрецы жгли им волосы, чтобы мучилась их душа; затем развесили по кускам в мясных; кое-кто даже вонзал в них зубы, а вечером, чтобы покончить с ними, на перекрестках зажгли костры.
Это и были те огни, что светились издали на озере. Но так как от костров загорелось несколько домов, то остальные трупы, так же как и умирающих, выбросили за стены. Зарксас прятался до следующего дня в камышах на берегу озера; потом он бродил по окрестностям, отыскивая войско по следам в пыли. Утром он скрывался в пещерах, а вечером снова отправлялся в путь. Из его открытых ран струилась кровь, он шел голодный, больной, питаясь кореньями и падалью. Наконец однажды он увидел на горизонте копья и пошел следом за ними; ум его помутился от ужаса и страданий.
Возмущение солдат, сдерживаемое, пока он говорил, разразилось, как буря; они хотели тотчас же уничтожить охрану вместе с суффетом. Некоторые, однако, воспротивились, говоря, что нужно выслушать суффета и, по крайней мере, узнать, заплатят ли им. Тогда все стали кричать:
– Наше жалованье!
Ганнон ответил, что привез деньги.
Все бросились к аванпостам и при участии варваров поклажу суффета привезли в лагерь; не дожидаясь рабов, они сами развязали корзины; там оказались одежды из фиолетовых тканей, губки, лопаточки для почесывания, щетки, благовония, палочки из сурьмы, чтобы подводить глаза; все это принадлежало конной охране, людям богатым и изнеженным. Среди клади оказался также большой бронзовый чан, навьюченный на верблюда: он принадлежал суффету, который брал в нем ванны во время пути. Суффет принимал всякие предосторожности, заботясь о своем здоровье; он вез в клетках даже ласок из Гекатомпиля, которых сжигали живыми для изготовления лекарственного питья. А так как болезнь Ганнона вызывала большой аппетит, то он взял с собою много съестных припасов и вина, рассолы, мясо и рыбу в меду, а также горшочки из Коммагены[44], наполненные топленым гусиным жиром, покрытым снегом и рубленой соломой. Таких горшочков припасено было очень много, их находили в каждой корзине, которую развязывали, и это вызывало каждый раз взрыв смеха.
Что же касается жалованья наемникам, то оно наполняло не более двух плетеных корзин; в одной из них оказались даже кожаные кружочки, которыми Республика пользовалась, чтобы тратить поменьше звонкой монеты; и когда варвары очень этому удивились, Ганнон объяснил, что ввиду трудности счетов старейшины не успели еще рассмотреть их и пока посылают вот это.
Тогда наемники стали бить и опрокидывать все, что попадалось: мулов, слуг, носилки, провизию, поклажу. Они брали пригоршнями деньги из мешков и побивали ими Ганнона. Он с трудом сел на осла и, уцепившись за его шерсть, пустился в бегство, рыдая, вопя, изнемогая от тряски и призывая на войско проклятие всех богов. Широкое ожерелье из драгоценных камней прыгало у него на груди, подскакивая до ушей. Он придерживал зубами длинный плащ, который волочился за ним, а варвары кричали ему издали:
– Убирайся, трус! Боров! Клоака Молоха! Улепетывай со своим золотом, своей заразой! Скорей! Скорей!..
Охрана его скакала за ним в полном беспорядке.
Но бешенство варваров не утихало. Они вспомнили, что несколько человек из войска, ушедшие в Карфаген, не вернулись: их, наверное, убили. Несправедливость карфагенян приводила их в неистовство, и они стали вырывать шесты палаток, свертывать плащи, седлать лошадей; каждый брал свой шлем и копье, и в одно мгновение все было готово к походу. У кого не нашлось оружия, те бежали в лес, чтобы нарезать себе палок.
Занимался день; население Сикки, проснувшись, взволнованно забегало по улицам. «Они идут на Карфаген!» – говорили кругом, и этот слух вскоре распространился по всей стране.
На каждой дорожке, из каждого рва появлялись люди. Пастухи бегом спускались с гор.
Когда варвары ушли, Спендий объехал равнину, сидя верхом на пуническом жеребце; рядом с ним раб вел третью лошадь.
Из всех палаток осталась только одна. Спендий вошел в нее.
– Вставай, господин! Мы выступаем!
– Куда? – спросил Мато.
– В Карфаген! – крикнул Спендий.
Мато вскочил на лошадь, которую раб держал наготове у входа в палатку.
33
Гоплиты – тяжеловооруженная греческая пехота.
34
Катапульта – боевая машина, метавшая камни и каменные ядра на расстояние до 300 м.
35
Лупанар – дом терпимости у древних римлян.
36
Трирема – военный корабль (галера) с тремя этажами весел.
37
Гараманты – народ, обитавший в Центральной Африке, предки современных туарегов.
38
Дрепан – сицилийский порт, у которого римский флот под командой консула Публия Клавдия был разбит карфагенским адмиралом Атарбасом (249 г. до н. э.).
39
Тетрарх – управляющий частью области во времена Римской империи.
40
Кротал – ручной ударный музыкальный инструмент древних греков и римлян, похожий на кастаньеты; им пользовались преимущественно в танцах.
41
Кабиры – семь финикийских «великих божеств». С конца VI в. до н. э. им были посвящены мистерии, справлявшиеся на греческом острове Самофракия.
42
Ксантипп – спартанский полководец, приглашенный Карфагеном для борьбы с римлянами во время 1-й Пунической войны. Нанес решительное поражение римскому экспедиционному корпусу под командой Атилия Регула (255 г. до н. э.). Рассказы о неблагодарности карфагенян, якобы умертвивших Ксантиппа после одержанной им победы, не соответствуют действительности.
43
Патэки – финикийские божества, карлики. Их изображениями обычно украшали нос корабля.
44
Коммагена – область Северной Сирии.