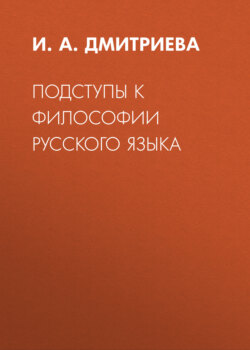Читать книгу Подступы к философии русского языка - И. А. Дмитриева - Страница 2
Подступы к философии русского языка
Введение
ОглавлениеЭта книга – размышление о феномене самобытной русской философии, о том, существует ли она вообще, обладает ли она самостоятельной значимостью и имеет ли она реальный ресурс, чтобы претендовать на самобытность. Или же она лишь не очень удачный, а возможно, и совсем неудачный вариант западноевропейской философской традиции, удел которого – понимание и комментирование западных учителей.
Казалось бы, какой смысл говорить сегодня, в век глобализации, о национальных особенностях. Мир давно стремится к общечеловеческому: к общечеловеческим ценностям, общечеловеческим интересам, общечеловеческим идеалам. И может показаться, что разговор о специфике национального мышления устарел. Но это иллюзия. Национальная мысль по-прежнему довлеет практически в любой сфере современной социальной жизни, обязывая людей думать в соответствии с национальным умостроем. Например, кто политически смог овладеть концептом «общечеловеческого» и связать с ним собственные локальные интересы, тот и может претендовать на влиятельность и привилегии в нынешнем глобализирующемся мире. Так, например, произошло с идеей демократического общества, которая из весьма локального и национального способа политической организации за достаточно короткое время превратилась в общечеловеческую идею. И с ней теперь необходимо считаться любым политическим акторам, определяющим государственное устройство.
Механизм превращения частных идей в глобальные – это всего лишь один из эпистемологических способов освоения мира, связанный с культурной экспансией. Но универсален ли такой способ?
Вопрос о превращении частных идей в глобальные напрямую связан с вопросом о возможности самобытной русской философии. Указать на возможность существования русской самобытной философии – это значит посмотреть на отечественную философию автономно, без соотнесения с западноевропейской традицией.
Указания на «русские воззрения» очень часто вызывают настороженность у интеллигентной публики: «Мы все граждане мира, а вы нам предлагаете опуститься до местечкового патриотизма». Полагают, что в нашем столетии среди вездесущего смешения различных наций, народностей, этносов какие-то существенные различия между общностями выделить все сложнее и сложнее, а значит, проблема национального самоопределения вроде бы теряет свою актуальность. И такую точку зрения многие мыслители поддерживают уже продолжительное время в течение нескольких веков. И когда поднимается вопрос о своеобразии русской мысли, то его очень часто объявляют бессмысленным.
Еще в середине XIX века К. С. Аксаков высказал тезис о том, что общечеловеческого как некоего конкретного мировоззрения вообще не существует – оно лишь объединяет собой мировоззрения некоторых избранных народов. И когда мы противопоставляем русское мировоззрение общечеловеческому, когда мы во имя мифического общечеловеческого мировоззрения отказываемся от русского мировоззрения, мы тем самым фактически отказываем русскому мировоззрению считать себя общечеловеческим. Но ведь, по Аксакову, чтобы понять, что такое общечеловеческое мировоззрение, нужно быть именно собою, иметь свое мнение и мыслить самому. А те же, кто считает, что понятие общечеловеческого снимает все национальные различия, выступают лишь за «исключительность европейской национальности», которой и придают всемирное значение и ради которой отнимают право у русского народа на общечеловеческое[1].
«Русское» и «общечеловеческое» взаимно принадлежат друг другу, предполагают друг друга и невозможны друг без друга. В противном случае «общечеловеческое» неизбежно превращается в фантом, а само противопоставление «русского» и «общечеловеческого» становится идеологическим ходом и служит средством усиления политического давления. В связи с этим напрашиваются вопросы. Во-первых, что значит «быть собою, иметь свое мнение и мыслить самому» применительно к России? Во-вторых, сохранили ли мы сегодня эту способность к самостоятельности мысли, двигаясь и петляя из стороны в сторону: от мессианской русской идеи к интернационализму – сначала пролетарскому, а затем буржуазному?
Применительно к философии вопрос о возможности именно русского мышления приобретает особую остроту. Фактически это вопрос о судьбе русской философии: возможна ли в принципе русская философия как самостоятельное явление, или она – только «этнографический материал», не создающий никаких самостоятельных проектов, а все те, кто занимаются философией в России, – лишь «принципиальные аутсайдеры и критики».
Говоря о возможности русской философии, прежде всего необходимо ответить на вопрос: существует ли такое отличие русского мироотношения от западноевропейского, которое было бы основанием особого типа философствования и которое позволило бы установить специфику русской философской мысли? Но если русская философская мысль может быть выделена в ее самобытности по отношению к иному, то только благодаря особенностям нашего мироотношения.
Очень часто русскую философию узнают в качестве таковой лишь в той мере, в какой она оказывается подобной западноевропейской философии. И тогда все ее усилия истолковывают в духе соответствия немецкой, французской, англо-американской философским традициям. Получается, что русская философская мысль не содержит в себе своего внутреннего обоснования, а всегда находит себе обоснование только вне себя, только в соотнесении с иной мыслью, прежде всего с западноевропейской философской мыслью. Русскую философскую мысль пытаются измерить масштабами мысли западноевропейской философии, связывая русскую мысль то с платонизмом, то с гегельянством или шеленгианством, то с феноменологией и т. п. И тогда феномен русской философии появляется лишь как иноформа чужой мысли. А такое проявление русской философии через чужую мысль провоцирует тех, кто занимается философией в России, работать только с этим иным, с чужими идеями и смыслопостроениями. Такое проявление заставляет их искать для чужих идей и смыслопостроений какое-то место в составе русской философской традиции. Сама русская философия оказывается тогда «незаметной» для европейского взгляда. Вместо того чтобы развивать самобытную русскую философию, русские философы оказываются несущественным приложением для чужих идей и смыслопостроений.
Философия – это всегда предельное выражение смысла того или иного мироотношения, и предельные смыслы выстраиваются таким образом, чтобы максимально соответствовать этому национальному мироотношению. XX и XXI век многое изменил в жизни России. Многое, что ранее с очевидностью демонстрировало отличие русского мироотношения от европейского, стало историей. Со временная тенденция мирового развития тяготеет к унификации мысли, что приводит к игнорированию национальных умостроев, и в итоге мы наблюдаем в мысли господство европоцентризма, гипертрофию одного миросозерцания, которое разрослось до мирового масштаба. Сможет ли мысль постсоветской России найти такие ресурсы, которые позволили бы ей сохранить и развивать собственные мыслительные традиции?
Необходимо отметить, что само понятие «русская философия» отсылает нас не к географической общности, а к социокультурной. Русская философия представляет собой особый строй мысли, отличный от европейских и восточных традиций. Английская, французская, немецкая, испанская, итальянская и др. философские традиции, несмотря на свои особенности, часто созвучны друг другу и представляют единый строй мысли, развивают единую философскую традицию, которая строится на общих для них основаниях и принципах. А вот русская самобытная философская традиция существенно отличается от этой единой западноевропейской философской традиции.
Не стоит отождествлять философию в России и русскую самобытную философию. Они не совпадают полностью, хотя и могут пересекаться. Философия в России – это русскоязычная философия, которая в своем развитии реализует как западноевропейские традиции, так и самобытные традиции отечественной мысли. Русская философия может быть представлена двояко: с одной стороны, как развитие самобытной традиции, а с другой стороны, как продолжение европейского философствования. Один из крупнейших русских философов рубежа XIX–XX веков В. В. Розанов строго различал две противоположные тенденции в развитии философии в России – западно-ориентированную и исконно русскую, «официальную философию университетских кафедр» и «философское сектантство, темные, бродящие философские искания». Он писал, что в обе формы нашей «философии» движутся без всякого взаимодействия: они почти не знают друг друга, явно друг друга игнорируя[2]. Первая ветвь этой «философии» поддерживает идею, что у нас «все от варяг быша», и потому нет в ней не только чего-нибудь «народного» или идущего от живого общества, но нет вообще книги как живого и целого явления, несущего на себе печать лица. Вторая, «сектантская» ветвь, не имея научного декорума и даже часто плана, в высшей степени полна «жизненного пороха»: этой взрывчатости, самогорения, порыва мысли и всегда около действительности, около «природы вещей». «Эта философия тесно связана с нашей литературой, тогда как первая связана исключительно с учебными нуждами»[3]. Но откуда у В. В. Розанова такая уверенность в существовании самобытной русской философии? Разве это самоочевидно?
Один из столпов западноевропейской мысли И. Кант, размышлявший о границах человеческого познания, отмечал, что философия возможна только на родном языке. С. Н. Булгаков затем проиллюстрировал соображение Канта о роли родного языка, показав, что категориальный строй у Канта – это не более чем развернутый комментарий к немецкой грамматике[4]. А сама идея о связи языка, мироотношения и мышления возникла в Германии в среде гумбольтианцев. Именно они указали на определяющую роль языка в философском творчестве. Эта идея в XX веке поддержана Сепиром и Уорфом, которые сформулировали гипотезу лингвистической относительности. В ней утверждается, что структуры языка определяют структуру мышления. «Сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или при соотносительности языковых систем»[5].
Опираясь на эту гипотезу, можно предположить, что родной язык – это основание всякого мышления, в том числе и философского, то есть мышления, конструирующего предельные смыслы. Родной язык – это та данность, которая существует для каждого из нас изначально, и поэтому не требует специального понимания. Родной язык для нас просто есть, и он занимает особое привилегированное место в нашей жизни. Он всегда первый и единственный. Родной язык – это всегда выделенная точка языкового пространства, точка отсчета, которая определяет наши возможности мироотношения. И в таком мироотношении нет равенства языков. Мы видим мир таким, каким открывает его для нас наш родной язык. Поэтому, например, в России всех иностранцев, которые не владели русским языком, долгое время называли немыми, то есть немцами.
Приведем несколько примеров.
Откуда мы знаем, что космическое пространство не является чуждым и враждебным человеку? Эта интуиция содержится в слове «вселенная». Вселенная нас ждет – это место, куда можно вселиться. То есть мир за пределами Земли открыт для человека, и одно из предназначений человека – преодоление земного притяжения. Не исключено, что именно эта языковая интуиция русского слова «вселенная» и стала поводом для появления такого философского направления мысли в России, как русский космизм, а затем и космического его воплощения.
Когда люди задаются вопросом «куча – это сколько?», они не всегда знают, как ответить на этот вопрос. Этот вопрос для многих народов вообще не имеет ответа. А русский язык дает однозначный ответ. Для русского языка «куча» – это не просто много: это «много» конкретизировано грамматически. С точки зрения грамматики «много» в русском языке начинается не с трех или с десяти, а с пяти. Чтобы это установить, достаточно обратить внимание на то, что в русском языке есть два множественных числа: одно для обозначения немногого, а второе для обозначения много. И если мы считаем возраст (1 год, 2 года, 3 года, 4 года), то начиная с 5-ти мы наблюдаем изменение: годы уходят, и мы говорим, что 5 лет. Если мы так же считаем предметы (например, книги), наблюдаем такое же изменение: 2 книги, 3 книги, 4 книги, но 5 книг и т. д. По изменению окончания мы фиксируем второе множественное число.
Для русских людей синонимия слов «ворота» и «врата» достаточно условна, поскольку они обозначают несоизмеримые по смыслу объекты.
Подобных примеров о том, что язык высказывает нам определенные содержания, можно привести множество. И все они говорят о том, что русские видят мир несколько иначе, нежели французы или англичане. Народы посредством языка выстраивают разные миры, и размышления об этих мирах тоже оказываются разными, поскольку эти размышления всегда направляются родным языком. Наше познание в целом оказывается замкнуто в рамках возможностей родного языка. Но тогда любая претензия на универсальный или объективный взгляд на мир, любая идея об универсальных схемах познания и мышления оказываются перед вопросами: какой мир считать подлинным миром? Мыслить и думать – это одно и тоже? Что значит познавать?
Чтобы начать отвечать на эти вопросы, мы прежде всего (порой интуитивно) обращаемся к родному языку, и наша задача уловить те смыслы, которые уже содержатся в языке. Мы понимаем нечто лишь в той мере, в какой это уже было понято языком. И философское мышление только и может существовать в пространстве понятого родным языком. Только с этой погруженностью в родной язык философия обретает свои интуиции, и они овладевают философом до всякого мышления и познания.
Если устроение русского языка подобно строю западноевропейских языков, то говорить о самостоятельности русской философии было бы затруднительно: в этом случае русская философия оказывалась бы регионом западноевропейской мысли, функционирующим по законам, свойственным этой мысли. Но если устроение русского языка существенным образом отличается от строя западноевропейских языков, то резонно предположить и существование самобытной русской философской традиции. Если именно языковое богатство определяет и конкретизирует мышление и познание, то вопрос о самобытной русской философии стоит решать, обратившись непосредственно к русскому языку, к его истории, структуре, принципам его функционирования. Такое обращение невозможно в отрыве от исторического развития России и описания становления русского видения мира, которое гармоничным образом поддерживалось русским языком и создало тот тип мышления, который стал основой русской философской традиции.
1
См.: Аксакова К. С. «О русском воззрении», «Еще раз о русском воззрении» // «Русская идея: антология» М., Республика. С. 110–112.
2
Розанов В. В. Природа и история. Сборник статей. 1900, СПб. С. 161.
3
Там же С. 162.
4
См.: Булгаков С. Н. Философия имени. YMCA-PRESS. Париж, 1956. С. 89–118.
5
Уорф Б. Л. Наука и языкознание (О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и обычаи влияют на мышление) // Новое в лингвистике / сост., ред. и вступ. ст. В. А. Звегинцева. Вып. 1. М.: Изд-во Иностранной Литературы, 1960. 463 с.