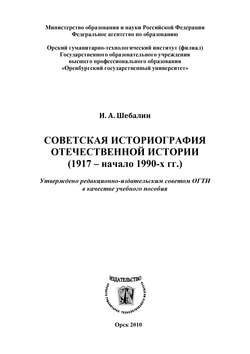Читать книгу Советская историография отечественной истории (1917 – начало 1990-х гг.) - И. А. Шебалин - Страница 3
1. УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1917-1931 гг.)
1.1. Становление марксистского направления в отечественной историографии
ОглавлениеВ марксистской историографии первого десятилетия советской власти складывалась довольно сложная обстановка, обусловленная множественностью интерпретаций марксизма. Первое его осмысление применительно к российской действительности принадлежит B. И. Ленину, которого по праву считают основоположником советской исторической науки. Он не был профессиональным историком, но многие его труды историчны. В ряде случаев им были высказаны оценки явлений истории, ставшие на многие годы основой для изысканий марксистских историков.
Ленинские взгляды на историю России включили в себя немногочисленные оценки феодального периода истории и более или менее разработанную схему истории XIX – начала XX в.
Из проблем дооктябрьской истории России В. И. Ленин наибольшее внимание уделял империализму. Именно им был сделал вывод о наличии в России государственно-монополистического капитализма, который является «полнейшей материальной подготовкой социализма».
Детально разработал В. И. Ленин историю возникновения и развития РСДРП(б). Им была высказана мысль о полувековых поисках передового учения в России. Возникновение большевизма как течения политической мысли и как политической партии он датировал 1903 г. История партии рассматривалась им в единстве с историей рабочего движения. Ленин углубил мысль о месте и значении первой русской революции, указав, что «…без «генеральной репетиции» 1905 года победа Октябрьской революции 1917 года была бы невозможна». Им же была развита мысль о Декабрьском вооруженном восстании 1905 г. как высшем пункте развития революции.
В. И. Ленин стал основным историком первых лет диктатуры пролетариата, предложив собственную трехэтапную периодизацию событий. Он выделил период с 25 октября 1917 г. по 5 января 1918 г.
как время довершения буржуазно-демократической революции, а главное – время упрочения советской власти. В качестве второго этапа В. И. Ленин выделил Брестский мир, затем – этап гражданской войны от чехословаков и «учредительцев» до Врангеля (1918-1920 гг.) и, наконец, этап перехода к мирному строительству в 1921 г.
Ленинская концепция истории России явилась исходным пунктом последующих построений марксистских историков и обществоведов, которые стали предлагать свою интерпретацию не только марксизма, но и ленинизма. При этом широкое развитие получило цитатничество, допускалось использование высказываний В. И. Ленина, относящихся к истории одной эпохи, для характеристики другой. Историки не всегда проводили грань между мыслями, обусловленными генеральной направленностью того или иного сочинения, и идеями «случайными», которые также возводились в ранг абсолютной истины.
Следом за В. И. Лениным свое толкование истории России предложил Л. Д. Троцкий. По мнению его биографа И. Дойчера, «исторические сочинения Троцкого диалектичны до такой степени, что в марксизме подобного не видывали со времен Маркса, от которого Троцкий заимствовал свой метод и стиль» (Дойчер, И. Троцкий в изгнании / И. Дойчер. – М., 1991. – С. 275). Он же считает, что Троцкий – единственный гениальный историк среди марксистов.
Основное внимание при разработке собственной концепции Л. Д. Троцкий уделил особенностям исторического развития России. По его мнению, вынужденная развиваться под экономическим и военным давлением Запада, Россия не могла пройти через все фазы «классического» цикла западноевропейского прогресса. Она не могла провести собственную реформацию или буржуазную революцию под руководством буржуазии. Отсталость страны заставляла ее стремительно продвигаться политически к уровню, достигнутому Западной Европой, и за ним – к социалистической революции. Слабая русская буржуазия была неспособна сбросить с себя бремя полуфеодального абсолютизма, но в тандеме с рабочим классом, поддержанным мятежным крестьянством, она стала революционной силой. Рабочий класс не мог удовлетвориться установлением буржуазной демократии и стал бороться за реализацию социалистической программы. Таким образом, в силу «закона комбинированного развития» крайняя отсталость имела тенденцию соединиться с крайним прогрессом, что и привело к взрыву 1917 г.
Особую роль Л. Д. Троцкий отводил роли личности в истории.
Его детерминистский взгляд на исторический процесс позволил относиться ему к политическим противникам не свысока, а объективно. Он, как правило, не квалифицировал врагов большевизма как коррумпированных и гнусных людей. Примером может служить историческая характеристика, данная Николаю II: «Николай II унаследовал от своих предков не только гигантскую империю, но и революцию. Они не оставили ему в наследство ни одного качества, которое дало бы ему возможность управлять империей, губернией или даже уездом. Историческому паводку, каждый вал которого подкатывался все ближе к воротам его дворца, наследник Романов противопоставлял лишь немое безразличие».
Историческая концепция Л. Д. Троцкого была подвергнута резкой критике и не породила направления в исторических исследованиях. Однако ее воздействие на историографическую ситуацию 20-х гг. несомненно. Оно проявилось хотя бы в том, что возникла целая школа историков и обществоведов, которая специализировалась на критике работ Л. Д. Троцкого и борьбе с троцкизмом.
Свою интерпретацию истории России на базе марксизма в 20-е гг. предложил М. Н. Покровский. Относительно его роли и места в развитии исторической науки существует несколько точек зрения, среди которых можно выделить две диаметрально противоположные. Первая сводится к его характеристике как существенного видного историка-большевика 20-30-х гг., обладающего безграничной, диктаторской властью над исторической наукой и ответственного за преследования буржуазных историков. М. Н. Покровскому приписывается, по сути дела, незавидная роль «передаточного рычага» между партийно-государственной машиной и сферой исторической науки. Второе мнение апологетическое.
М. Н. Покровский был последним историком, пытавшимся осмыслить историю России в целом. Однако, с профессиональной точки зрения, предложенная им концепция достаточно уязвима, так как при ее создании автор выступал как компилятор, а не исследователь.
В концентрированном виде концепция М. Н. Покровского была изложена в «Русской истории в самом сжатом очерке», первые две части которой увидели свет в 1920-е гг. и были высоко оценены В. И. Лениным. Историческая схема М. П. Покровского проникнута пафосом отрицания теории надклассового государства и исключительности пути России. Считается, что ему принадлежит фраза: «История – это политика, опрокинутая в прошлое». И хотя авторство отрицается рядом исследователей, однако оно несомненно. В трудах М. Н. Покровского мы находим подобную характеристику работ буржуазных историков. А его многочисленные ученики уже при жизни учителя и без возражений с его стороны использовали эту мысль для описания исторической науки в целом, что позволяет считать ее заостренной формулировкой взглядов самого М. Н. Покровского. Кроме того, М. Н. Покровский, выступая 8 декабря 1930 г. на партийном собрании Института истории Комакадемии, заявил: «Борьба на историческом фронте есть борьба за генеральную линию партии. Положение «история – политика, обращенная в прошлое» означает собой, что всякая историческая схема есть звено, цепочка для нападения на генеральную линию партии. Существует самая тесная связь между борьбой за генеральную линию партии и борьбой на историческом фронте. Их нельзя разрывать. Трудно себе представить такую вероятность, что сторонник генеральной линии партии является ревизионистом в исторических работах. История … не есть самодовлеющая задача, история – величайшее орудие политической борьбы; другого смысла история не имеет» (Артизов, А. Н. Критика М. Н. Покровского и его школы / А. Н. Артизов // История СССР. – 1991. – № 1. – С. 106). По сути дела, М. Н. Покровский призывал к прямому подчинению исторических исследований требованиям партии. Попытки критики М. Н. Покровского предпринимались еще в 20-е гг. (А. Н. Слепков, С. Г. Томсинский, В. Н. Рахметов), однако в условиях незыблемого авторитета ученого как руководителя советской исторической науки они не получили развития.
Организационное оформление марксистского сектора российской историографии связано с возникновением исследовательских учреждений и учебных заведений нового типа. Среди них – Социалистическая академия общественных наук (1918 г.), Институт К. Маркса и Ф. Энгельса (1921-1922 гг.), Истпарт (1920 г.) и т. д. Наибольший интерес представляют Институты Красной профессуры, деятельность которых была наиболее плодотворной в научном плане.
Идея создания специального центра для подготовки марксистских кадров обществоведов и историков была выдвинута на 1-м совещании по народному образованию (декабрь 1920 – январь 1921 г.) и нашла воплощение в декрете СНК РСФСР от 11 февраля 1921 г. На его основании в Москве и Петрограде и были созданы Институты Красной профессуры, в которых сложился новый тип учебного заведения при сочетании теоретико-методологической подготовки и проработки отдельных тем в рамках научно-исследовательских семинаров по истории. Ядро педагогических коллективов составляли старые большевики и первые ученые-марксисты (В. В. Адоратский, В. П. Волгин, В. И. Невский, М. Н. Покровский, Е. М. Ярославский и др.). Часто приглашались видные партийные руководители (Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев). Основным принципом подбора слушателей ИКП была политика пролетаризации, ставшая причиной глубокого кризиса организаций на рубеже 20-30-х гг. У большинства выпускников отсутствовали прочные систематические знания по истории, многие усвоили лишь общесоциологические формулировки. ИКП выступили инициаторами дискуссий о Советах в революции 1905-1907 гг., о характере финансового капитала в России и о двух путях развития капитализма в сельском хозяйстве, о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую и так далее, однако точки зрения немарксистски настроенных историков в их ходе априорно отвергались и расценивались как идеологически вредные.
Сформированные большевиками в 20-е гг. исторические учебные заведения наряду со способными и нестандартно мыслящими историками выпустили значительный отряд малокомпетентных в профессиональном отношении людей, которые оказали негативное воздействие на последующее развитие исторической науки в стране. Именно ими был привнесен дух воинствующего догматизма и интеллектуальной нетерпимости.
К концу 20-х гг. на фоне меняющейся общественно-политической ситуации в марксистском секторе российской историографии сложилась достаточно негативная ситуация, которая характеризовалась изоляцией от лучших достижений немарксистского обществоведения. Наметились тяга к отвлеченному схоластическому теоретизированию, подмена интеллектуальной аргументации обвинениями идеологического порядка. Начался процесс унификации и догматизации марксистской исторической науки. В среде историковмарксистов стали раздаваться требования «чистоты марксизмаленинизма», «идейной выдержанности». Складыванию подобной ситуации способствовала борьба за лидерство между группировавшимися вокруг М. Н. Покровского и Е. М. Ярославского историками.