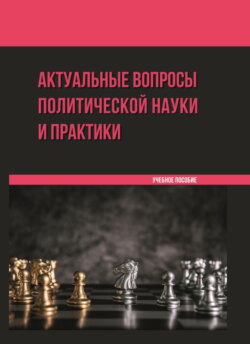Читать книгу Актуальные вопросы политической науки и практики - И. А. Ветренко - Страница 4
Глава 1
Статус современной политической философии в структуре научного знания (Мельникова И. В)
1.3. Анализ существующих точек зрения по вопросу соотношения политической философии, политической теории и политической науки
ОглавлениеПолитическая философия и политическая наука
Вопрос соотношения политической философии и политической науки остается до сих пор неразрешенным в современном научном знании, как в России, так и за рубежом. Еще более тонкой и, казалось бы, трудноразрешимой, выступает проблема соотношения политической и философии и политической теории.
Одним из принципиальных методологических затруднений, возникающих при определении дисциплинарного статуса политической философии в системе политических наук, является дискуссионность линий демаркации предметного поля самой политологии. Как минимум, можно выделить три основных способа интерпретации проблемы соотношения по линии «политическая наука-политическая философия».
Так, политическую науку можно трактовать в расширительном смысле этого термина (как комплекс наук). При таком подходе политическая философия будет выступать одним из исследовательских направлений, наряду с такими «субдисциплинами», существующими в рамках современного эпистемологического комплекса political science, как, например, «политическая компаративистика», «политическая лингвистика», «политическая транзитология», «политическая психология», «политическая элитология» и проч. Неудивительно, в этой связи, что в современном западном научном дискурсе не фигурирует понятие «философия политики», только political philosophy. При таком подходе «политическая философия» выступает одной из составляющих политического знания в целом.
Предметное поле политической науки можно трактовать в строго сциентистском смысле слова, иными словами, в узком смысле как знание исключительно эмпирическое. В таком случае, политическая философия будет выступать не наукой политической, но наукой философской, при этом, являться фундаментом, глубинным уровнем научного знания. «Давая философскую поддержку политической науке и тесно взаимодействуя с нею, политическая философия остается все же в первую очередь органической частью философского знания, в то время как политическая наука – политического» [17, с. 15].
Б. Г. Капустин отмечает: «рефлективность политической философии отличает ее и от политической науки. Последняя “позитивна” (в гегелевском смысле) по определению. Ее компетенция – описание того, как функционируют механизмы и процедуры принятия решений и разрешения конфликтов, определенных в общих чертах заложенными основаниями. Такое позитивное описание политических технологий, разумеется, имеет право на существование. Более того, оно необходимо политической философии как тот материал, в отношении которого она осуществляет свою критическую рефлексию. Без сопротивления этого материала политическая философия может быть лишь никчемным “романтическим фантазерством”. Но и политическая наука без сопряжения с политической философией утрачивает характер знания о человеческих делах, поскольку последние определяются вопросом “зачем?”, т. е. вопросом о смыслах, не в меньшей мере, чем вопросом “как?”, т. е. вопросом о технологиях. Объемное, осмысленное и практически значимое знание о мире политического возникает, таким образом, только в “дуге напряжения” между политической наукой и политической философией» [2, с. 12]. Приведем также мнение Т. А. Алексеевой: «политология, собственно, и зародилась в качестве стремления понять и описать то, как дела обстоят в действительности (курсив авт.) Тем не менее, необходим был стержень, вокруг которого мог бы быть организован эмпирический материал, сгруппированы факты, определен язык описания. В качестве такого стержня и выступает политический идеал. Благодаря этому возник единый эпистемологический комплекс, включающий в себя политическую науку или политологию (описание конкретных политических практик и институтов), политическую философию (рассуждения о природе политического, о целях и основаниях бытия человеческих сообществ, об идеалах политической организации), политическую этику, политическую психологию» [3, с. 24].
И. И. Кравченко поясняет, что «если мы обращаемся к какому-либо политическому объекту, то существующие три уровня политического знания открывают специфический аспект исследования. Такое разделение труда определяется интересами, целями и возможностями исследователя. Так, например, проблема свободы предстает для политолога-теоретика комплексом конкретных свобод – слова, совести, собраний и др. Эмпирик-политолог будет исследовать, как эти свободы реализуются в тех или иных конкретных условиях. Философ же отнесется к свободе как к условию самого человеческого политического существования в самом общем и идеальном смысле» [1].
Фундаментальный характер политической философии подтверждает и Т. А. Алексеева: «философско-теоретическая интерпретация политики есть, по-видимому, высшая форма политического знания, открывающая такие стороны познания, которые зачастую не лежат на поверхности и поэтому оказываются вне сферы внимания или интересов политиков-практиков, да и ученых других политологических специальностей. Иными словами, политическая философия абстрагируется от эмпирического знания, но вечно возвращается к нему, питается им и одновременно воздействует на него. Однако подчеркнем еще раз: разделение на две области знания отнюдь не означает непреодолимой пропасти между ними» [3, с. 27].
Таким образом, второй подход, не противопоставляя политическую науку и политическую философию, ориентирует на разграничение сферы компетенций согласно трем уровням познания, бытующим в любой науке: эмпирический, теоретический и философский (микроуровень, мезоуровень и метауровень). В науку может войти теория, описывающая эмпирическую действительность, но в знание в полном смысле она превращается лишь тогда, когда все ее понятия получают онтологическую и гносеологическую интерпретацию. Это и есть философские основания той или иной науки, для науки политической такую роль исполняет философия политическая.
Позитивистский подход. При таком подходе политическая наука и политическая философия выступают антагонистами. За политической наукой, так же как и в рамках второго подхода, признается самостоятельный статус, но абсолютизируется ее значение. Политическая наука трактуется как знание научное, а политическая философия – как вненаучное и даже антинаучное. При таком видении, политическая философия и политическая наука существуют параллельно, не оказывая влияния друг на друга. На наш взгляд, это один из самых контрпродуктивных подходов, до сих пор бытующих в научном знании. При указанном ракурсе, политическая философия и наука оказываются отгороженными непреодолимой стеной на основе оппозиции фактического и ценностного знания, знания о существующем и о должном. Нейтральность ученого противопоставляется предвзятости философа, объективность познания выставляется против субъективного мнения, рациональность против авторских мифологий, полезность и эвристичность науки противопоставляется бесполезности и бессмысленности философии. «Политическая философия и политическая наука (политология) различаются и с точки зрения выбора предмета исследования. Первая рассматривает главным образом антиномии (рациональное и иррациональное, равенство и неравенство, справедливость и несправедливость, и т. д.). Необходимость философского осмысления возникает как следствие неудовлетворительного или противоречивого характера общественных взглядов на коренные вопросы политического развития. Что касается политологии, то она обращена к политическому процессу, партиям и движениям, методам функционирования политических институтов и т. д. Коль скоро политика, по определению, призвана быть рациональной, иной не может быть и политическая наука. Философия же, в отличие от нее, рассматривает в рамках своего предмета и иррациональность, имманентную политической жизни. Политические философы пытаются выявлять причинно-следственные связи, их задача – отвечать не только на вопрос “что”, но и на вопрос “почему”» [17, с. 12]. В итоге, политические философы далеко не всегда признают в качестве операциональных любые взгляды, высказываемые политологами, а последние, в свою очередь, воздерживаются от комментариев по поводу обязательной легитимности утверждений долженствования. Философы предпочитают не анализировать все гипотезы относительно политических процессов в реальной действительности (в данном месте и в конкретное время), а опираться на общеизвестные факты политической жизни.
Однако это противопоставление эмпирического и нормативного подходов является скорее наиболее распространенной, но отнюдь не общепринятой точкой зрения. Р. Пеннок считает, например, что при подобном взгляде искажается картина реальной действительности [18, с. 4] Более того, «ультра-позитивистская» оценка политико-философского знания смещалась от центра к периферии начиная со второй половины ХХ столетия, после того, как сама методология позитивизма начинает переживать кризис своих оснований. «Сегодня можно с полным правом зафиксировать поворот исследователей политики в сторону политической философии. Это не означает, что традиционный интерес к научной стороне дела в политическом познании исчезает. Скорее речь идет о том, что вместе с этим поворотом можно констатировать серьезную методологическую перестройку всего политического познания. Речь идет не только о смене господствующих на предыдущем этапе научных парадигм, а о новом прочтении роли методологии в политике. Критическое осмысление методологического кризиса в политической науке и возврат к политической философии позволили поставить методологическую проблематику в плоскость решения вопроса о сути политического. Методология оказалась не только инструментом конструирования научных понятий, но и самого политического мира. В этом соотношении политическая философия и наука переходят от конфронтации к взаимовлиянию» [19, с. 214]. Тем не менее, такая радикальная дискредитация политической философии и ее значения для современной науки и практики встречается и сегодня, особенно в среде российских политологов. Однако нам такой подход видится деструктивным, не просто потому, что в меняющемся мире критерии научности меняются и расширяются, но и потому, что совершенно некорректно антагонистически противопоставлять теорию и практику, поскольку теория без практики безжизненна, но и практика без теории бессмысленна. С этим положением согласна О. Ф. Русакова: «…не целесообразно, на наш взгляд, проводить дифференциацию предметов философии политики и политической философии, исходя из оппозиций “внешнее/внутреннее”, “знание академическое – знание практическое”. Любой профессиональный политолог, будь то научный работник, политический аналитик, эксперт, консультант, политический технолог, не может специализироваться исключительно только на вопросах теории или на политических технологиях. И то и другое является весьма важным как для политолога-исследователя, так и для политолога-технолога. Оптимальный вариант – научиться теоретически анализировать политические реалии и практически работать внутри живой политической практики, уметь смотреть на политическую жизнь как с позиции абстрактно-теоретических, так и практически-прикладных. Что касается политической философии, то она всегда обращала свое внимание не только на проблемы сугубо теоретического плана, но и на вопросы жизненно важные с точки зрения практического политического выбора, способов достижения определенных политических целей. Она всегда обращала свои взоры не только на политические процессы и институты, но также на человека как деятельного существа, способного формировать новую политическую реальность. Для современной политической философии проблема активности человека – одна из центральных и злободневных в контексте быстро меняющегося политического мира» [5].
Другой известный российский политолог, Т. А. Алексеева, также подчеркивает взаимопроникновение и неразрывность различных уровней знания: «политическая философия предполагает рассмотрение актуальных политических проблем на нескольких уровнях анализа, при сохранении определенной независимости от превратностей политической практики. Политический философ, как правило, воздерживается от попыток непосредственного воздействия на политическую жизнь (и тем более от “хождения во власть”). Иными словами, философ абстрагируется от эмпирического знания, но вечно возвращается к этому знанию, питается им и одновременно воздействует на него. Этот вечный кругооборот спасает теорию политики и саму политику от двух угроз, ежеминутно их подстерегающих: с одной стороны, от механического наложения на политическую реальность неких абстракций, выведенных в принципиально иных исторических, социальных и культурных обстоятельствах; с другой стороны – от опасности мелкотравчатой рефлексии, не позволяющей вырваться из цепких объятий текущих событий и поверхностных возмущений» [17, с. 22].
Как известно, нет ничего практичнее хорошей теории. Более того, политическая философия имеет рельефно выраженную практическую ориентацию, как ни странно! А именно: каково качество рефлексии политических процессов, таково и качество политической практики.
Т. А. Алексеева указывает непосредственно, что политическая философия является практичным знанием (usable knowledge) [20]. «Широко распространившийся дилетантизм в политике требует упрощения знания, легко откликается на всевозможные слоганы и клише, коверкает понятия и агрессивно не приемлет высокой абстракции и достаточно сложного научного языка, подменяя его “новоязом”. Все должно быть просто, доступно, понятно той самой “кухарке”, применимо здесь и сейчас, а главное – легко продаваемо на рынке услуг. Между тем, это глубокое заблуждение. Нисколько ни умаляя значения всевозможных курсов по PR, GR, политическому менеджменту и другим прикладным дисциплинам, все же подчеркнем, что прежде чем что-то прикладывать, следует иметь то, что прикладывать, а именно: навыки политического, в том числе абстрактного мышления, умение опираться на опыт прошлого идти дальше, не ограничиваясь копированием чужих образцов, разработанных в применении к другому обществу и другим условиям. Сформировать же “то, что прикладывают”, может только политическая философия с ее мысленными экспериментами, культурой научного диалога, умением не ограничиваться только дескриптивным описанием, часто идти вопреки устоявшимся представлениям, т. е. быть “неудобным” и “непослушным”» [20, с. 56]. О глубинном значении уникального, недетерминированного мышления, но иными словами, свидетельствовал интеллектуально экстравагантный А. М. Пятигорский: «…я думаю, что сама свобода реализуется в полном освобождении, только не от служб безопасности и не от карательных органов, а от шаблона вульгарного политического мышления, из которого 90 процентов “политически мыслящего” населения не может выйти» [16, с. 55], – говорил известный российский философ.
По этой причине, два первые подхода по вопросу соотношения политической философии и политической науки можно признать научно оправданными, а вот в научной обоснованности третьему (позитивистскому), как ни странно, придется отказать. Поскольку, стремясь избавиться от ценностной и смысловой «ангажированности», позитивизм отчаянно наступает на те же самые грабли. Позитивистские цитадели создают значительно бо́льшую (с точки зрения воинственности и непримиримости) идеологическую альтернативу спекулятивной стратегии мышления.
Так, по нашему мнению, исследователи, настаивающие на антагонизме по вопросу соотношения политической философии и политической науки, являются как раз мировоззренчески ангажированными и детерминированными «просвещенческой» системой координат с присущим ей универсализмом и непримиримостью, утверждающим единственно возможный тип рациональности вопреки общенаучным трендам в сторону многообразия как типов рациональности, так и исследовательской свободы с учетом внерациональных оснований политики.
Политическая философия и политическая теория
Вопрос соотношения политической философии и теории гораздо более тонкий, чем вопрос корреляции политической науки с политической философией. Условно можно выделить два подхода.
Предметы политической философии и политической теории тождественны, следовательно, термины могут употребляться в качестве синонимов. Так, например, в англо-американских академических кругах ее часто называют политической теорией. В европейской традиции чаще говорят именно о политической философии, желая подчеркнуть нормативный характер философского мышления и традицию философствования. Так, по вопросу соотношения политической философии и политической теории Л. В. Сморгунов придерживается выделенного нами первого подхода. Он подчеркивает условность дифференциации политической философии и теории. «В современном политическом познании можно отметить тенденцию снятия оппозиционности между политико-философской теорией и теорией в политической науке. Хотя сохраняется статус эмпирической политической теории, однако исчезает резкая граница между уровнями теоретического политического знания – философского и научного. Конечно, различия остаются, но философия политики и политическая теория взаимодействуют и взаимодополняют друг друга. В этой связи повышается методологическое значение философии политического как выявленного горизонта смыслов различных научных концепций политики. В современном политическом знании выделяются три теоретических уровня: эмпирическая теория, нормативная теория и философская теория политики» [19, c. 227]. При этом последняя (ее Л. В. Сморгунов именует также философской политической теорией) трактуется различным образом: «(1) как интерпретативные суждения о политической жизни; (2) как локальная и объяснительная теория (американский постмодернизм); (3) как умозрительная и рефлективная дисциплина; (4) как моральная и рекомендательная теория» [19, с. 228].
Однако, на наш взгляд, при всем сходстве двух сфер знания, между ними есть и существенные различия. Политическая теория часто включает как эмпирический, так и нормативный подходы, и ориентируется скорее на объяснение феноменов, нежели их оценку. Политическая философия, наоборот, прежде всего, связана именно с оценкой фактов и явлений, то есть, неотделима от ценностного измерения», поэтому нам в большей степени импонирует второй подход.
Предметы политической философии и политической теории дифференцируются. Как поясняет О. Ф. Русакова, основное отличие политической философии от политической теории следует искать в «разнице исследовательских стратегий» [5]. Политическая философия нацелена, прежде всего, на выработку идей, которые формируют мировоззренческую картину политического мира. Политические теории и концепции рассматриваются ею с позиции определенной системы ценностей, идеалов и норм. Политическая же теория занимается главным образом теоретическим моделированием мира политики. О. Ф. Русакова поясняет: «здесь ситуация аналогична той, которая сложилась по вопросу о дифференциации предметов философии истории и теоретической истории. Теоретическая история интенционально стремится к максимальной деидеологизации и сциентизации своих исследовательских установок. Она нацелена прежде всего на конструирование теоретических моделей и схем исторических процессов и явлений. Ее главными аргументами выступают авторитетные научные разработки, опирающиеся на эмпирические экономические, демографические, социологические и прочие прикладные исследования. Аргументации же идеологического характера не приветствуются. Напротив, философия истории не скрывает своего родства с определенными мировоззренческими и идеологическими установками, ценностными ориентациями и верованиями» [5] и приводит два примера в качестве иллюстрации своего тезиса. «Пример первый: концепция исторической динамики, представленная в трудах знаменитого французского историка ХХ в. Фернана Броделя, которая положила начало так называемой “структурной истории”. Данная концепция опирается на весьма обширную эмпирическую базу, касающуюся истории развития стран Средиземноморья на протяжении многих веков. Поэтому ее справедливо относят к области теоретической истории. Пример второй: представленные в целой серии работ критические рассуждения известного французского историка и социолога современности Рамона Арона по поводу гегельянских и марксистских концепций развития исторического процесса. Данное творчество вполне можно отнести к философии истории (что, впрочем, делает и сам автор критики), поскольку анализ идей производится не только с теоретических, но и с мировоззренческих позиций» [5].
Можно привести не один подобный пример, следуя данной логике. Так, В. О. Ключевский – историк, а Н. Я. Данилевский или Л. Гумилев – философы истории (которые анализируют исторический процесс исходя из разделяемых ими мировоззренческих позиций).
О. Ф. Русакова также подчеркивает, что помимо данного обстоятельства «…при наличии общего объекта исследования – мира политики – указанные дисциплины прибегают к различным дискурсам. Дискурс политической философии апеллирует не только к человеческому разуму, но и к социальным чувствам, включая чувство социальной справедливости, чувство социального признания, социального доверия. Данный дискурс не всегда строг в своих понятиях. Он оперирует не столько системами категорий, сколько идеями, концептами, образами. В определенной степени дискурс политической философии близок дискурсу литературного творчества. Он является значительно более авторским, т. е. более субъективным, чем дискурс политической теории. Политическая философия в силу своей идейно-эмоциональной насыщенности часто становится мировоззренческой базой для тех или иных политических движений и практик, которые, в свою очередь, формируют социальный заказ на ту или иную философско-политическую доктрину. В случае своей жесткой прагматической ориентации политическая философия приобретает черты политической идеологии. Распространенным является также такое явление, когда та или иная политическая идеология (либерализм, консерватизм, анархизм, коммунизм, социал-демократизм, шовинизм, расизм, этнонационализм и др.) или политическое движение рассматривает в качестве своих идейных истоков творчество политических философов. В таких случаях политическая философия также превращается в определенную разновидность политической идеологии» [5].
Сразу отметим, что идеологические интенции политической философии вовсе не умаляют значения ее идейного содержания как для политической теории, так и для политической практики. Та же О. Ф. Русакова указывает, что, напротив, именно «идеологичность политической философии, представленная в виде системы убедительных аргументов и образов, придает ей характер интеллектуального импульса для новых теоретических исканий и практических политических действий» [5].
Кроме того, «политическая философия не только разрабатывает и анализирует общие нормативные принципы и критерии ответов на моральные вопросы в политике, но и предполагает описание того, какие именно институты (и как) должны претворять в жизнь морально оправданный политический порядок. Иными словами, задача политической философии в данном плане заключается в разработке и развитии общих нормативных критериев и принципов, отвечающих на фундаментальные вопросы политической морали» [17, с. 23].
Какого бы подхода по вопросу соотношения политической философии, теории и науки ни придерживался тот или иной ученый, несомненным остается факт о том, что единственной и единой для всех, общезначимой и необходимой политической философии нет и не может быть. Поскольку мыслим мы политику, как и любой другой предмет сквозь призму своего сознания. Иными словами, политическая рефлексия не бывает «как таковой», «рефлексией вообще». Она всегда «моя», «твоя», «чья-либо», то есть осуществляется сквозь призму человеческого сознания, которое уникально по определению. Таким образом, политическая рефлексия – это объект политической философии, объект, как известно, обретает свою жизнь, конкретизируется, осуществляется в предмете. Так, предметом политической философии в строгом смысле будут основные понятия политической рефлексии (политическая философия всегда индивидуальна). У «меня» – одни установки и «понятия», у «тебя» – иные, ибо мы, как мыслящие субъекты, творя свой собственный, авторский политико-философский миф, исходим из разных парадигмальных оснований.