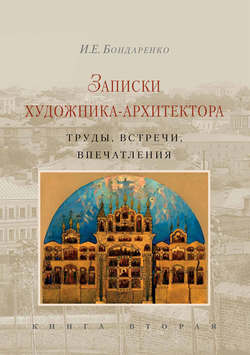Читать книгу Записки художника-архитектора. Труды, встречи, впечатления. Книга 2 - И. Е. Бондаренко. - Страница 3
Книга вторая
Глава 17
[Выставка «Нового стиля»[75]][76]
ОглавлениеАрхитекторы И.А. Фомин, Вильям Валькот и пишущий эти строки явились инициаторами этой выставки «Нового стиля», привлекая наиболее способных художников-архитекторов и мастеров декоративного искусства[77].
Выставка была открыта в 1902 г. Размещалась она во 2-м и 3-м этажах только что выстроенного дома на углу Петровки и Столешникова переулка, имела несомненный успех своей новизной[78]. На выставку приехал из Дармштадта Ольбрих и из англичан Макинтош – один из членов рёскинского клуба[79], а также Коломан Мозер из Вены.
Ольбрих прислал несколько отдельных вещей, Макинтош – целую комнату, а Коломан Мозер – серию вышитых ковров.
На общем фоне выставки «Нового стиля» в Москве мы показали жизненность нашего народного искусства, устроив отдельную комнату, где кустари Троице-Сергиевой лавры и других мест под нашим руководством сделали целый ряд превосходных вещей по рисункам Головина, Фомина, Давыдовой и моим, а также хорошего мастера Лиштвана, при участии большого мастера кустарного дела Боруцкого.
Повторением показа кустарных изделий народного творчества явились впоследствии две выставки под названием «Русское народное творчество», устроенные в Петербурге группой художников и руководителей кустарных музеев[80].
Выставка «Нового стиля» была взрывом в тихо дремлющей жизни Московского архитектурного общества[81], приютившегося в неуютных залах в 1-м этаже дома в Златоустинском переулке.
Марка нашей выставки была талантливо нарисована художником Егоровым: черная пантера с закрученным хвостом. Эта эмблема служила ироническому названию нашего общества со стороны старых рутинеров – «Кошкин хвост», и когда я приходил в Московское архитектурное общество – это было время выборов его членов, – то величественная фигура – арх[итектор] А.К. Боссе, с его пышной бородой, всегда меня встречал громовым голосом: «Кошкин хвост пришел».
В Московском архитектурном обществе был ряд архитекторов, работавших в так наз[ываемом] «русском стиле». Другая часть работала в избитых формах Ренессанса, но была и иная часть нас, архитекторов, работавших в формах «нового стиля».
Жена подолгу живала летом в родительском доме. Я приезжал и из Иваново-Вознесенска ездил в Кинешму. Оттуда пароходом до Ярославля или Нижнего Новгорода полюбоваться архитектурными пейзажами Волги.
Район г[орода] Иваново и вся Владимирская губерния, Поволжье мне нравились, там много было интересной старой архитектуры. В Поволжье шатровые колокольни были полнозвучными произведениями сочного народного творчества.
Юрьевец, Пучеж, Балахна[82] – наместниками архитектуры.
И. Фомин. Камин из песчаника с красными изразцами. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
И. Фомин. Бронзовая фигура египтянки на камин.
Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
И. Фомин. Дубовый шкаф. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
Волжские кратковременные поездки оставляли глубокое впечатление и побуждали к изучению русской архитектуры. К прямой тематике моего строительства в то время эти волжские мотивы отношения не имели.
Новое искусство стало быстро вянуть… Уже после нашего праздника молодого задора почувствовалось некое разочарование в этом искусстве. Сказывалась его нежизненность. «Не то! Не то», – повторяло сознание.
И следующая после выставки заграничная поездка показала недолговечность росписей модерна, увядание уже ощущалось…
Не удовлетворял и тот «русский стиль», что царил в школе и архитектурной практике.
И. Фомин. Стол карельской березы с эмалью. Экспонат выставки Нового стиля.
Фото 1903 г.
Тот русский стиль, который разрабатывался некоторыми архитекторами, вроде Чичагова, и его учениками, а также Померанцевым, не мог удовлетворить знающего подлинную красоту русской архитектуры.
Непонимание основных форм, навязанная классическая симметрия, совершенно чуждая русскому стилю, сухие детали, набранные из всех эпох русской архитектуры, делали, в конце концов, из подобного здания какой-то пряник, несмотря на большое мастерство строительной части постройки.
Русское народное творчество, показанное на Парижской выставке и развернутое в целом ряде последующих выставок, давало мотивы оформлений бытовой стороны жизни.
Постройка русского кустарного отдела в Париже явилась действительно первым воплощением архитектурных форм народного русского зодчества, но зажиточная часть русского общества, ее заказчики, захваченные общим безвременьем эпохи, не могла проникнуться основами самобытного народного искусства.
Даже исключительные типы таких заказчиков, как купец Щукин, наибольший не только любитель, но и знаток русского искусства, отдавший всю свою жизнь и средства на собирание предметов русского искусства и составивший себе прекрасный музей в Грузинах, не мог найти надлежащего оформления для своего музея. Здания, выстроенные по проектам архитекторов Фрейденберга и Эрихсона, – это чистая эклектика отовсюду набранных русских форм без их логической связи и без их художественной ценности[83].
Петербургская Академия художеств, неудовлетворенная однообразным толчением на месте своих программ, не выходящих из круга Ренессанса или классики, пошла по линии применения в проектах так наз[ываемого] «русского стиля», который по существу также не может быть назван русским по совершенно ложно понятой архитектонике его форм и конструктивной сущности.
И. Фомин. Эмалевая вставка в кресло. Экспонат выставки Нового стиля.
Фото 1903 г.
И. Фомин. Стул серого клена из столовой. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
И. Фомин. Камин из песчаника с изразцами.
Фриз работы В. Егорова. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
И. Фомин. Столовая серого клена. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
Петербургские архитекторы – Шрётер, Китнер, Леонтий Бенуа – выстроили целый ряд зданий с применением русских форм, выполненных прекрасно, но лишенных органичности русского искусства.
В академических программах все чаще и чаще стали даваться темы проектирования в русском стиле общественных и церковных зданий и особняков. Под рукой такого талантливого архитектора, как В.А. Щуко, выходили интересные проекты, всецело проникнутые наставлениями вышеупомянутых профессоров, но все же такие проекты были далеки от подлинно русской архитектуры.
Между тем та же Академия художеств произвела в деле изучения русского искусства громадный сдвиг, издав труд в 7 выпусках Суслова «Материалы русской архитектуры»[84], впервые показавший подлинную красоту северных деревянных построек и самобытную архитектуру каменных форм.
Как это бесконечно далеко от того «русского стиля», которым восторгался Стасов, когда архитекторы Ропет и Гартман выстроили русские павильоны на Всемирных Парижских выставках 1878 и 1889 гг.[85] и когда архитекторы Резанов и Монигетти начали строить доходные дома, украшая [их] деталями, заимствованными с узоров русских полотенец с их петушками, откуда и получился термин «петушиный стиль», нашедший яркое выражение в отделке особняка в[еликого] кн[язя] Владимира на набережной в Петербурге[86].
Й. Ольбрих. Часы. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
Й. Ольбрих. Часы. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
Й. Ольбрих. Столовая серого дуба. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
Нужно отдать справедливость Стасову, когда я привез к нему проект парижского кустарного отдела, он долго вглядывался в рисунок и затем сказал: «А ведь это ново! Ведь это по-русски! Это – здорово! Вот ведь оно где – наше русское народное!»
С еще большей убедительностью говорил об этом народном творчестве и, в частности, о нашем кустарном отделе боевой тогда журнал русской художественной мысли «Мир искусства»[87], во главе с Дягилевым – утонченным эстетом и тонким знатоком подлинного искусства. Он мало отводил страниц для народного творчества, отдавая главное предпочтение пропаганде нового западного искусства и его последним достижениям, но всегда оттеняя творчество Коровина, Головина, Малютина, Давыдовой и других художников, работавших в области развития народного искусства.
Ч. Макинтош. Салон. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
После закрытия журнала «Мир искусства»[88] московский купец, поверхностно меценатствующий, Николай Рябушинский стал издавать претенциозный, богатый по внешности журнал «Золотое руно»[89], литературная часть которого насквозь была проникнута символизмом в различных его проявлениях. Но и «Золотое руно» должно было дать место для воспроизведения на своих страницах образов подлинного народного искусства.
К этому времени поднимался интерес к изучению древнерусской живописи, и двойной выпуск «Золотого руна», посвященный образцам русской живописи: старым иконам, русской стенной росписи, как бы искупил вину издателя[90].
Изучая русское искусство, русскую архитектуру, особенно по московским памятникам зодчества, я не мог не остановиться на забытом искусстве XVIII в[ека]. «Мир искусства» и его глашатай А. Бенуа[91], начавший издавать журнал «Художественные архитектуры XVIII в.»[92], подтолкнул на внимательное рассмотрение архитектуры XVIII в., раззолоченного искусства Растрелли и памятников русского классицизма и ампира.
Та же группа архитекторов, которая с таким увлечением устраивала выставку «Нового стиля», с не меньшим увлечением теперь занималась изучением русского народного творчества и естественно подошла к изучению русского классицизма и особенно эпохи ампира.
Лето вышло удачное. Большая моя постройка была отложена на год, новые проекты можно было начать и осенью. И я решил посвятить летние два месяца обзору своего родного искусства.
Потянуло в глубь Заволжского края и Поволжья, хотелось зафиксировать виденное более основательным и детальным фотографированием памятников русского зодчества. Все приходит в свое время.
Кресла Ч. Макинтоша. Стол К. Коровина. Экспонат выставки Нового стиля.
Фото 1903 г.
К. Орлов. Мебель серого дуба. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
Познакомился я с фотографом Д.И. Певицким, энтузиастом, беззаветно любившим старую ушедшую Русь. Мы отправились в поездку по верхней Волге – от Савелова до Нижнего, с остановками в наиболее интересных местах.
Условия поездки были примитивными: маленькие пароходы с каютами внизу и открытой палубой наверху. Долгие стоянки на пристанях, где можно было найти пропитание более обильное, чем в убогом пароходном буфете, приютившемся в грязном углу около машины и уборных.
Долгое чаепитие на палубе, когда под вечер особенно красива неширокая здесь Волга, с поэтическими берегами и овеянной лиризмом тишиной спокойной реки. Лишь изредка нарушалась эта тишина, когда, например, наш пароход, обгоняя плоты, обдавал их волной, за что с плотов зычный голос бурлака посылал укоризну:
В. Фролов. Ваза; смальт с железом. Экспонат выставки
Нового стиля. Фото 1903 г.
Н. Давыдова. Дубовая полка. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
– Потише ходи! Заливает волной-то! (И родительское упоминовение, крепкое, чисто волжское.) – Гружен плот-от, размыват ободья. (Снова скандированная речь с «материнским благословением».)
На что следовало краткое замечание штурвального, типичного волжского лоцмана:
– Ишь ты, словно «Апостола»[93] читает!
И снова тишина с ритмическим стуком пароходного колеса и криками чаек… А запад гаснет, и уже силуэтом темным рисуется впереди причудливая группа старых зданий Углича, раскинувшегося по зеленому берегу направо, а налево против дремлет старый Паисиев монастырь[94].
Вот мы и в Угличе. В единственную гостиницу пускают неохотно.
Разговоры с Василь Митричем, очевидно, хозяином и вместе с тем портье «отеля» под громкой вывеской «Гостиница Берлин», причем вырезные золоченые буквы вывески были в свободном начертании, вплоть до того, что слово «Берлин» изображено через «ять».
Устроились. С самого раннего утра обзор Углича и фотографирование его изумительных памятников русского зодчества. Целый день, не отрываясь, фотографировали, осматривая всякую деталь, и к вечеру – в гостиницу обедать.
Л. Браиловский. Дубовый стул. Экспонат выставки Нового стиля.
Фото 1903 г.
И. Фомин. Камин-печь в столовой. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
<– Пожалуйте в дворянское отделение! – Это комната почище, налево. В центре за стойкой типичный буфетчик любезно предлагает: “Соляночку из стерляди, да уточки домашние. Вам полпорции?”
Еще не зная здешних обычаев, мы заказываем по целой порции. Изумленный буфетчик поднял только брови и кротко сказал:
“Слушаюсь!”
И. Фомин. Столовая серого клена. Экспонат выставки
Нового стиля. Фото 1903 г.
К. Орлов. Мебель серого дуба. Экспонат выставки Нового стиля. Фото 1903 г.
Зал архитектуры на выставке Нового стиля. Фото 1903 г.
Зал № 2 на выставке Нового стиля. Фото Эйхенвальда, 1903 г.
Оказывается, полпорции вполне достаточно не только для одного. Велико было наше удивление, когда перед нами оказалась огромная кастрюля, набитая рыбой, и на блюде 4 домашних утки! Это и есть две порции. На вопрос – нет ли виноградного вина, – последовал ответ:
– Есть, да только уж очень давнишнее, ведь у нас здесь никто такого не спрашивает, мы вам со скидкой дадим!
Оказалось – выдержанный старый крымский лафит!>[95].
А ночь уже окутала рано засыпающий Углич, в то время глухой городок, отрезанный от железной дороги. Городские [с арками], с сундуками, привязанными к столбу цепью. Под арками по проволоке на длинной цепи собака бегает. Караульщик изредка покрикивает: «Слушай!» <В опустелом городском сквере нас останавливает какой-то весьма подвыпивший мастеровой:
– Нет, ты, милый человек, рассуди! Нешто эфто порядок? Ведь так можно изувечить человека, а? Нет, по какому праву?..
Панорама Кинешмы с реки. Открытка конца XIX в.
Долго еще негодовал этот, очевидно, пострадавший человек>[96]. Два шатра Алексеевской церкви, недаром названной «Дивной»[97], силуэт ее незабываем. Еще немного и прошли – город весь. Волга заснула, огонек на барже, на пристани никого нет, парохода не ждут сегодня. Все уснуло!
После Углича съездили мы на Мологу и на пустынную реку Шексну. Затем вернулись и занялись Романовым-Борисоглебском (теперь город Тутаев).
Там на высоком берегу, над Волгой неведомый зодчий соорудил незабываемый памятник русского зодчества – собор, остроумно поставив его под углом к плесу реки, делавшей здесь излучину, рассчитав аспект наиболее эффектного обзора с Волги этого красивого сооружения[98].
Так же, как и в Угличе, и всего города, раскинувшегося по двум берегам Волги, также проста жизнь с малым своим масштабом, интересами и большой нуждой. Сонный городок. Только еще на берегу около пристаней какая-то жизнь, тут кормилица Волга вносит оживление.
Кинешма. Пристань. Открытка начала XX в.
Кинешма. Вид на город от реки Кинешмы. Открытка конца XIX в.
Кинешма. Панорама города. Фото С.М. Прокудина-Горского. Начало XX в.
Дальше по Волге мы останавливались в Костроме, Решме, Кинешме, Балахне, до Нижнего – одно место живописнее другого. Всюду находили памятники зодчества и любовались нарядными изделиями расписных дуг, фигурных пряников, сочной резьбой на избах и на кормах баржей.
Сколько материала! И какого интересного!
Это уже не угличский музей, устроенный в реставрированном (архитектором Султановым, и неудачно!) домике, называемом «Домиком Дмитрия»[99], где эти образцы народного творчества выглядят какими-то мертвыми, а здесь все это в живом окружении и живет вместе с этим простым трудолюбивым волжским народом.
Это лето было продуктивным, было осмотрено все верхнее Поволжье; отличные фотографии Певицкого служили источником, вдохновляющим и обучающим.
Но в следующее лето я предпочел один съездить в Вологду, на Сухону и по Северной Двине.
Молога. Вид с реки. Фото конца XIX в.
Всякая совместная поездка, с кем бы то ни было, все же обязывает к разговорам и мешает сосредоточенно наблюдать и думать. Вот почему я и предпочел быть один в том изумительном крае Русского Севера – этой сокровищнице народного искусства.
Но пришлось и пожалеть, что не было хорошего фотографа около меня, да и поездку свою я не мог растянуть на долгий срок.
Работы стало больше, и дела потянули скорее обратно в Москву, за свой стол, за чертежи, на постройки, где уже нельзя обойтись только помощниками.
Художественная жизнь Москвы оживлялась.
Из интимных собраний художников, так наз[ываемой] «Среды» у В.Е. Шмаровина[100], вырастало большое дело.
Бухгалтер по специальности, Шмаровин был большим любителем искусства, покупал сначала на Сухаревке картины русских художников, а затем стал собирать у себя по средам художников, даривших ему свои картины, или он покупал их у них. Сначала бывали у него и Левитан, и Коровин, когда были они молоды, но затем они ушли; пришли другие, более мелкие, ставшие завсегдатаями «Сред» – это были: Н.А. Клодт, Калмаков, Аладжалов (пейзажист), Синцов и др. Собирались они и вели так наз[ываемый] «протокол» – рисовали на большом листе бристоля и в альбом кто что вздумает, в течение долгих лет, пока были живы «Среды», собралась большая коллекция этих, подчас очень интересных рисунков, большей частью акварелью.
Молога. Афанасьевский монастырь. Фото начала XX в.
В начале революции, кажется в 1918 г., «Среды» окончились[101]. Я был раза три на этих собраниях, где после рисунков и беглых разговоров, иногда чтения стихов случайно заезжавшим Брюсовым, время проводилось в усиленном питии, вплоть до устройства мертвецкой. Популярный тогда «дядя Гиляй» находил удовлетворение в этих «Средах» («дядя Гиляй» – псевдоним В. Гиляровского, написавшего живописные меткие очерки «Москва и москвичи», где едва ли не первым описал «дно», «Хитровку» и вообще плесень московской трущобной жизни)[102].
Типичен был и сам Гиляровский среди этой компании, – коротенький, с усами как у Тараса Бульбы и постоянной табакеркой – это был целостный тип вездесущего репортера, всех знавший, как и его все знали.
Молога. Вид с реки. Фото начала XX в.
И вот, из этих «Сред» вышло «Общество московских художников»[103], куда вошли М. Врубель, К. Коровин, В. Переплетчиков, Н. Клодт и др.
Н. Синцов рисовал русские сказки, но эти слабые рисунки потухли, когда появился И.Я. Билибин, знавший русское искусство, побывавший на нашем Севере и выполнивший целую серию рисунков к нашим сказкам и русским былинам. Билибин – серьезный график, плодовитый и весьма талантливый.
Началось тяготение к русскому искусству, даже глава московских поэтов-символистов – В.Я. Брюсов начал ездить осматривать наши церкви XVII в. и заинтересовался древнерусской живописью Симона Ушакова.
Передвижные выставки держатся еще, – там Репин, Поленов, Мясоедов, Нестеров и др.
Но рождалось уже иное направление. Еще осенью 1898 г. появился журнал «Мир искусства», и как бы тусклым отражением старевших передвижников Н. Собко одновременно издает на средства «Общества поощрения художеств» журнал «Искусство и художественная промышленность»[104]. Это было состязание двух направлений.
Кострома. Вид с реки. Фото конца XIX в.
Кострома. Набережная. Открытка начала XX в.
Дягилевский журнал «Мир искусства» был свежим и интересным. Остроумные статьи, проникнутые долей задора и эстетизма, знакомили нас, русских, с западноевропейскими передовыми художниками. Впервые мы узнали талантливых художников Финляндии, впервые вскрываются сокровища искусства частных собраний[105], постепенно узнали и русское народное искусство, несмотря на иронические улыбочки А. Бенуа, наиболее талантливого художника и наиболее серьезного критика.
И тот же Бенуа стал издавать журнал «Художественные сокровища России», где показал и архитектуру Севера, и Ярославля, а также собрание русской старины П.И. Щукина в Москве и другие собрания, выявляя подлинную красоту.
Журнал «Мир искусства» отразил все новое и живое и по-новому подошел со свежим взглядом к богатству русского национального искусства.
Журнал «Искусство и художественная промышленность» сразу же показал всю затхлую атмосферу сюсюкающих «охранителей» искусства, по существу далеких от подлинного искусства. Какая-то дешевая галантерея с претенциозной внешностью. Все было бестолково и пусто. Первые номера журнала спасало имя В. Васнецова и статьи В. Стасова. Но было ясно одно: старое должно умереть и дать дорогу новому. В старом искусстве, подлинном, много заложено сил, вскармливающих молодое направление, но в данном случае Собко показал плохое старое искусство, гнилое.
Журнал «Мир искусства» субсидировала кн[ягиня] М.К. Тенишева, жаждавшая прослыть меценаткой, и сама была художницей. И у С. Мамонтова однажды в 1898 г. появился молодой, слегка пшютоватой[106]внешности С. Дягилев. Он сумел заинтересовать Мамонтова; поддержали его Серов и Коровин, – и средствами журнал был обеспечен. (Мамонтов вносил 7 000 р[ублей] ежегодно.)[107]
В журнале «Шут»[108] уже появлялись талантливо нарисованные карикатуры Щербова (подписывался он: [ «Old judge»[109]. – Примеч. ред.]). И вот однажды в нарисованной корове все узнали М.К. Тенишеву с ее челкой на лбу. Корову доит Дягилев, в очереди ждет Философов, тут же и Нестеров с вышивкой, а Репин умиленно кормит лаврами Тенишеву. Вдали гонят доить мамонта[110].
Кострома. Общий вид Сусанинской площади. Открытка начала XX в.
Тенишева обиделась[111]. Прекратила субсидию журнала. В это время у Мамонтова случился крах. Тогда Щербов дал следующую иллюстрацию этого происшествия: Репин отказался от участия в журнале Дягилева, в чем его приветствует В. Стасов. Дягилев плюнул в сторону Репина, а на горизонте уходящие выдоенная корова и мамонт. Не в бровь, а в глаз![112]
Но журнал продолжался. Дягилев умел находить деньги и выхлопотал правительственную субсидию при посредстве В. Серова, тогда писавшего портрет царя[113].
Шесть лет мы с неослабным интересом читали «Мир искусства», пока жизнь не выдвинула новых идей… <Журнал Дягилева был прелюдией к устраиваемым им выставкам>[114].
Дягилев устраивал художественные выставки. Эти выставки были большим и решающим событием в художественной жизни России. Выставка «Мира искусства» была устроена в залах Академии художеств в Петербурге[115].
Кострома. Торговые ряды. Открытка начала XX в.
На выставке все было интересно для широкой публики: убранство, где затянутые холстом академические стены украшались фризами тех великолепных панно К.А. Коровина, какие производили фурор в русском отделе Парижской выставки 1900 г.[116] Уже одно убранство было не тем обычным шаблоном, как бывало на передвижных выставках. Все лучшее в русской живописи и скульптуре, все молодое блеснуло своими талантливыми произведениями. Уже одно перечисление имен говорит за глубокое значение выставки. Все были «гвозди» – и серовские портреты, и врубелевский «Пан»[117], и скульптура Трубецкого и Обера, сомовские пленительные реминисценции ушедшего быта и проникновенно вдумчивые эскизы Нестерова, задумчивые пейзажи В. Васнецова, изысканные портреты Браза. Много-много превосходного: карикатура талантливо острая, акварельные утонченные рисунки Щерб[ова], вплоть до лучеиспускаемой радужной абрамцевской майолики, вышитых скатертей и ковров Якунчиковой[118] и Давыдовой. <Это была цветущая весна русского искусства. Когда же некоторые произведения с этой выставки появились на международных художественных выставках в Мюнхене, Вене и Берлине, то они были там свежим, полноценным явлением в западноевропейском художественном мире>[119].
Балахна. Фото конца XIX в.
Эти выставки явились как революционное событие в художественной жизни России.
В залах Академии художеств и вдруг – выставка «Мира искусства»! Но в этом-то смелом, до нахальности умелом проникновении Дягилева в мир академической рутины и была победа «Мира искусства».
«Эту заразу нельзя пускать в Академию», – орали заправилы – старики и обскуранты, близорукие и тупые. Но Дягилев нашел ход и воссел в Академии. А Щербов тотчас же нарисовал карикатуру, как Дягилев, одетый в костюм балерины, садится на купол Академии, откуда как раз перед этим была снята фигура Минервы[120]. Академики в ужасе! Это же взрыв бомбы в залах Академии, затянутых паутиной тихого бесцветного жития.
Поднялись дебаты академического ареопага, и только чуткие Куинджи и Репин смело приветствовали это новое явление. Пресса заворчала. Стасов разразился грозной страстной филиппикой[121]. Но его тромбонистый голос только больше собирал публики на выставку. В самой крупной (реакционной) газете «Новое время»[122] плохой художник и нелепый критик Н.И. Кравченко писал статьи, ругал выставку, расписывался в своей отсталости и наивности.
Балахна. Покровский монастырь. Фото начала XX в.
Романов-Борисоглебск. Общий вид. Открытка начала XX в.
В Москву, к сожалению, эта выставка не попала. Дягилев и его круг «Мира искусства» всегда очень скептически относились к московскому художественному миру, где действительно, наряду с такими колоссами живописи, как Врубель и Серов, было много мелкотравчатого. Когда через год возникла в Москве выставка «36 художников»[123], то журналу Дягилева это очень не понравилось, и отзыв был дипломатически сдержанным[124]. Произведения с этой выставки появились на международных выставках в Мюнхене, Вене и Риме и на выставках «Сецессиона» в Берлине. Западноевропейский художественный мир оценил полноценность этой новой русской живописи.
Художественная Москва питалась из этого же живительного источника «Мира искусства» и своего журнала не имела. Какие-то случайные рисунки были в журнале «Весы»[125], издававшемся только с 1904 г.; довольно тускла была графика в этом журнале.
В издательстве «Гриф» М. Дурнов рисовал малоинтересные обложки и иллюстрации к [произведениям] Оскара Уайльда[126].
На внешность книги Москва мало обращала внимания, и полиграфическое искусство было далеким от петербургской продукции, где, например, литографии Кадушкина, помещаемые в «Мире искусства», были художественно выполнены.
Все внимание было сосредоточено на содержании всяких сборников и затем журнала «Весы». Царство символизма сказывалось на каждой странице. Имена Бальмонта, Брюсова, Гиппиус, Мережковского пестрели всюду. Московские философы жевали жвачку, Грот и Лопатин аккуратно издавали «Вопросы философии и психологии»[127], где философ Н. Бердяев писал стихи на восьми языках[128]; «великий учитель жизни» Н. Федоров «поучал» заходящих к нему в библиотеку Румянцевского музея[129], Лев Толстой прохаживался в полушубке и валенках по Хамовническому переулку, Алексей Филиппов в пустых десяти комнатах дома Делянова в Настасьинском переулке по М[алой] Дмитровке[130] поднимал бурю, принимаясь за издание «Русского обозрения»[131], и ругался с Н.Н. Черногубовым, якобы укравшим у него оригинал стихов Фета. В своем особняке В. Морозова устраивала литературное чтение[132] и т. д. И все это было скучное, серое.
«Художественно-литературный кружок»[133] задавался целью объединить и художественный мир. Был и я выбран членом этого кружка, но там все интересы искусства и литературы глохли за карточными столами и ужинами.
Рефераты в кружке были шумны, но вращались темы все около того же символизма и философических измышлений Мережковского, Минского и им подобных.
Борьба за новое искусство была лишь в поэзии, и москвичи повторяли лишь глупое слово о декадентстве, а между тем родитель этого словечка – Париж – уже изживал и самое направление.
Неясное, глухое брожение сказывалось. Отражалось оно и в художественном мире, где блеснула своей скульптурой Голубкина, и в небольшом домишке на Пресне С. Коненков долбил из дерева своих «лесовичков»[134].
Насыщенной жизнью жил лишь только новый, молодой театр «Художественный», уже откинувший свое первоначальное название «Художественно-общедоступного», и переселившийся в новое, отделанное Шехтелем помещение в Камергерском переулке[135].
Декоративное искусство театра радовало своими свежими подходами и смелыми оформлениями. Еще более интересной стала декоративная сторона спектаклей Большого театра.
В декорациях работы Головина шла «Псковитянка» с Шаляпиным в роли Грозного. Коровин дал блестящие декорации к «Садко», «Русалке», «Коньку-Горбунку», «Саламбо». В «Кармен» мы увидели подлинную Испанию, так тонко воспринятую Головиным и так убедительно показанную[136]. К. Коровин уже стал преподавателем в Училище живописи, [ваяния и зодчества].
Нарождались и другие театры. Вдохновенная Комиссаржевская изумляла игрой в «Пелеасе и Мелизанде», и Метерлинк увидел русскую сцену[137].
Студии, кружки, театр, театр и театр – заполняли художественную жизнь.
А в музыкальном мире волновались новыми звуками симфонии Скрябина.
Над Москвой в апреле 1903 г. пронесся ураган: так неожиданно, среди бела дня уничтожив многовековую Анненгофскую рощу с прилегающими домишками слободы, срывая крыши, вывески, свалив телеграфные столбы, заборы[138]. Буря в природе. Буря накипала и в общественной жизни, давно искавшей выхода из-под гнета реакционного петербургского императорского правительства.
Как показательна волна этого грядущего шквала. В литературных беседах Петербурга, во всяких даже открытых диспутах так настойчиво проскальзывает ожидание чего-то нового – нового правительства, грядущей революции. «Всеобщий календарь»[139], издаваемый из года в год А. Сувориным, на страницах отдела «Русская летопись» показывает рост этого ожидания нового. Предостережения газетам и журналам, закрытия их идут в возрастающей прогрессии.
Так, например, в 1900 г. было 5 таких ударов по печати, в 1901 г. их 12, в 1903 г. – 16 и в 1904 г. – 20. За этот же период возрастают студенческие волнения и крестьянские восстания, называемые на официальном языке – «смутами», причем в рубрику «смут» занесены были и покушения на министров, губернаторов и прочей администрации.
В 1901 г. – 5 случаев, в 1902 г. – 7, в 1903 г. – 9 и в 1904 г. – 16[140], а в 1905 г. – 52, и дальше возрастает шкала народного недовольства. Наконец – 1905 г. – Москва восстала! «Бунт в Москве» – как отметила реакционная суворинская летопись 1905 г.
77
Данная фраза в рукописи завершала 16-ю главу – вероятно, ошибка машинистки.
78
Подробнее о выставке и ее участниках см.: Нащокина М.В. Московский модерн. СПб., 2012. С. 98–104.
79
С конца XIX в. в английских городах существовали так называемые «Клубы Рёскина», объединявшие учеников и последователей английского мыслителя Джона Рёскина. Автор многочисленных книг, статей и лекций по искусству, получивших широкое распространение, как в Великобритании, так и за ее пределами, Рёскин был профессором искусств Оксфордского университета, преподавал рисование в Рабочем колледже Лондона и приобрел большую популярность в среде ремесленников и рабочих, выступая также с критикой капитализма с позиций христианского социализма.
80
Речь идет о Всероссийских кустарно-промышленных выставках в Петербурге. Первая выставка была организована Министерством земледелия и государственных имуществ под покровительством императрицы Александры Федоровны в 1902 г. и проходила в Таврическом дворце. В ней приняли участие около 4 тысяч представителей 56 губерний и областей России. Вторая выставка была организована Главным управлением землеустройства и земледелия также под покровительством императрицы в марте 1913 г., она разместилась в четырехэтажном каменном здании гербария Ботанического сада на Петроградской стороне. Количество участников увеличилось до 6 тысяч. На выставках были представлены образцы гончарного дела, мебели, изделия из соломки и металла, кружева, вышивки, ковры и золото-швейные изделия, ткачество, игрушки, иконопись, экспонировались также станки и орудия для кустарного производства. Выставки пользовались огромным успехом у публики, демонстрируя высокий уровень изделий кустарного производства.
81
Московское архитектурное общество (1867–1930) – первое творческое объединение московских архитекторов и инженеров-строителей, образованное по инициативе М.Д. Быковского. Общество занималось разработкой теоретических, исторических и технических проблем архитектуры, систематическим изучением древнерусской архитектуры, организацией съездов архитекторов, первой в России архитектурной выставки, проведением конкурсов и т. д. В начале XX в. оно размещалось в Малом Златоустинском пер., 4. В 1914 г. правление Общества переехало в собственное здание в Ермолаевском пер., 17 (архитектор Д.С. Марков).
82
Далее пропуск в тексте (1–2 слова), в связи с чем смысл предложения неясен.
83
См. примеч. 48 к гл. 12.
84
Имеется в виду следующее издание: Суслов В.В. Памятники древнего русского зодчества. Вып. 1–7. СПб., 1895–1901.
85
Следует уточнить, что участие в проектировании российских павильонов на Всемирной выставке в Париже 1889 г. принимал архитектор В.А. Мазырин. В.А. Гартман спроектировал Морской отдел Русского павильона на Всемирной выставке в Вене 1873 г.
86
Речь идет о дворце великого князя Владимира Александровича (Петербург, Дворцовая наб., 26; 1872, архитектор А.И. Резанов).
87
См. примеч. 45 к гл. 14.
88
Журнал прекратил свое существование в 1904 г.
89
«Золотое руно» (М., 1906–1909; редактор-издатель Н.П. Рябушинский) – ежемесячный художественный и литературно-критический журнал. Всего вышло 34 номера. Журнал имел высокий художественный уровень оформления, содержал многочисленные иллюстрации, виньетки и другие украшения страниц, выполненные Л.С. Бакстом, Е.Е. Лансере, К.А. Сомовым. Первоначально в «Золотом руне» печатались основные представители русского символизма. После ухода руководителя литературного отдела С.А. Соколова-Кречетова вследствие конфликтов с Рябушинским в 1907 г. с журналом порвали В.Я. Брюсов, Андрей Белый, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, М.А. Кузмин, Ю. Балтрушайтис. Руководящую роль в литературном отделе «Золотого руна» стали играть Вяч. Иванов, А.А. Блок, Г.И. Чулков, С.А. Ауслендер. В журнале сотрудничали также К.Д. Бальмонт, М.А. Волошин, С.М. Городецкий и др.
90
Речь идет о строенном номере журнала «Золотое руно», посвященном древнерусскому искусству, в котором были напечатаны статьи крупнейшего исследователя А.И. Успенского: «Иконописание в России до 2-й половины XVII в.» (23 снимка с икон), «Фрески паперти Благовещенского собора в Москве» (6 снимков), «Влияние иностранных художников на русское искусство во 2-й половине XVIII в.» (6 снимков), «Живописец Василий Познанский, его произведения и ученики» (28 снимков), «Русский жанр XVII века» (Заметка об истории русской миниатюры; 7 снимков) (Золотое руно. 1906. № 7–9. С. 5–88.)
91
«Мир искусства» (1898–1924) – художественное объединение, сформировавшееся в России в конце 1890-х гг. Под тем же названием выходил журнал, издававшийся с 1898 г. Членами объединения были знаменитые художники, рисовальщики А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, Е.Е. Лансере, а также С.П. Дягилев и др. В 1904–1910 гг. большинство членов «Мира искусства» входило в состав «Союза русских художников». После революции многие деятели эмигрировали. Последняя выставка «Мира искусства» проходила в Париже в 1927 г. С 1908 г. в петербургской газете «Речь» еженедельно печатались «Художественные письма» А.Н. Бенуа, в которых он выступал как «летописец» современной художественной культуры, касаясь самых разнообразных вопросов ее развития.
92
Речь идет об иллюстрированном ежемесячном сборнике «Художественные сокровища России». Издавался в 1901–1907 гг. Обществом поощрения художеств. Выпущено 84 номера. Редакция находилась на набережной реки Мойки, д. 83. Главный редактор А.Н. Бенуа, с 1903 г. – А.В. Прахов. В сборнике публиковались (на отдельных листах) репродукции производственной живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и их описания; имелся отдел хроники культурной жизни. Отдельные тематические номера были посвящены описанию художественных собраний, музеев и дворцов Петербурга и Москвы.
93
См. примеч. 50 к гл. 2.
94
Паисиев Покровский мужской монастырь (XV в.) стоял на берегу Волги напротив Углича, в конце 1930-х гг. при строительстве Угличской ГЭС был разрушен, а его территория затоплена.
95
РГАЛИ. Ф. 964. Оп. 3. Ед. хр. 29. Л. 16.
96
Там же.
97
Речь идет о церкви Успения Пресвятой Богородицы (Успенской Дивной церкви; 1628) Алексеевского (в настоящее время женского) монастыря в Угличе. Следует уточнить, что храмовая часть здания завершается тремя шатровыми главами, образующими как бы трезубую корону.
98
Имеется в виду Воскресенский собор (1652–1678), расположенный на высоком месте в правобережной, западной части Тутаева.
99
Палаты Андрея Горяя или царевича Дмитрия – дворец углицких удельных князей (1480-е), построенный в Угличском кремле на берегу Волги. От большого деревянного дворца сохранилась только парадная престольная палата из кирпича – старейшее здание Углича.
100
«Шмаровинские среды» (Москва, с 1886) – художественный кружок, созданный по инициативе В.Е. Шмаровина, просуществовал 38 лет. Кружок объединял членов Товарищества передвижных художественных выставок, московского Товарищества художников и Союза русских художников – С.И. Ягужинского, И.И. Левитана, К.А. Коровина, А.С. Степанова, С.М. Волнухина, Н.В. Досекина, В.А. Симова, В.И. Сурикова и др. Кружок был задуман как художественный клуб, где еженедельно проводились рисовальные вечера, музыкальные концерты, литературные чтения. На «Средах» присутствовали художественный критик С.С. Голоушев (Сергей Глаголь), придумавший название кружка, В.А. Гиляровский, Ф.И. Шаляпин, В.Ф. Комиссаржевская, А.П. Ленский, С.В. Рахманинов, Ю.А. Бунин и И.А. Бунин, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, М.А. Волошин и др. Собрания проходили на квартире Шмаровина в Савеловском переулке, затем на Большой Молчановке, д. 25. Художники – члены кружка рисовали акварели, графику, виньетки, карикатуры, а с 1892 г. – обязательно так называемый Протокол «Среды», большой лист картона или бристоля, в середине которого помещался текст, на полях – рисунки. Кружок организовывал выставки в 1897, 1911 и 1918 гг.
101
«Среды» закончились в 1924 г. в связи со смертью в октябре этого года В.Е. Шмаровина.
102
Гиляровский В.А. Москва и москвичи. Книга очерков, над которой автор работал с 1912 г. до конца жизни. Впервые издана в 1926 г. «Хитровка» – название очерка, посвященного описанию быта и нравов одного из самых криминальных районов Москвы.
103
Автор имеет в виду или Московское общество любителей художеств (МОЛХ) – русское благотворительное общество любителей художественного искусства (1860–1918), или Московское товарищество художников (МТХ) – сообщество художников Москвы, существовавшее в 1893–1924 гг. Указанное им Общество московских художников было основано только в 1928 г., в него вошли бывшие члены объединений «Московские живописцы», «Маковец» и «Бытие», а также члены «Бубнового валета». Ни один из названных Бондаренко в ОМХ не состоял.
104
Императорское общество поощрения художеств (Петербург, 1820–1929; до 1882 г. Общество поощрения художников) было создано с целью содействовать развитию изящных искусств, распространению художественных знаний, образованию художников и скульпторов. Оно сыграло важную роль в пропаганде изобразительного искусства путем тиражирования произведений, благодаря обществу в России серьезно было продвинуто развитие эстампа: литографии и ксилографии. Общество способствовало освобождению талантливых крепостных художников из крепостной зависимости. См. примеч. 47 к гл. 15.
105
Речь идет о выставках, организованных С.П. Дягилевым: Выставка русских и финских художников (Петербург, 1898) и Историко-художественная выставка русских портретов в Таврическом дворце (Петербург, 1905).
106
Пшют, пшюта (разг. пренебр. устар.) – фат, хлыщ.
107
М.К. Тенишева вспоминала: «… муж принял у себя Дягилева и Мамонтова, и условие было подписано. Мы вносили по 12 500 руб. в первый год на основание художественного журнала “Мир искусства”… Мамонтов поступил со мной в высшей степени недобросовестно. Оказывается, он подписал со мной условие накануне своего краха, который он, конечно, не мог не предвидеть, и потому внесенные им пять тысяч рублей было все, что он сделал для журнала. Таким образом, все расходы по “Миру искусства” пали всецело и исключительно на меня». (Княгиня М.К. Тенишева. Впечатления моей жизни. Л., 1991. С. 162, 166.)
108
«Шут» (СПб., 1879–1914) – еженедельный художественный журнал карикатур; с 1897 г. – художественный журнал с карикатурами. Первый издатель-редактор – Д.А. Есипов. С № 24 издатель – В.Я. Эренпрейс, редактор – Д.А. Есипов.
109
Old judge – старый судья или старый знаток (англ.).
110
О карикатурах М.К. Тенишева писала: «Но “Мир искусства” в то же время был принят столь враждебно, что даже и это мое приобретение (панно М.А. Врубеля “Русалки” меценатка купила на открывшейся в 1899 г. в Петербурге выставке одноименного объединения. – Примеч. ред.) обрушило на меня целый ряд неприятностей. Отразилось все это в ряде самых неприличных карикатур Щербова, работавшего в “Стрекозе”. Он, говорят, искал меня везде, чтобы нарисовать с натуры, но так как видеть меня ему не удалось, то он изображал меня всегда со спины и аллегорически». (Княгиня М.К. Тенишева. Указ. соч. С. 166.) Следует уточнить, что Щербов сотрудничал в журнале «Шут». Речь идет о карикатуре: Щербов П.Е. Идиллия (Шут. 1899. № 13. С. 8–9).
111
Отказ М.К. Тенишевой в финансировании издания журнала «Мир искусства» был обусловлен направленностью издания, о чем она вспоминала: «Я не могла примириться с постоянным раздуванием “Ампира”, вечным восхвалением всего иностранного в ущерб всему русскому и явно враждебным отношением к русской старине». (Княгиня М.К. Тенишева. Указ. соч. С. 167.)
112
Речь идет о карикатуре: Щербов П.Е. Радость безмерная (Шут. 1900. № 4. С. 8–9).
113
Серов В.А. «Портрет Николая II» (1868–1918) (ГТГ, 1900). Авторская копия портрета. Оригинал был уничтожен в 1917 г. во время штурма Зимнего дворца.
114
РГАЛИ. Ф. 964. Оп. 3. Ед. хр. 29. Л. 19.
115
Речь идет о третьей выставе журнала «Мир искусства», проходившей в залах Академии художеств (Петербург, 1901). На ней демонстрировались 238 работ 32 художников, в том числе посмертно были выставлены картины И.И. Левитана.
116
Для оформления павильона Азиатской России и Сибири на Всемирной выставке в Париже 1900 г. были использованы живописные панно К.А. Коровина, в исполнении которых принимал участие Н. Клодт. Полотна с видами Архангельска, Мурманска, Новой Земли, тундры, с изображением тайги у Байкала, добычи золота и пушного зверя и др. служили фоном для экспонатов. Они были высоко оценены европейской критикой и отмечены множеством наград. После закрытия выставки коллекция панно была передана в этнографический раздел музея Александра III (в настоящее время ГРМ). См.: Морозова О.В. Оформление русского отдела Всемирной выставки в Париже 1900 года художниками Абрамцевского кружка / Выпуск III. Проблемы изучения памятников духовной и материальной культуры. Материалы научной конференции 1994. М., 2000. С. 108–117.
117
Врубель М.А. «Пан» (ГТГ, 1899).
118
В данном случае имеется в виду художница в области декоративно-прикладного искусства М.Ф. Якунчикова.
119
РГАЛИ. Ф. 964. Оп. 3. Ед. хр. 29. Л. 19 об.
120
Купол здания Академии художеств венчала гипсовая, покрытая оловом скульптурная группа «Минерва», окруженная мальчиками – гениями искусств (в 1875, установлена в 1885, скульптор А.Р. фон Бок). 17 марта 1900 г. в здании Академии произошел пожар, пострадали помещения и статуя, 20 марта из-за угрозы падения статуи она была разбита ломами (из-за огромного веса по-другому снять ее было невозможно). Скульптура была восстановлена в бронзе к 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 г. Имеется в виду карикатура: Щербов П.Е. Торжество Дягилева «Новая Минерва» (Шут. 1901. № 2. С. 8–9).
121
Речь идет о статье: Стасов В.В. Декаденты в академии // Новости и биржевая газета. № 33. 2 февраля 1901. С. 2.
122
«Новое время» (СПб., 1868–1917) – ежедневна газета (с 1869), затем выходило 2 издания – утреннее и вечернее (с 1881 г.). С 1891 г. издавалось еженедельное иллюстрированное приложение. Длительное время издателем газеты был А.С. Суворин (1876–1912), далее Товарищество А.С. Суворина «Новое время» (1912–1917). В русском либеральном обществе сложилась репутация «Нового времени» как реакционной и беспринципной газеты. Она была закрыта большевиками на другой день после Октябрьской революции, 26 октября (8 ноября) 1917 г.
123
«36 художников» – выставочное объединение, образованное в декабре 1901 г. в Московском училище живописи, ваяния и зодчества по инициативе Ап. М. Васнецова, С.А. Виноградова, В.В. Переплетчикова, Н.В. Досекина. Объединение выступало против неравноправного положения молодых художников, существовавшего в Товариществе передвижных художественных выставок. Участие в выставках «36 художников» (всего их было две – зимой 1901/02 и 1902/03 гг.) было свободным, без отборочного жюри. В 1903 г. «36 художников» совместно с петербургским объединением «Мир искусства» организовали «Союз русских художников».
124
В отзыве без подписи выставке давалась положительная оценка: «Выставка “36” отличается от других выставок художественностью общего уровня произведений. На ней нет томительных и оскорбительных вещей, которыми обыкновенно переполнены выставочные залы… слабые вещи являются на ней исключением на общем фоне талантливых работ». (Мир искусства. 1902. № 1. С. 13.) Отмечались работы Ап. Васнецова, С. Виноградова, С. Коровина, А. Рябушкина и др.
125
См. примеч. 13 к гл. 15.
126
Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Роман. Пер. А.Р. Минцловой. Рисунки М. Дурнова. М.: Книгоиздательство «Гриф», 1906.
127
«Вопросы философии и психологии» (М., 1889–1918) – философский журнал, издававшийся Московским психологическим обществом при Московском университете. В 1889–1890 гг. было издано 5 книг, с 1891 г. журнал стал выходить с периодичностью в 5 книг ежегодно. Редакторы: Н.Я. Грот (1889–1893), соредактор Л.М. Лопатин (1894–1895), второй соредактор В.П. Преображенский (с 1895 г.).
128
Бондаренко ошибся: поэтом и переводчиком с десятка европейских языков был старший брат философа Николая Бердяева – Сергей Бердяев. Н.А. Бердяев действительно печатал свои философские работы и критические статьи в журнале «Вопросы философии и психологии».
129
С 1874 г. в течение 25 лет Н.Ф. Федоров работал библиотекарем Румянцевского музея, где в свободное время проходили заседания дискуссионного клуба, посещавшегося многими выдающимися современниками. С Федоровым регулярно общались Л.Н. Толстой, Вл. Соловьев, философские идеи Федорова высоко ценили Ф.М. Достоевский и В.Н. Ильин, большое влияние оказал Федоров на К.Э. Циолковского.
130
Следует уточнить, что в 1901–1903 гг. А.Ф. Филиппов жил в доме Е.А. Деляновой в Дегтярном пер. на Малой Дмитровке.
131
См. примеч. 52 к гл. 12.
132
Усадьба В.А. Морозовой (Воздвиженка, 14; 1886–1891, архитектор Р.И. Клейн).
133
Литературно-художественный кружок в Москве (1899–1920) был создан по инициативе А.П. Чехова, К.С. Станиславского, М.Н. Ермоловой, А.И. Южина-Сумбатова, А.Ф. Кони и др. Кружок состоял из действительных членов, кандидатов (артистов, ученых, общественных деятелей) и членов-соревнователей (крупных фабрикантов, банкиров, адвокатов, инженеров, врачей). На заседаниях («вторниках») выступали русские и зарубежные писатели, артисты, читались доклады и лекции, проходили диспуты, отмечались юбилеи. Первоначально кружок размещался на Воздвиженке (здание не сохранилось), в 1905–1919 гг. – на Большой Дмитровке, д. 15а.
134
С.Т. Коненков с 1914 по 1923 г. работал в мастерской, находившейся в доме № 9 по Большой Пресненской улице (с 1918 г. Красная Пресня). Дом не сохранился.
135
Осенью 1902 г. МХТ начал работать в здании в Камергерском пер., д. 3, которое принадлежало Г.М. Лианозову и было перестроено летом того же года на средства С.Т. Морозова архитектором Ф.О. Шехтелем, при участии И.А. Фомина и А.А. Галецкого.
136
Перечислены спектакли Большого театра: Римский-Корсаков Н.А. «Псковитянка» (пост. 1901 г., художник А.Я. Головин), Римский-Корсаков Н.А. «Садко» (пост. 1906 г., художник К.А. Коровин), Даргомыжский А.С. «Русалка» (пост. 1900 г., художники К.А. Коровин, П.Ф. Лебедев, И.Н. Феоктистов), Пуни Ц. «Конек-Горбунок» (пост. 1901 г., художник К.А. Коровин), Арендс А. «Саламбо» (пост. 1910 г., художник К.А. Коровин); речь идет о спектакле Мариинского театра: Бизе Ж. «Кармен» (пост. 1908 г., художник А.Я. Головин).
137
Метерлинк М. «Пелеас и Мелисанда». Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской на Офицерской. Режиссер Вс. Мейерхольд, художник В. Денисов, композитор В. Шпис фон Эшенбрук. Премьера состоялась 10 октября 1907 г. Спектакль и исполнение В.Ф. Комиссаржевской роли Мелисанды вызвали волну критики, считаются провалом актрисы.
138
Следует уточнить, что разрушительный смерч пронесся над Москвой 16 (29) июня 1904 г. Анненгофская роща – парк в Москве в районе Лефортово, был основан в 1730-е гг., уничтожен (буквально «сбрит») смерчем, уничтожившим в Москве также Карачарово, Андроново, лефортовские казармы и часть Сокольников. Катастрофа унесла десятки людских жизней.
139
Речь идет о справочном ежегодном издании А.С. Суворина «Русский календарь» (издавался с 1872), в котором публиковались: календарь православных праздников, своды законов, перечни образовательных заведений, статистические данные по составу населения, финансовому положению, о состоянии образования, внутренней и внешней торговле России и др.
140
Сведения о количестве случаев за 1903 и 1904 гг. взяты из черновика. (РГАЛИ. Ф. 964. Оп. 3. Ед. хр. 29. Л. 22.)