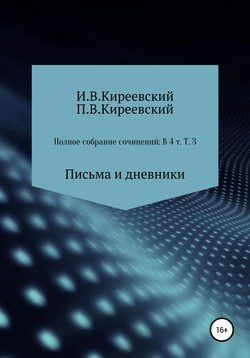Читать книгу Полное собрание сочинений: В 4-х т. Т. 3. Письма и дневники / Сост., научн. ред. и коммент. А. Ф. Малышевского - И. В. Киреевский - Страница 16
Глава I. Письма и дневник И. В. Киреевского
§ 1. Письма[1]
16. Родным
Оглавление20 февраля 1830 года
Вы, конечно, не позабыли, что обещали мне писать через 2 недели после 27 января, а вот уже 4-е марта, то есть 20-е февраля, а от вас еще нет ни слова. Вы также, верно, помните, что последнее письмо ваше было для меня не совсем понятно, потому что многое в нем было продолжением того, что вы писали ко мне в Ригу и что, следовательно, до меня не дошло. К тому же корь, шпанская муха, ваше беспокойство, нездоровье, бессонные ночи требовали бы от вас скорейшего известия. Я пишу к вам это для будущего, потому что надеюсь от вас получить прежде, чем вы получите это письмо. К брату[80] писал почти тотчас по приезде и беспрестанно жду ответа. Я звал его на будущий семестр в Берлин, надеясь, что здешний университет будет для него полезней мюнхенского. Но теперь вижу, что ошибся. Исторические лекции здесь не стоят ни гроша, не потому что бы профессора не были люди ученые, и особенно в своей части, но потому, что они читают отменно дурно. Штур читает историю XVIII века по тетрадке, написанной весьма посредственно, с большими претензиями на красноречие, следовательно, дурно. Раумер, славный ученый Раумер, всю лекцию наполняет чтением реляций и других выписок из публичных листов. Эти реляции и выписки по большей части на французском языке; вообразите же, как приятно передают их немецкие уста! Немецкие остроты их еще приятнее. Особенно острятся Штур и Раумер. Когда удается им сказать что-нибудь соленое, то есть соленое на немецкий вкус, то они так обрадуются этой находке, что жуют и пережевывают свою соль до тех пор, пока она совершенно распустится, а между тем вся аудитория хохочет. Вообще история здесь не в большом уважении, и, тогда как в университете больше 2000 студентов, у профессоров истории их бывает от 40 до 50 человек. У Раумера на предпоследней лекции было 37, вместе с ним и со мною. Теологов здесь больше других, и говорят, что этот факультет здесь в цветущем состоянии. В особенности блестит Берлинский университет своим юридическим факультетом. Здесь Савиньи[81], Ганс[82], Кленц[83] и другие приобрели известность европейскую еще больше своими лекциями, нежели книгами. Ганса я слушал несколько раз; это ученик Гегеля и читает естественное право, народное положительное право и прусское гражданское. Он отменно красноречив, умен и мил на кафедре, несмотря на то что он крещеный жид. Но этот жид провел многие года во Франции, в Париже, и это отзывается в каждом его слове: причинностью, блеском изложения и неосновательностью сведений. В его лекциях редко можно услышать новый факт (выключая одной об жидовском праве, где он сказал много любопытного), зато беспрестанные отступления к общим мыслям, отступления неуместные и которые были бы утомительны, если бы он не умел их прикрасить жаром и даром слова. Медицинский факультет также, говорят, один из лучших в Германии. Но все это не то, что нужно нам с братом. Гегель на своих лекциях почти ничего не прибавляет к своим Handbücher[84]. Говорит он несносно, кашляет почти на каждом слове, съедает половину звуков и дрожащим, плаксивым голосом едва договаривает последнюю. Есть, однако, здесь один профессор, который один может сделать учение в Берлине полезным и незаменимым, – это Риттер, профессор географии. Каждое слово его дельно, каждое сообщение ново и вместе твердо, каждая мысль всемирна. Малейший факт умеет он связать с бытием всего земного шара. Присоедините к этому простоту, ясность, легкость выражения, красноречие истин, и вы поймете, отчего я не пропускаю почти ни одной его лекции. Вот все, что я до сих пор могу сказать об здешнем университете. Студенты по большей части не отличаются ничем от других граждан ни в одежде, ни в манерах. Немногие только носят усы, еще меньшее число носит длинные волосы и не носит галстуков и не больше 20 ходят с бородою, и те не берлинцы, а выходцы из других университетов. Дуэли здесь почти так же редки, как в нашей миролюбивой Москве, и если встретится где-нибудь разрубленная щека, то почти наверное можно сказать, что она принадлежит лицу не берлинскому. Знакомств я до сих пор сделал немного. Был у посланника, который пригласил меня обедать, и я провел у него почти целый день, вместе с маркизом Паулучи, который был здесь на два дня проездом в Париж. Ни жена посланника, ни дочь не знают ни одного слова по-русски и спрашивали меня, хорошо ли пишет Жуковский. Из его писем и записок они отгадывали, qu’il doit écrire très joliment[85]. Впрочем, они любезны и со мной были очень приветливы за письмо Жуковского, которого они очень любят. Кроме того, я познакомился с бароном Мальтицем, советником при посольстве, к которому также имел письмо от Жуковского. Он только год в Берлине и провел 8 лет в Соединенных Штатах, человек отменно серьезный, молчаливый, умный и немного ultra. Он обещал мне показать все достопримечательное в Берлине, но до сих пор еще не успел, потому что мы или не заставали друг друга дома, или он был занят службою и пр. У Гуфеланда я еще не был. Но больше всех понравился мне в Берлине Радовиц, также хороший знакомый Жуковского. Твердую, богатую, многостороннюю ученость соединяет он с душой горячею, с мыслями оригинальными и с добродушием немецким. Он достал мне билет в здешний музей, который я осматривал с одним молодым, но уже известным живописцем Ruhl[86], с которым я познакомился у Радовицей. Она, или Frau Majorin von Radowitz, молодая, хорошенькая, очень умная, очень добрая и очень любезная женщина, особенно приятна простотою своего обхождения…
Скажите Погодину, что я ему пришлю для журнала выписку из моего журнала, заключающую в себе дорогу от Кенигсберга до Берлина, т. е. больше всего описание Мариенбурга. Если Дельвиг[87] в Москве, то скажите ему, что он может получить от меня статью об религиозном направлении ума в Германии. Кстати, я слышал проповеди Шлейермахера[88], славного переводчика Платона[89], одного из красноречивейших проповедников Германии, одного из замечательнейших теологов и философов, одного из лучших профессоров Берлина и человека, имеющего весьма сильное влияние на высший класс здешней столицы и на религиозные мнения всей протестантской Германии. Зато после Гегеля, может быть, нет человека, на которого бы больше нападали, чем на него. Но прежде чем я оставлю Берлин, я постараюсь покороче познакомиться с его сочинениями и с ним самим и тогда напишу об нем подробно. В театре я был несколько раз, видел всех лучших актеров и в хороших пьесах, но больше не пойду, потому что ни одно представление мне не пришлось по вкусу. «Тасса» Гете[90] я смотрел даже с досадой, несмотря на то что его играли лучшие актеры и что почти вся публика была в восторге. Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что ни один актер не понял поэта, и одинокое кабинетное чтение этой трагедии говорит в тысячу раз больше душе, чем ее представление. Видел новую трагедию Раупаха[91] – «Генриха VI», где, несмотря на неестественность и нехудожественность целого и частей, красота и сила стихов и эффектность некоторых сцен невольно увлекают и трогают. Видел также некоторые новые немецкие комедии, которые гораздо лучше на сцене, чем воображал. Во всех этих представлениях особенное внимание обращал я на публику, и результатом моих наблюдений было то, что, несмотря на большую образованность немцев, они в массе так же бездушны и глупы, как наши соотечественники, которыми наполняются наши театры. В трагедиях великий крик, особенно неуместный, непременно аплодирован. Все истинное, простое, естественное не замечено, как бы не было. Вообще чем больше актеры горячатся, тем больше им хлопают, чем напыщеннее стих, тем больше восхищает он публику. Это объясняет множество лирических трагедий, которыми наводнена немецкая литература. Как это портит актеров и писателей, тому служит доказательством Берлинский театр и Раупах. В комедии немцы хохочут каждой глупости, аплодируют каждый непристойности, и на театральное лицо, которое говорит самые обыкновенные вещи и дурачится самым незамысловатым образом, немцы глядят с каким-то почтением, как на существо другого мира. Между всеми восклицаниями, которыми они выражают свой восторг, особенно повторяется das ist ein verrückter Kerl[92]. Все, что выходит из однообразной колеи их жизни и разговоров, кажется им признаком гениальности. Я вслушивался в разговоры простого народа на улицах и заметил, что он вообще любит шутить, но с удивлением заметил также, что шутки их почти всегда одни и те же. Сегодня он повторит с удовольствием ту же замысловатость, которую отпустил вчера, завтра тоже, не придумав к ней ничего нового, и, несмотря на то, повторит опять, покуда какой-нибудь verrückter Kerl выучит его новому, и это новое он поймет и примет не прежде, как слышавши раз 20 от других. Оттого нет ничего глупее, как видеть смеющегося немца, а он смеется беспрестанно. Но где не глуп народ? Где толпа не толпа?
<…> Наконец письмо от вас! Я не умею выразить, что мне получить письмо от вас! Несмотря на то, что оно грустно, что почти каждое слово в нем тема на целый концерт тяжелых догадок, я читал его с таким наслаждением, которого давно не имел. Вы знаете, как не люблю я говорить о том, что чувствую, но это считаю необходимым сказать вам, чтобы вы знали и соображались с этим, писали ко мне больше, чаще и подробнее. Вся моя жизнь с тех пор, как оставил Москву, была в мыслях об Москве, в разгадываньи того, что у вас делается; все остальное я видел сквозь сон. Ни одного впечатления не принял я здесь свежим сердцем, и каждый порыв внимания стоил мне усилия. Судите ж после этого, как живительны, как необходимы мне ваши письма… Я был, наконец, у Гуфеланда, который был со мной отменно мил, показал мне много добродушной приветливости и звал к себе в среду на вечер: «Alle Tage und jeden Augenblick wird es mir hochst erfreulich sein Sie zu sehen, aber Mittewochs mussen Sie mir versprechen auf jeden Fall bei mir Abend zuzubringen denn da versammeln sich gewöhnlich alle meine Freunde; es wird mir grosse Freude machen Sie mit meiner Familie bekannt zu machen[93]».
У Гуфеланда я, может быть, познакомлюсь с некоторыми учеными, которых здесь как в Москве извозчиков. Для чего Рожалину жить с Петрушей[94]? Для первого это будет жертва, для второго стеснение – кому же польза? Петр должен действовать и учиться сам, наставника, который бы беспрестанно надсматривал за ним, дать ему мудрено и странно. Учиться вместе с Рожалиным, может быть, приятно (и то, судя по характеру брата, сомнительно), но приятное и полезное не одно. Я теперь испытал, что учиться и вообще действовать одному и легче, и успешнее. При товарище он мерило наших успехов; один никогда не доволен собою, боишься отдыхать и делаешь в тысячу раз больше и лучше. Впрочем, поговорю об этом с Рожалиным и с братом. Отчего вас так занимают критики на меня? Или они справедливы? Это было бы весьма удивительно от Булгарина, и я был так уверен в невозможности этого, что «Северная пчела», где разбор моей статьи, уже здесь у одного из моих знакомых русских, я до сих пор еще не собрался со временем прочесть ее, хотя мы живем на одной улице. Пойду завтра, потому что ваше участие в ней мне непонятно после того, как вы наперед знали, что Булгарин будет отвечать, и отвечать с желчью. Писать против него было бы неприлично, и, простите мне эту гордость, мне кажется, это было бы унизительно – защищаться от его нападений. Если будете иметь случай что-нибудь послать ко мне, то не забудьте прислать Максимовича альманах, потому что даже те листочки, где была моя статья, я оставил в Петербурге у Жуковского, а мне хотелось бы прочесть мою статью брату. Живу я здесь в одной из лучших частей города, между театром, нашим посланником и университетом, подле той улицы, которая называется Unter den Linden[95], потому что на ней посажены в 4 ряда липки. Моя улица называется die Mittelstrasse[96]. Комната моя не велика, но светла и покойна, в ней 4 1/2 шага поперек и около 9 шагов в длину, 2 окна, бюро, постель, фортепьяно, диван, два столика и 3 стула. Плачу в месяц mit Aufwartung[97] 6 талеров. За кофе поутру и чай ввечеру, за хлеб, сахар, молоко и топку выходит в неделю около 2 1/2 талеров. Обедаю я в трактире, где плачу 8 грошей, т. е. около нашего рубля. Вообще в Берлине 2-мя тысячами можно жить без нужды, а если разом устроиться на год, то, тративши еще меньше, можно жить еще лучше…
80
П. В. Киреевский. – Сост.
81
Савиньи (Savigny) Фридрих Карл фон (1779–1861) – немецкий юрист, профессор Берлинского университета (1810–1842), прусский министр по реформе законодательства (1842–1848), автор многочисленных трудов по римскому и гражданскому праву, глава исторической школы права. – Сост.
82
Ганс (Gans) Эдуард (1797–1839) – немецкий юрист, представитель так называемого философского направления в юриспруденции. – Сост.
83
Один из преподавателей Берлинского университета. – Сост.
84
Конспекты (нем.). – Сост.
85
Что он должен писать очень мило (фр.). – Сост.
86
Какая-то неточность в написании имени. – Сост.
87
Дельвиг Антон Антонович (1798–1831) – русский поэт, барон. – Сост.
88
Шлейермахер (Schleiermacher) Фридрих (1768–1834) – немецкий протестантский теолог и философ, проповедник, профессор Берлинского университета (с 1810), секретарь философского отделения Академии наук (с 1814). – Сост.
89
Платон (428 или 427 до н. э. – 348 или 347) – древнегреческий философ. – Сост.
90
Гёте Иоганн Вольфганг Гёте, Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) – немецкий писатель, мыслитель, философ и естествоиспытатель, государственный деятель. – Сост.
91
Раупах Беньямин Соломон Раупах, Ernst Benjamin Salomo Raupach (1784–1852) – немецкий писатель и драматург. – Сост.
92
Это сумасшедший малый (нем.). – Сост.
93
Каждый день и каждый миг буду я рад видеть вас у себя, но вы должны обещать посетить меня как-нибудь в среду, когда я обычно собираю своих друзей, вы доставите мне большую радость знакомством с моей семьей (нем.). – Сост.
94
П. В. Киреевский. – Сост.
95
Под липами (нем.). – Сост.
96
Центральная улица (нем.). – Сост.
97
С прислугой (нем.). – Сост.