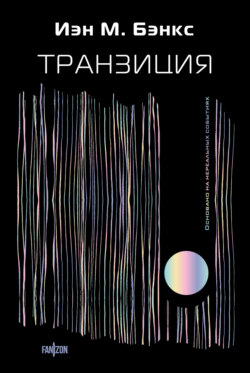Читать книгу Транзиция - Иэн Бэнкс - Страница 7
5
ОглавлениеПациент 8262
Не профессия, а песня! У меня и у тех, кто меня ищет. Мы с ними, в общем-то, коллеги. Хотя в прежние времена, если честно, мне не было равных. Мои устранения, особенно в мирах, расположенных на самом ярком конце спектра, отличались безумным изяществом, продуманной, но безудержной поэзией.
К примеру, пламенная кончина арбитражера по имени Йерж Аусхаузер. А может, вам больше по душе мозговыносящий уход мистера Макса Фитчинга, фронтмена «Ган Паппи» – первой по-настоящему всемирной рок-группы, известной в таком количестве реальностей, что собьешься со счета? Или болезненная и, боюсь, затянувшаяся агония Мэрита Шауна – мотокаскадера, политика и бизнесмена?
Для Йержа на его ранчо в Неваде я приготовил особое джакузи, заменив воздух, подающийся в форсунки ванны, водородом. На баллонах с газом, которые я загодя спрятал под деревянным настилом, имелись радиоуправляемые клапаны. Я наблюдал за местом действия с другого конца мира с помощью цифровой камеры, закрепленной на подзорной трубе, компьютера на солнечных батареях и зашифрованного спутникового канала. Приборы я замаскировал в зарослях шалфея на склоне холма в миле от ранчо.
Датчик движения сообщил о включении гидромассажной ванны, когда я спал в гостиничном номере в Сьерра-Леоне. Сонно моргая, я заглянул в смартфон и увидел, как к джакузи, размахивая волосатыми ручищами, подходит Йерж Аусхаузер, в кои-то веки один. Я вскочил с кровати, вывел из спящего режима ноутбук, чтобы видеть все четче, и подождал, пока Йерж погрузится во вспененную воду.
На его лице – свирепая гримаса. Очередная дорогостоящая ночка за игорным столом? Обычно в такие дни он приводил с собой девчонку-другую, но этим утром, возможно, утомился. В прохладном воздухе видимость была прекрасная – не мешали теплые восходящие потоки. На моих глазах Йерж сунул в рот темный, удлиненный предмет, затем поднес к его кончику другой, поменьше. Сверкнул огонек. Толстые пальцы Йержа сжали «Гранд корону» [23]. Выставив кадык, он откинул голову на подушечку, закрепленную у края ванны, и выдохнул первую порцию дыма в ясно-голубое небо Невады.
Я набрал код доступа к клапану, открывающему приток газа из баллонов с водородом. Через секунду за полпланеты от меня вода в джакузи неистово забурлила. Повалил пар, как при кипении, окутав пеленой сначала Йержа, а затем все вокруг. А уже через миг на том же месте вспыхнул изжелта-белый огненный шар, поглотивший и ванну, и деревянный настил. Даже в ярком утреннем свете полыхнуло знатно.
Удивительное дело: несколько мгновений спустя, когда столб ревущего огня взвился в небо – совсем как шлейф ракетных газов, только обращенный кверху, – из пекла, шатаясь, вывалился Йерж с объятыми пламенем волосами и почерневшей кожей, которая лоскутами свисала с тела. Он скатился с каких-то ступенек и затих, уже без сигары, но в некотором смысле продолжая дымить как паровоз.
Пока настил не загорелся полностью – к тому времени выбежавшие из дома работники Йержа оттащили босса в безопасное место, – дыма было мало: при сгорании кислорода и водорода получается лишь вода. Так что почти все изначальное облако дыма, которое прохладный утренний ветерок уже понемногу рассеивал, унося к серебрившимся вдалеке сьеррам [24], произвел самолично Йерж.
Ему диагностировали ожог девяноста пяти процентов поверхности тела и необратимые повреждения легких. На удивление, врачи еще без малого неделю поддерживали в нем жизнь.
Макс Фитчинг был божеством среди смертных – с ангельским голосом и повадками сатира. Я убил его в Джакарте, когда он сидел в оттюнингованном полугусеничном автомобиле без крыши, ожидая тур-менеджера, который пошел за наркотой. (Макс так толком и не научился скрывать свою внешность и путешествовать инкогнито.) Я использовал лазерную установку, созданную в Израиле, чтобы сбивать иранские ракеты, когда те еще летят над Сирией, а лучше – над Ираком. Выстрел произвел из фуры, припаркованной в квартале от машины Макса. Даже на минимальной мощности установка была слишком разрушительной для подобной задачи, и вместо того, чтобы проделать в Максовом лице – по-щегольски бледном, прикрытом темными очками и занавешенном дредами, – аккуратную дырочку, она разнесла его голову на куски. Окна первых трех этажей в ближайших домах разлетелись вдребезги.
Да, это убийство изящным не назовешь. Скорее наоборот. Однако красота заключалась в другом: выстрел не представлял собой обычный импульс; я филигранно настроил его частотную модуляцию, чтобы сигнал передал цифровую информацию с mp3-записи, сжатой до микросекунды. Так что Макса, по сути, погубила mp3-копия песни «Проснул и заснулся» – первого хита «Ган Паппи», который прогремел на весь мир и сделал певца по-настоящему знаменитым.
Мэрит Шаун был политиком-популистом вроде Перона [25], и надежные люди предупредили меня, что, если оставить все как есть, он погубит Южную и Центральную Америку, а затем и весь мир. (Как будто меня это волновало! Мое дело – выполнить задачу. О моральной стороне пусть беспокоятся те, кто отдает приказы.)
В прошлом Шаун прославился как самый известный в Бразилии и за ее пределами мотоциклист-каскадер. Он пережил много аварий, но это лишь приводило публику в восторг и щекотало ей нервы. Все четыре его конечности были пронизаны и укреплены большими объемами хирургической стали, хотя и без этого от количества металлических имплантов в его теле детекторы в аэропорту начинали бить тревогу, еще когда Шаун, прихрамывая, выходил на парковку.
Для него я приготовил индукционную печь. Он медленно поджарился изнутри, слушая гудение магнитов вокруг и собственные крики.
…У вас какие-то вопросы? За что, за что и еще раз за что? Я знал причины, только если о них сообщали, и даже когда сообщали – мне было все равно. (Удивительно, что я запомнил информацию, приведенную ниже.)
Итак. Йерж основал бы политическую партию, намереваясь очистить США от неарийцев, что привело бы к хаосу и бойне апокалиптических масштабов. Макс вложил бы все свои сотни миллионов в экстремистское движение «зеленых», участники которого применили бы довольно радикальный подход к гармонизации объема ресурсов планеты с размерами ее населения – потратили бы свалившееся на них богатство на создание и распространение вируса, гибельного для девяноста процентов человечества. А Мэрит использовал бы свою огромную телекоммуникационную сеть, чтобы… не помню… отправить порнографию на Андромеду? Да без разницы!
Как я уже сказал, меня это особо не заботило. К тому моменту я давно перестал задаваться вопросом, почему совершаю столь вопиющие деяния. Меня волновали лишь мастерство и красота исполнения.
Красота экзекуции.
Философ
Крики. Несмолкающие крики. Из-за них я не сплю по ночам, из-за них вскакиваю с кровати, не досмотрев приятные или кошмарные сны.
Моя работа удовольствия мне не приносит. Я ее не стыжусь, но не сказал бы, что горжусь собой. Работа нужная, и кто-то должен ее выполнять. А удовольствия она не приносит, потому что я хорош в своем деле. Я видел, как работают те, кто наслаждается процессом, – высоких результатов они не показывают. Слишком увлекаются, потакают своим низменным инстинктам, отклоняясь от поставленной задачи, которая состоит в том, чтобы достичь нужного итога и вовремя понять, что он достигнут. Чрезмерное рвение заставляет их терпеть неудачу.
Я пытаю людей. Я профессиональный мучитель. Однако я не выхожу за рамки приказа и сам хочу, чтобы те, кого я допрашиваю, быстрее сознались или выдали нужную информацию, дабы избавить себя от мук, а меня – от неприятной работы, ведь, как я уже говорил, я не испытываю от нее ни малейшего удовольствия. Тем не менее я выполняю все, что требуется, и, если нужно, всегда готов трудиться сверхурочно и брать дополнительные смены. В общем, проявляю ответственность и в некотором смысле сострадание, ведь если за дело возьмусь я, то, по крайней мере, ущерба будет минимум. Некоторые из моих коллег, о ком я уже упоминал – те, что наслаждаются процессом, – спешат сразу причинить как можно больше боли и увечий. От такого толку мало.
Кто похитрее – притворяются, что вовсе не психопаты, и лишь изредка дают себе волю, в остальное время выполняя работу монотонно и эффективно. Эти – самые опасные.
В качестве методов я предпочитаю электричество, многократное придушивание и, как ни трудно вам будет поверить, обычный разговор. Электричество – по сути, самый грубый способ. Мы используем переменные резисторы и разнообразные провода зажигания для машин и газонокосилок. Иногда добавляем немного воды и контактного геля. Зажим, с помощью которого провод крепится к телу, и без тока причиняет неслабую боль. В качестве точек крепления отлично подходят уши, пальцы рук и ног. И гениталии, разумеется. Некоторые мои коллеги предпочитают один провод подвести к языку или носу, а другой засунуть в задний проход, но последующий бардак мне претит.
Многократное придушивание, о котором я обмолвился выше, работает так: сперва субъекту заклеивают широким скотчем рот; затем кусочком поменьше залепляют ноздри и убирают его, только когда жертва теряет сознание. Этот метод применяют к мелким сошкам и тем, кого нужно передать в другой отдел или в другую службу безопасности, а некоторых и отпустить, без видимых повреждений.
Метод разговора подразумевает рассказ субъекту о том, что с ним случится, если он не окажет содействие. Лучше всего вести беседу в темной комнате, говорить тихо и строго по делу, стоя позади стула, к которому человек привязан. Для начала я описываю, что будет при любом раскладе, даже если субъект расколется, так как есть определенный минимум, некая стандартная порция боли, которая ждет любого, кого нам передали. Это ради поддержания репутации – чтобы наводить ужас на всех, кто о нас услышит. Страх пыток – весьма действенный стимул соблюдать закон и порядок. Не внушая этот страх, мы нарушили бы служебный долг.
Затем я рассказываю субъекту, как могу на него воздействовать: о напряжении тока, симптомах асфиксии и прочем. Я достаточно подробно знаком с физиологией и нередко вворачиваю медицинские термины.
На следующем этапе я описываю методы, которыми пользуются мои коллеги. Упоминаю человека с кодовым именем Доктор Цитрус. Весь его инструментарий состоит из листа бумаги формата A4 и свежего лимона. Бумагой он наносит на обнаженное тело субъекта множество – несколько десятков – мелких порезов, на которые затем капает лимонным соком. Или посыпает их солью. Как и многократное придушивание, большинству людей такой метод не кажется столь уж кошмарным, однако, по статистике, это чуть ли не самая эффективная техника в нашем арсенале. Конечно, одним листом бумаги мой коллега не обходится, ведь край любого листа в конце концов размягчается от пота и небольшого количества крови. У Доктора Цитруса всегда под рукой целая пачка.
Некоторые мои коллеги предпочитают проверенные временем способы пыток: тиски для пальцев, клещи, плоскогубцы, молотки, определенные кислоты и, разумеется, огонь – открытое пламя или просто нагревание; в ход идут газовые горелки, паяльники и паяльные лампы, горячий пар и кипяток. Порой, когда другие способы не сработали, мы прибегаем к экстремальным мерам. После этого субъект навсегда остается изувеченным, да и процент выживаемости, даже если информация получена, не очень высок.
Еще один наш парень любит использовать коктейльные палочки из дерева – втыкает их в мягкие ткани тела. Он тоже беседует с субъектом, воздействуя на него психологически. Садится напротив и перочинным ножом делает на палочках крошечные засечки, призванные усилить боль, когда орудие будут втыкать и вынимать – если вытащат вообще. Больше часа он сидит перед огромной грудой палочек, стругая их перочинным ножиком и размышляя вслух, куда именно их воткнет. У него тоже кое-какая медицинская подготовка за плечами, поэтому он делится с субъектом своей теорией, что его техника в каком-то смысле противоположна акупунктуре, когда иглы вводятся максимально безболезненно с целью облегчить самочувствие пациента.
Такая подготовительная беседа уже сама по себе может заставить субъекта сотрудничать, хотя, как я упоминал, мы в любом случае причиняем некий минимум боли – убеждаемся, что полное содействие точно достигнуто, а также подтверждаем серьезную репутацию нашего учреждения.
Мой собственный метод ведения беседы я во многих отношениях считаю лучшим. Мне нравится его лаконичность. Особенно хорошо этот способ действует на интеллектуалов и творческих личностей, потому что воображение у них весьма богатое и, как следствие, выполняет часть работы за меня. Некоторые из этих людей даже сами в курсе этого феномена, хотя подобное осознание вовсе не лишает методику эффективности.
Женщин я допрашивать не люблю. Довольно очевидная тому причина – крики. Они напоминают мне о ночи-которую-невозможно-забыть, когда отец изнасиловал мать, стоило ей вернуться из роддома. Тем не менее я предпочитаю думать, что дело заключается в старых добрых манерах. Джентльмен никогда не подвергнет даму чему-то неприятному. Впрочем, меня это не останавливает; кто-то ведь должен пытать и женщин, а я добросовестный профессионал, однако сам процесс мне нравится еще меньше, чем работа с субъектами мужского пола, и мне не стыдно признаться, что некоторых женщин я умоляю – в буквальном смысле этого слова – пойти на сотрудничество как можно быстрее. А также я ничуть не стыжусь того факта, что при особенно напряженной работе с женщинами у меня на глаза наворачиваются слезы.
Заклеенный скотчем рот, независимо от других методов, хорошо приглушает крики, превращая их в носовые стоны, которые, к моему облегчению, звучат в разы тише.
А вот дети для меня – табу. Кое-кто из коллег охотно готов пытать ребенка, чтобы развязать язык родителям, однако, на мой взгляд, этот подход неприемлем с моральной точки зрения и ненадежен в принципе. Дети не должны страдать из-за убеждений или глупости своих отцов и матерей. Ведь методы, которые мы применяем к субъектам, по сути, служат наказанием за подрывную деятельность, предательство и нарушение закона, и поэтому должны применяться к виновным, а не к их родным и близким. Рано или поздно раскалываются все. Все без исключения. А использовать ребенка, чтобы этот процесс ускорить, – грязно, примитивно и попросту непрофессионально.
В основном из-за этих душевных метаний – а еще потому, что я считаю интересным и поучительным дискутировать с коллегами вроде упомянутых ранее, – в отделе мне дали кодовое имя Философ.
Транзитор
Я живу в швейцарии. Да, именно так, со строчной буквы.
Конкретно моя швейцария даже не зовется Швейцарией, однако это типичное, узнаваемое место со своим характером и предназначением, которое с легкостью считывают все Посвященные. Те, кто имеет представление о реалиях реальностей. Быть Посвященным – значит осознавать, что мы живем не в одном-единственном мире – неизменном и линейном, – а среди огромного многообразия миров, число которых со временем стремительно растет. А еще важнее – понимать, что между этими разноликими, ветвящимися и плодящимися реальностями можно путешествовать.
Старый коттедж, где я живу, стоит на поросшем соснами склоне с видом на маленький, но с претензией курортный городок Флесс. К западу от него волнами изгибаются покрытые зеленью холмы. К востоку, за моим домом, склон, обрастая скалистыми выступами, взмывает вверх и завершается зубчатым горным хребтом, таким высоким, что снег на его вершинах не тает круглый год.
Флесс очень компактен: вы окинете его целиком одним беглым взглядом с моей веранды. Тем не менее он может похвастаться оперным театром, казино, вокзалом с крупным железнодорожным узлом, россыпью очаровательных и причудливых магазинчиков, а также парой высококлассных отелей. Свободное от путешествий время – когда не работаю на мадам д’Ортолан или другого члена l’Expédience, – я провожу здесь: в дождливую погоду читаю книги из своей библиотеки, в ясные дни гуляю по холмам, а вечерами наведываюсь в отели и казино.
Когда я нахожусь, так сказать, в отъезде, перемещаясь между другими мирами и телами, моя здешняя жизнь не прерывается; одна из моих версий остается тут, продолжая обитать в моем теле, моем доме и выполняя все действия, сопряженные с существованием, хотя, по общему мнению, в остаточном обличье я веду себя до ужаса скучно. Если верить домработнице и еще нескольким людям, видевшим меня в этом состоянии, я никогда не покидаю дом, много сплю, кое-что ем, но сам не готовлю, одеваюсь кое-как и не проявляю ни малейшего интереса к музыке или беседам. Временами я беру с полки книгу, правда, в итоге часами пялюсь на одну и ту же страницу, то ли бесконечно ее перечитывая, то ли не читая вовсе. Художественные альбомы, картины и иллюстрации, похоже, занимают меня не больше всего остального – то есть весьма мало, как и телевизионные передачи, за исключением самых мельтешащих. Мои реплики становятся односложными. Довольнее всего я выгляжу, когда просто сижу на крытой веранде или смотрю в окно.
Со стороны кажется, будто я под воздействием наркотиков или успокоительного, а может, перенес инсульт или даже лоботомию. Замечу, впрочем, что встречал энное количество вполне нормальных людей, в основном студентов, ведущих еще более затворнический образ жизни.
Как бы то ни было, жаловаться мне не на что. Находясь вне себя, я не попадаю в неприятности (в смысле, не попадаю здесь), а мой скромный аппетит не позволяет мне растолстеть. Немыслимо, чтобы за собственной спиной я пошел на прогулку в горы и упал со скалы или в пух и прах проигрался в казино, или завел безрассудную интрижку.
Так или иначе, остальное время я всецело нахожусь здесь и, не распыляя внимание, веду полноценную жизнь в этом мире, этой реальности – на Земле, которую местные считают уникальной и называют Кальбефракией. Мое имя в этой реальности, для меня исходной, ключевой, ничуть не похоже на те, что я получаю во время транзиций. Здесь меня зовут Тэмуджин О. У этого имени восточноазиатские корни. На Земле, откуда я родом, Монгольская империя повлияла на другие страны, особенно европейские, гораздо ощутимее, чем в мире, где вы читаете мои строки.
Я живу благонравной, даже тихой жизнью, идеально подходящей человеку, постоянно скачущему между мирами, к тому же частенько – с прискорбной целью убивать других. Впрочем, занимаюсь я не только убийствами. Порой мне случается выступать ангелом-хранителем, доброй феей или же благородным разбойником – щедро одаривать бедняг, от которых отвернулась удача, предлагать им работу или подсказывать, у кого попросить помощи. Иногда я совершаю нечто крайне банальное – к примеру, ставлю кому-нибудь подножку, угощаю выпивкой.
Однажды я упал человеку под ноги, имитируя припадок. Это был один из немногих случаев, давших мне некоторое представление о том, чем я занимаюсь на самом деле. Молодой врач, спешивший на встречу, но задержавшийся, чтобы мне помочь, из-за этого не успел зайти в здание, которое внезапно рухнуло, исчезнув в облаке пыли, извести и щепок. Лежа в сточной канаве и глядя на происходящее, я притворился, что мне уже лучше, поблагодарил врача и попросил его поскорее помочь несчастным, которые пострадали из-за обрушения.
– Нет, это вам спасибо, – пробормотал он с абсолютно серым – и не только от пыли – лицом. – Похоже, ваш припадок спас мне жизнь.
Он растворился в прибывающей толпе, а я все сидел, рискуя попасть под ноги зевакам и тем, кто бросился на помощь раненым.
Понятия не имею, что́ именно молодой врач должен был сделать, совершить в будущем. Надеюсь, нечто хорошее.
Порой я знакомлю людей друг с другом, порой оставляю для них какую-то книгу или брошюру. Временами я просто с ними разговариваю – подбадриваю или обсуждаю конкретную идею. Такие поручения мне только в радость, хотя надолго в памяти не задерживаются. Уж точно не из-за них я просыпаюсь в холодном поту. Доброта, как правило, довольно невзрачна. Людей будоражит хаос.
Мои коллеги и руководители в основном предпочитают жить в крупных городах. Там большинство из нас ощущает себя как дома, там проще всего совершить транзицию из одной реальности в другую. Не хочу притворяться, будто понимаю теорию или механику – бесплотную, но все же механику, – лежащие в основе моих непостижимых путешествий, но кое-что об этих материях я все-таки знаю: частично услышал от других, а частично понял сам, на практике. Так, например, я догадался, почему должен был упасть в обморок перед тем молодым врачом.
Похоже, прыжки из одной реальности в другую или в черт-знает-какую требуют хорошего ощущения местности и какого-никакого уровня социальной интеграции. Поэтому большие города – это, несомненно, наилучший выбор.
Воздушные суда тоже подходят, хотя тут нужна сноровка. Полагаю, все дело в концентрации людей.
Потягивая джин-тоник, гляжу на проплывающие внизу облака. Тут и там виднеются вершины самых высоких гор в норвежском береговом хребте – словно зазубренные кубики льда плавают в молоке. Я лечу кратчайшим, по дуге большого круга [26] маршрутом из Лондона в Токио в огромном комфортабельном самолете, плывущем высоко над облаками по темному, густо-синему небу.
Я могу переместиться прямо здесь, в самолете. Только не знаю, получится ли. Это непросто – многие тратили препарат впустую в попытках транзитировать из малолюдных мест или особенно из движущейся отправной точки. По-видимому, если успешное перемещение невозможно, ничего не происходит вовсе. Человек остается там же, где и был. Поговаривают, однако, будто люди, пытавшиеся провернуть подобный трюк, все-таки попадали в другую реальность, но уже без транспортного средства, на котором передвигались в реальности исходной. Тот, кто стартовал с океанского лайнера, оказывался в открытом море и, плюхнувшись в воду, тонул или становился добычей акул, а тот, кто пробовал транзитировать с самолета вроде этого, материализовывался в двенадцати километрах над землей, где нечем дышать, температура – минус пятьдесят с лишним, и долгое падение впереди. Со мной ничего такого не происходило: я успешно перемещался с воздушного судна или, в случае провала, оставался, где и был.
Я достаю из нагрудного кармана маленькую бронзовую коробочку, кладу на откидной столик, верчу туда-сюда. Сплыть или не сплыть? Покинув самолет сейчас, я замету следы надежнее, чем на земле. В то же время, вдруг я потрачу таблетку зря? Или на собственном горьком опыте выясню, что слухи правдивы, и замерзший и задыхающийся буду долго падать в море или на сушу? Кроме того, вероятна ситуация, подтвержденная документально, когда человек оказывается в самолете, который движется совсем не туда, куда летел в исходном мире.
Обычно в мирах, более-менее относящихся к одной группе, континенты и основные географические объекты вроде горных цепей, рек и крупных городов – а значит, и воздушные маршруты между последними – расположены более или менее сходно. Поэтому, покинув один самолет, вы оказываетесь в его копии, следующей аналогичным рейсом. Но не всегда.
Судя по всему, существует предельно допустимый сдвиг во времени и пространстве, который мы совершаем в такой ситуации: пара километров вниз-вверх, несколько десятков – вбок, плюс-минус несколько часов – словно некий аспект нашей воли или воображения перемещает нас в точку, лучше всего соответствующую искомой. Однако порой эту призрачную силу заносит или она решает, что и так сойдет, хотя на самом деле нет.
Однажды я транзитировал над Альпами во время рейса из Дублина в Неаполь, а очутился на борту самолета Мадрид – Киев! Развернулся почти на девяносто градусов! Я потратил полтора дня на дополнительные перелеты и пропустил важную встречу. До сих пор ума не приложу, отчего так вышло. Когда я рассказал об этом маленьком приключении сотруднику Бюро транзиции – главного органа нашей конторы, где, по крайней мере в теории, наблюдают за действиями таких, как я или мадам д’Ортолан, – вышеозначенный бюрократ в очках без оправы только моргнул, буркнул «любопытно!» и поспешно что-то записал. Все!
Препарат, позволяющий нам перемещаться, называется «септус». Одни принимают его в жидком виде из крошечных флакончиков, напоминающих медицинские ампулы, другие свое лекарство для путешествий вдыхают или вводят под кожу. А кто-то выбирает анальные или вагинальные свечи. Поговаривают, что мадам д’Ортолан предпочитает последний вариант.
Я легонько стучу пальцем по одному из углов бронзовой коробочки, поворачиваю ее на четверть оборота, опять стучу, затем повторяю все снова.
Большинство из нас принимает септус в виде таблеток – так наименее хлопотно. Почти все остальные способы кажутся мне банальной показухой.
Внизу поблескивает кусочек моря. По серой, покрытой рябью поверхности, оставляя за собой перистый белый след, медленно скользит на север корабль – совсем крошечный из-за разделяющих нас километров. Представляю, как пассажир корабля глядит наверх и видит самолет – ярко-белую точку, выводящую собственную подпись в синеве.
Возможно, те, кто, по слухам, сгинул, на самом деле перенеслись на другие версии Земли, где так и не распалась Пангея, обезьяна не эволюционировала в человека, а господствующей цивилизацией стали мыслящие выдры или пчелиные семьи с коллективным разумом? Кто знает?
Перемещаясь, мы попадаем в место, которое представили, а если мы растеряны, сбиты с толку? Вдруг кто-то случайно вообразит нечто настолько непохожее на привычный мир и на желаемую точку назначения, что окажется в ловушке, не сможет представить себе путь обратно? Мне сложно понять, каково это. Таких, как я, вероятно, выручает сильная тоска по дому. Кто знает…
Я неоднократно расспрашивал теоретиков, техников и руководящих чиновников Бюро транзиции о том, как все работает, но толкового ответа пока не получил. Мне ничего не объясняют, потому что незачем. Тем не менее я хочу знать. К примеру, когда меня отправили в Савойю спасти молодого врача от смерти в рухнувшем здании – разве это не говорит о своего рода предвидении? Нет ли у нас – я имею в виду, у «Надзора» – некой способности заглядывать в будущее? Или сопоставлять похожие, только немного разведенные по времени миры: наблюдать за опережающей реальностью, чтобы повлиять на события в той, что идет следом? Суть одна и та же.
Конечно, здание могло рухнуть случайно, в результате стечения обстоятельств. Однако я в это не верю. Такие совпадения – большая редкость.
Кстати, о случайностях. Одна из наших с миссис Малверхилл встреч, впервые за долгое время, произошла не где-нибудь, а в казино. Правда, понял я это не сразу.
Повторюсь, лучше всего для перемещений подходят крупные города; в нашей многомерной реальности это такие же транспортные узлы, как и в любом отдельно взятом мире. Главное представительство l’Expédience в мире, куда и в пределах которого я перемещаюсь чаще всего – отчасти по воле случая, а отчасти, возможно, из-за врожденной склонности, – находится в городе, который в зависимости от обстоятельств носит имя Византий, Константинополь, Константиние или Стамбул. Расположенный на двух континентах, объединяющий восток и запад и пробуждающий прошлое во всем его многообразном наследии, он полностью созвучен нашим интересам и способностям. Подобных мест на этой мета-Земле я почти не встречал. Древний и современный, смешавший в одном котле народы, религии, события и убеждения, неуязвимый и вместе с тем покрытый трещинами раздоров, город этот воплощает традиции и риск, разобщенность и сплоченность одновременно. Другой наш офис находится в Иерусалиме.
Был и третий, в Берлине, но, как ни странно, после падения Стены и объединения Германии (одного из громких мета событий, которое с тем или иным отставанием прокатилось по всем связанным реальностям, будто запущенная извне цепочка воспроизведений) этот город утратил свою привлекательность. В общем, берлинское представительство закрыли. Отчасти жаль: мне нравился старый Берлин, разделенный барьером. В дни былого величия он представлял собой обширное, просторное место с озерами и протяженными участками леса по обе стороны от стены, правда, и там и там смутно веяло безнадегой и тюрьмой.
Видели когда-нибудь, как жонглер крутит тарелку на шесте? Так вот, мы ищем вихляющие из стороны в сторону тарелки – места, где чувствуешь, что события вот-вот пойдут в том или ином направлении, где еще один оборот, вливание энергии могут вернуть системе устойчивость, а малейшая небрежность или легкий толчок – привести к катастрофе. Впрочем, из краха мы тоже извлекаем любопытные уроки. Иной раз, чтобы узнать о вещи все, нужно ее разбить.
В ходе обучения на должность транзитора (так официально называется наша профессия – согласен, довольно нескладно; я бы предпочел неформальное «путешественник», «транзиционист» или на худой конец «транзитёр») наступает момент, когда кандидат осознает, что открыл в себе или обрел дополнительное чувство. Это своеобразная способность увидеть историю места, разглядеть взаимосвязи, понять, как долго здесь проживают люди. Мы считываем все многообразие событий, привязанных к конкретному участку природы или скоплению домов и улиц. Мы улавливаем то, что называется «амбр».
Отчасти эта способность связана с чутьем на древнюю кровь. Места, уходящие корнями в глубокую старину, хранящие память о делах не то что столетней – тысячелетней давности, – обычно пропитаны кровью. Битвы и массовые расправы оставляют за собой особый шлейф, который держится веками. Острее всего я ощущаю его в римском Колизее.
Впрочем, амбр – это в основном наслоение опыта множества отживших поколений. Конечно, они не только жили, но и умирали, однако, поскольку в среднем люди живут десятки лет, а умирают лишь единожды, именно жизнь оказывает наибольшее воздействие на аромат, ощущение места.
Разумеется, у обеих Америк совершенно иной амбр, нежели у Европы и Азии. Менее затхлый или менее богатый – зависит от ваших убеждений.
Я слышал, что Новая Зеландия и Патагония кажутся до одури свежими по сравнению почти со всем остальным миром.
Лично мне по душе амбр Венеции. Нет, не запах – во всяком случае, не летом. Именно амбр.
Мне нравится приезжать в Венецию поездом, из Местре [27]. Покинув вагон на вокзале Санта-Лючия, я иногда отключаю на время чувства и память и внушаю себе, будто приехал на обычную крупную железнодорожную станцию, каких в Италии множество. Пройдя между поездами-исполинами, миновав бруталистские интерьеры бездушно-меркантильной громады вокзала, ожидаю увидеть то же, что и всегда: оживленную улицу, суетливую вереницу легковушек, грузовиков и автобусов, в лучшем случае – пешеходную пьяццу [28] и рядок такси.
А вместо этого за лестничным пролетом и спинами людей – Гранд-канал! Искрится светло-зеленая, подернутая рябью вода; вапоретто [29]; катера, водные такси и рабочие лодки оставляют за собой пенные следы; блики света играют на волнах, пляшут на фасадах церквей и палаццо; шпили, купола и раструбы дымовых труб ввинчиваются в кобальтовую синь. Или в молочно-белые облака, которые, отражаясь в безмятежных водах, придают им пастельную окраску. Или в темную вуаль грозовой тучи, зависшей над каналом, гладким и покорным под натиском ливня.
Впервые я посетил Венецию во время февральского карнавала. Город встретил меня дымкой, туманом и тишиной. А еще – прохладой, которая стелилась у воды, словно обещание. Меня тогда звали Марк Кейвен. Я знал китайский, английский, хинди, испанский, арабский, русский и французский. Берлинская стена уже канула в прошлое, хотя по большей части еще стояла.
Это был ваш мир.
Чуть дальше вдоль Гранд-канала, на его западном берегу, стоит монументальное палаццо почти кубической формы. Его стены льдисто-белые, а ставни на многочисленных окнах – матово-черные. В этом строгом симметричном здании – Палаццо Кирецциа – когда-то жил левантийский принц, затем – кардинал римско-католической церкви, а еще полтора века там находился небезызвестный бордель.
Тогда (как, впрочем, и теперь) здание принадлежало профессору Лочелле, который знал о существовании «Надзора» и поддерживал наше дело. Тогда он охотно спонсировал нас и делился связями, получая от нас столь же много взамен. Позже он весьма преуспел, став членом Центрального совета, однако двадцать лет назад, тем зябким февральским утром, его чаяния еще не сбылись.
Меня пригласили в город – и заодно на карнавал – в благодарность за мою работу, которая последнее время отнимала много сил, даже изматывала. Больше никто из транзиторов не приехал, хотя я встретил целую свору надзоровских чинуш. Все до единого были со мною подчеркнуто вежливы. Несмотря на изрядное количество крови, замаравшее мои руки уже тогда, я еще не свыкся с тем, что люди, знающие о моей специальности, смущаются меня или даже боятся.
Профессор Лочелле – мужчина невысокий, если не сказать тщедушный – всегда держался с таким достоинством, что о росте никто не вспоминал. Люди вроде него обычно кажутся выше, когда вокруг мало народу. Очутившись с ним тет-а-тет, вы поклялись бы, что профессор одного с вами роста; в небольшой компании он как будто съеживался, а в толпе – полностью исчезал. В то время он уже начал лысеть, теряя тонкие каштановые волосы, словно налипшие на скалу водоросли, которые уносит отлив. У Лочелле были выступающие вперед зубы, превосходный крючковатый нос и глаза морозной синевы. Его смешливая жена – статная блондинка из Калабрии с широким, добродушным лицом – значительно над ним возвышалась. Это она – Гиацинта – обучила меня танцам, которые требовалось исполнять на балах. К счастью, учусь я быстро, да и двигаюсь неплохо.
Во дворце имелся банкетный зал, где в рамках карнавала проводили бал-маскарад, один из крупнейших в том году. Бал состоялся на следующий день после моего приезда. Само собой, меня заворожили как великолепные маски и костюмы, так и пышный декор помещения – симфония старинного лакированного дерева, гладкого мрамора и зеркал в вычурных позолоченных рамах. Мягко лучились свечи, привнося в воздух дымный, ладанный аромат. Он смешивался с запахом всевозможных духов, сигарет и сигар. Мужчины вышагивали, будто павлины; женщины в ослепительных платьях кружились и сверкали. Небольшой оркестр в старинных одеяниях наполнял пространство музыкой. Сверху на происходящее взирали три исполинские люстры из красного стекла – своими закрученными абстрактными очертаниями они походили на блестящие всплески крови, застывшие при вращении в невидимой воронке, а теперь низведенные до обычных безделиц с ненужными, погасшими лампочками, отражающими огни свечей.
Восхищенный, с бокалом токайского в руке, я вышел на маленькую террасу, окруженную балюстрадой из белых мраморных столбиков в форме капель. Небольшая группа гостей молча наблюдала, как в пятнах света от редко проплывающих лодок и зданий на другом берегу канала падает снег. Хаотично кружась, снежинки возникали из тьмы у нас над головами, словно рожденные огнями палаццо, и тихо исчезали в нефтяной черноте мягко колышущихся вод.
На следующее утро я спозаранку вышел в холодную, обступающую со всех сторон белизну и прогулялся нехоженым маршрутом по району Дорсодуро. Облачка моих выдохов уплывали в темные узкие пространства впереди. Я бродил по древним, сокровенным камням, дышал студеным, отдающим солью воздухом и вбирал в себя амбр этой реальности. Он, конечно, состоял из тех же компонентов, что и амбры всех других миров, однако главенствующие ноты говорили о жестокости, по-своему притягательной, и вопиющей продажности – безмерно сладкий аромат упадка и разврата. Здесь, в непрерывно тонущем городе, с пленительно-свирепым духом, что просачивался мне в мозг, будто морской туман – в комнату, эти жестокость и продажность казались отжившими, но притаившимися, подобно поставленной на паузу записи.
Снег еще несколько дней пролежал под безбрежными, как море, небесами, добавляя пейзажу строгости, вытягивая цвет из воды, зданий и проплывавших облаков, погружая этот город вздорных красок, город Каналетто [30], в чарующий монохром.
На заключительный бал, который проходил в роскошном зале Дворца дожей, существовавшем уже пять сотен лет, съехались две тысячи магнатов, предпринимателей, послов, руководителей и сановников. Воздушное течение, зародившееся в Африке, надвинулось на итальянский каблук и Адриатику, вызвав таяние снега и туман, а потом замедлилось, столкнувшись с ветрами северных гор. В результате город почти полностью утонул в дымке, закутавшись в покрывала и плащи из капель.
В тот день я и повстречал свою Леди-в-маске.
Я нарядился средневековым православным священником, маску надел зеркальную. Немного потанцевав, я подсел за столик к Лочелле, где поучаствовал в нескольких слегка натянутых беседах с другими гостями и самим профессором, который проявлял такой сильный интерес к подробностям моей работы, что честные ответы не довели бы до добра нас обоих. Мне приглянулась одна из приглашенных – красивая высокая брюнетка, состоявшая в дальнем родстве с Лочелле и никак не связанная с «Надзором». Ее гибкое тело весьма зазывно смотрелось в наряде эпохи Возрождения. Увы, ее вниманием надолго завладел щеголеватый кавалер, и я отложил свои надежды на потом.
Решив немного отдохнуть от угощений, спиртного, танцев и разговоров, я отправился исследовать дворец. Одни комнаты я осмотрел, в другие меня не пустили, и, наконец, я вернулся в огромный Зал Большого совета, где цветастым вихрем кружились танцующие. Мое внимание привлек фриз с портретами дожей: одного то ли закрасили, то ли прикрыли черной тканью. Традиция, связанная с венецианскими маскарадами? Или с этим конкретным балом?
– Его звали Марино Фальеро, – произнес незнакомый женский голос по-английски, с легким акцентом.
Обернувшись, я увидел даму в костюме пиратского капитана. Почти моего роста – благодаря сапогам на высоких каблуках. Камзол она по-гусарски накинула на одно плечо. Остальные детали наряда казались разношерстными, подобранными на скорую руку: мешковатые бриджи с латунными пуговицами, вычурная, в рюшах, блуза, жилет с полураспущенной шнуровкой, больше похожий на корсет, трехцветный кушак, а на бледной тонкой шее – бусы, всевозможные цепочки и что-то вроде медной пластины-полумесяца. На ее черной бархатной маске, будто морось, спиралями расположились жемчужинки. Сочные губы весело улыбались. Из-под синей, лихо заломленной шляпы, увенчанной пучком аляповатых перьев, выбивались черные локоны.
– Любопытно. Расскажете поподробнее? – попросил я, глядя на темную прореху в череде портретов.
– Он пробыл дожем около года в середине четырнадцатого века, – сообщила незнакомка; ее голос звучал молодо, уверенно, мелодично. – Его обрекли на вечный позор, заменив портрет черным свитком. Фальеро пытался совершить переворот, чтобы свергнуть республику и провозгласить себя принцем.
– Он ведь и так был правителем, – удивился я.
Пиратка пожала плечами.
– Принцы и короли обладали большей властью. Дожей ведь выбирали. Пожизненно, но с уймой ограничений. Им не позволялось вскрывать официальную почту. Сперва письма читал цензор. Дожам также запрещалось беседовать с иностранными дипломатами без свидетелей. Какое-то влияние у дожей имелось, однако во многом они походили на марионеток.
Девушка взмахнула рукой. Блеснули серебром кольца, надетые поверх черной кожаной перчатки. Ее сабля – или пустые ножны? – качнулась у бедра.
– Я думал, портрет спрятали только на время бала.
Она помотала головой.
– Нет, навсегда. Фальеро был приговорен к Damnatio Memoriae [31]. Разумеется, ему еще и голову отрубили, а тело изувечили.
– Разумеется, – мрачно повторил я.
– Республика всерьез принимала такие угрозы в свой адрес, – уже холоднее пояснила пиратка.
Интересно, она из местных?
Улыбнувшись, я изобразил легкий поклон.
– Похоже, вы прекрасно разбираетесь в предмете, мэм.
– Едва ли. Просто интересуюсь.
– Спасибо вам за то, что и меня просветили.
– Не за что.
– Не хотите ли потанцевать? – кивнул я в сторону людской кутерьмы.
Она приподняла подбородок, словно оценивая мой внешний вид, а затем немного старательнее, чем я, отвесила поклон.
– Почему бы и нет?
И мы закружились в танце. Она двигалась с кошачьим изяществом. Я же нещадно вспотел под маской и тяжелыми одеждами, осознав, насколько мудрым решением было проводить подобные балы зимой.
Мы разговаривали под музыку; танец задавал ритм беседы.
– Могу я полюбопытствовать, как вас зовут?
– Можете. – Ничего не прибавив, она улыбнулась краешком губ.
– Прекрасно. И как же вас зовут?
Она качнула головой.
– Спрашивать имя на маскараде не очень-то тактично.
– Почему?
– Разве вы не чувствуете, как духи покойных дожей взирают на нас сверху, призывая к молчанию?
Я пожал плечами.
– Боюсь, что нет. Меня, во всяком случае, они не донимают.
Похоже, эти слова позабавили мою спутницу. Ее мягкие губы разомкнулись в улыбке, а затем произнесли:
– Alora [32]…
На миг я подумал, что она все-таки представилась, но, конечно, это было всего лишь итальянское слово, по смыслу схожее с французским alors. Ее акцент я распознать не смог.
– Возможно, к именам мы вернемся позже, – продолжила незнакомка, кружась вместе со мной. – А на любой другой вопрос я охотно вам отвечу.
– Тогда спрашивайте первая. Дамы – вперед.
– Хорошо. Чем вы занимаетесь по жизни, сэр?
– Путешествую. А вы?
– Я тоже.
– В самом деле? И далеко вам доводилось бывать?
– Весьма. А вам?
– Дальше, наверное, некуда, – признался я.
– Вы путешествуете с какой-то целью?
– Да. Целей у меня много. А что насчет вас?
– У меня одна-единственная цель.
– Какая же?
– Угадайте.
– Разве тут угадаешь?
– Попробуйте.
– Дайте подумать… Вы путешествуете для удовольствия?
– Нет, – усмехнулась она. – Это так примитивно.
– Искать удовольствий – примитивно?
– Да, крайне.
– У меня есть знакомые, которые с вами не согласятся.
– У меня тоже, – сказала она. – Могу я узнать, что вас так позабавило?
– Ваш тон. Похоже, вы этих знакомых презираете?
– Они так примитивны, – фыркнула девушка. – И это еще раз доказывает мою правоту, согласитесь.
– Ну, что-то определенно доказывает.
– Опять эта ухмылка.
– Увы, вам видно только мой рот.
– Полагаете, это все, что достойно моего внимания?
– Нет, надеюсь.
Она склонила голову набок и строго спросила:
– Вы со мной флиртуете, сэр?
– Во всяком случае, пытаюсь, – усмехнулся я. – Получается?
Она задумчиво поглядела в ответ и медленно повела головой справа налево, словно кивнув в горизонтальной плоскости.
– Пока еще рано судить.
Позже – музыка эхом звучала на лестницах, в залах и коридорах – мы задержались возле огромной, во всю стену, карты мира. Она показалась мне довольно точной, а значит, сравнительно новой, хотя в силу обстоятельств эксперт из меня тот еще. Мы со спутницей подошли ближе, стараясь отдышаться после танцев. Мы оставались в масках, и я по-прежнему не знал ее имени.
– Вы все тут находите верным и современным, сэр? – поинтересовалась она, пока я разглядывал континенты и города.
– Боюсь, здесь я тоже некомпетентен, – признался я. – География не мой конек.
– Но ведь что-то вас в этой карте не устраивает? – продолжила она, слегка понизив голос. – Быть может, ее ограниченность?
– Ограниченность? – переспросил я.
– Здесь один-единственный мир, – спокойно пояснила девушка.
Я изумленно уставился на нее, а она вновь сделала вид, что интересуется картой. Вернув самообладание, я рассмеялся и махнул рукой:
23
«Гранд корона» – общее название сигар определенного формата. Это сигары той же длины, что и самый популярный формат «корона» (140–152 мм), однако содержат больше табачных листьев и потому толще.
24
Сьерра (от исп. sierra – «горная цепь», букв. «пила») – составная часть названий горных хребтов в Испании и странах бывшей испанской колонизации; в данном случае имеется в виду горный хребет Сьерра-Невада.
25
Хуан Доминго Перон – военный и государственный деятель, президент Аргентины с 1946 по 1955 и с 1973 по 1974 гг.
26
Большой круг – круг, получаемый при сечении земного шара плоскостью, проходящей через его центр. Отрезки больших кругов часто используются при составлении маршрутов для воздушных судов. На плоской карте эти маршруты выглядят кривыми, дугообразными, однако на самом деле они короче маршрутов, которые соответствуют прямым отрезкам между теми же конечными точками.
27
Местре – бывший город, через который исторически осуществлялась связь островов Венецианской лагуны с материковой частью области Венето. Современный Местре – один из самых населенных районов города Венеция.
28
Пьяцца (ит. piazza – «площадь») – площадь в итальянских городах.
29
Вапоретто – речной трамвай, основной вид общественного транспорта в островной части Венеции.
30
Каналетто (Джованни Антонио Каналь) (1697–1768) – итальянский живописец, график и гравер. Наиболее известные его произведения посвящены Венеции и выполнены в жанре ведуты – детально прорисованного городского пейзажа.
31
Damnatio Memoriae (лат. «проклятие памяти») – особое посмертное наказание, применявшееся в Древнем Риме, а затем и в других странах к государственным преступникам – узурпаторам власти, участникам заговоров, запятнавшим себя императорам. Любые свидетельства о существовании преступника – статуи, надгробные надписи, упоминания в законах и летописях – подлежали уничтожению, чтобы стереть память об умершем.
32
Что ж… (ит.)