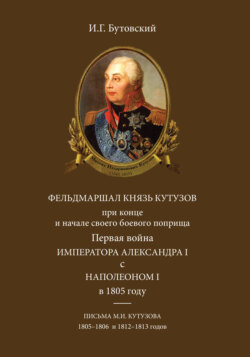Читать книгу Фельдмаршал князь Кутузов при конце и начале своего боевого поприща. Первая война императора Александра I с Наполеоном I в 1805 году. Письма М. И. Кутузова 1805–1806 и 1812–1813 годов - И.Г. Бутовский - Страница 3
Первая война Александра I-го с Наполеоном I-м – 1805 год
ОглавлениеОписывая боевое время Александра Благословенного, невольно увлекаешься – присоединить к военным очеркам 1805 несколько слов и о давно минувшем житье-бытье.
На восьмом десятке лет мною пройденной жизни, перебирая в памяти былое, сколько открываю различия между прошедшим и настоящим, между Россией времен Екатерины и Павла, и тою, которую видим ныне во всем ее блеске и крепости!
Из эпохи достопамятного царствования Екатерины Великой помню хорошо одно только 24-е ноября, день тезоименитства нашей бессмертной Царицы. Хотя я был еще мальчиком и детство мое протекло в самой глуши, но и там все сословия ожидали этого дня с особыми приготовлениями, и, празднуя его, ликовали имя своей Августейшей Благодетельницы, так сказать, взапуски… Что во дни Ее владычества народ блаженствовал, о том был общий голос. Не раз доводилось слышать похвалы Ее «Наказу», не понимая значения этого слова, и толкуя его в превратном смысле, я дивился, что превозносят розгу, которая так пугала меня, и была тогда в обычном употреблении при воспитании детей.
Осталось также в памяти, как дядюшка мой, читая «Московские Ведомости», любовался похождениями молодого Бонапарте, говоря: «Этот детина далеко пойдет!»
Еще до вступления на солдатское поприще, с детства мною любимое, я уже, на 14-м году жизни, считался на службе с октября 1798 года по части гражданской. Покойная матушка моя, оставшись вдовою, слишком рано оторвала меня от наук и определила в Киевское Губернское Правление; в этом-то правительственном месте, не смотря на юные лета, в памяти моей сильно запечатлелись замечательные годы царствования Императора Павла Петровича. Наиболее мне врезались в душу – неимоверная быстрота и точное исполнение Его царских велений. Как неким волшебством, почти одновременно, были прорезаны по всем направлениям Империи ныне существующие широкие столбовые дороги; вместе с тем учреждены по городам и селам, даже по деревням и деревушкам, шлагбаумы. Без вида от сельского старшины или сотского, далее пяти верст от места жительства, никто не мог пройти: и в самое короткое время прекратились разбои, дотоле наводившие повсеместный ужас! По всем отраслям гражданского ведомства разом введен строгий надзор и порядок; разгул неправды и лихоимства вдруг исчез, и на место его воцарилась строжайшая справедливость, воинская дисциплина везде заменила пошатнувшуюся подчиненность. При столь крутых, но общеполезных переменах, последовало изменение и по части военной: русския войска явились в новой форме; она была несравненно сложнее и тяжелее формы времен Екатерины II, однако это не помешало Суворову громить французов. По духу того времени, Император Павел находил необходимым несколько более озаботить войска амуницией и фронтовою выправкой; зато уже каждая копейка доходила до рук солдата: недовольные, в день инспекторскаго смотра, клали себе за перевязь жалобы.
Инспектор[4], проходя по фронту, сам их вынимал, и на месте же чинил расправу и строгое взыскание с виновных. Живо помню тогдашние вахт-парады! Нижние чины в пехоте носили зеленые мундиры прусского покроя, с долгими полами, схваченными на крючек, и подбоем из красной или белой каразеи; по цвету воротника и обшлагов; галстух узенький, шляпы треугольные[5] с кокардами и оторочкой из белой тесьмы, волоса под пудрой с пуклями и длинною косою, панталоны белаго сукна, и вместо сапог башмаки и штиблеты; портупею и перевязь белые, патронные сумы из черной лакированной кожи с Императорским гербом, и на плечах телячий ранец на белых кожаных помочах, – все было пригнато щегольски, в обхват: солдатские тесаки и ружья были тяжелые, с широким штыком. Унтер-офицеры носили галуны с двухсажешиыми алебардами и тростью подле тесака. Офицерские мундиры были того же покроя, долгополые, с коротким воротником и длинным лифом; к ним присоединялись серебряный шарф, серебряный знак на груди, треугольная шляпа без оторочки и эспонтон в руках; начальник полка, баталионные командиры и адъютанты ездили на куцых лошадях: весь этот наряд несколько походил па крестоносцев средних веков, и имел вид картинный, по-тогдашнему пленительный. Часто я, разиня рот, восхищался русским строем, и грустил, что запрещали последовать непреодолимому влечению вступить в ряды солдат. На инспекторских смотрах, особенно во время прохождения корпусов через Киев, на сборные пункты под Чернигов, я день в день, с утра до вечера, торчал на площадях, и с завистью смотрел на служивую молодежь; прибывшие из Италии и того более волновали кровь; многие из офицеров имели по два или по три креста; в Повало-Швейковском Полку[6] офицеры все до одного были с орденами. Толпившийся кругом меня народ, любуясь и благословляя русскую рать, бормотал промеж себя: «Что, сударики наши идут на новую драку, куда-то за море Каспию..» Это приводило меня в отчаяние до того, что мне хотелось бежать из Губернского Правления в первый ближайший полк. Секретарь Заковтобский, которому поручено было от моей матери наблюдение за мною, узнав о моей привязанности к воинской регуле и частых отлучках при проходе войск, арестовал меня на целую неделю. Вдруг смерть Императора Павла поразила всех до глубины души! Заковтобский, не знаю почему, как-то сделался смелее, грозил, что арестует меня на месяц, и рассказал о моей воинской страсти советникам Ергольскому и Пражевскому, которые однако ко мне благоволили.
С восшествием на престол Александра, сделаны в войсках некоторые перемены. Прежде всего отменены офицерские эспонтоны и прежний покрой мундира; в то же время отброшены штиблеты и пукли: длина же косы укорочена только по воротник. Но другие нововведения Павла, по гражданской администрации, и все что относилось к фронту и военной дисциплине, за немногим лишь исключенем, сообразно с ходом новейших улучшений, славные преемники его последовательно удержали навсегда.
С небольшим через год по воцарении Александра, обнародован указ: «Что русский дворяиин, первоначально не служивший в военной службе, не может быть принят к статским делам». Содержание указа, ясно определявшее прямую обязанность дворянина, вступающего на поприще служения, еще более побудило меня переменить род службы. Хотя я уже состоял в чине коллежского регистратора, однако считал позволительным, вопреки запрещению моей матери, променять перо на шпагу. Чтоб скорее отделаться от чернил и аргуса, Заковтобского, я не долго медлил, и, написав на Высочайшее имя прошение, явился к Военному Губернатору Тормасову. При выходе Тормасова к просителям, наружность моя и лета обратили его внимание; он прямо подошел ко мне, и я подал ему просьбу; пробежав ее с улыбкою, он спросил меня: «Ты желаешь, голубчик, служить под ружьем? – Точно так! – Да знаешь ли, что не иначе будешь принят как подпрапорщиком: ты теряешь статский чин[7]. – Знаю, отвечал я, – но готов служить даже рядовым!» Военный губернатор взглянул на приблизившегося к нам генерала, Дмитрия Сергиевича Дохтурова, и, взяв меня за подбородок, сказал: «Поздравляю, ты принят». Дохтуров тут же хлопотал о назначении меня в Московский мушкетерский полк, которого он был шефом и ласково приказал мне явиться к нему на квартиру. Эта сцена, столь торжественная на страницах моей жизни, происходила 16-го декабря 1803 года. Через два дня я уже был обмундирован, и, сколько помню, от радости не чувствовал под собой земли: так было на душе весело, что попал в защитники отечества и надел военный мундир.
Уже в мундире, при тесаке, я отправился к г. Заковтобскому на дом, благодарить за его родительское попечение обо мне; с наморщенным челом, бледен, как бы испуганный, встретил меня мой ментор, и обошелся довольно холодно. Прощальные слова его были: «Жаль, что променял прочный гражданский путь на шаткое капральство». В ответ, я пожелал ему стать первым советником. Юная дочь его, всегда меня провожавшая до подъезда, напоследок не была столько любезна, и смутно глазами проводила лишь до двери.
Инспекторский адъютант Галионка велел мне явиться к капитану Клименку, в 3-ю мушкетерскую роту, занимавшую квартиры в двух больших селах, на левой стороне Днепра. Г. Клименко обошелся со мною приветливо и дал мне в дядьки бойкого ефрейтора Качалова. Целый месяц прослужил я за простого рядового и Качалов усердно преподавал лекции в ружейных приемах и маршировке. Из ротных офицеров, один прапорщик, фамилии не помню, частенько ломался надо мною с площадными эпитетами; фельдфебель Пятницкий тоже, не менее прапорщика, чванился, протяжно называя меня и моих товарищей довольно двузнаменательно; «Дво-ря-нс!..» Качалов, угадывая по движению моих бровей, что мне вовсе не нравятся выходки прапорщика и фельдфебеля, обыкновенно твердил, чтоб я не скучал и старался быть примером необходимой субординации: «Будете офицером, – он говаривал, – и этот самый гордец-фельдфсбель станет, как верста, навытяжку перед вами, лишь завидит хоть тень вашу». Я любил Качалова как родного. Однажды поручик Кандиба спросил моего нового ментора: «Хорошо ли Бутовский мечет ружьем?» – Как наилучший мильд-ефрейтор, ваше благородие, – ответил Качалов. – «Стало быть, превосходит тебя?» – Не совсем, но скоро перегонит!
Стоянка по деревням нравилась солдату; но хождение в Киев для содержания караулов считалось большой пыткой. Баталионы обыкновенно чередовались помесячно, и тридцатидневное пребывание в городе дорого обходилось для здоровья нижних чинов. Кроме чистки амуниции, занимавшей каждаго с утра до вечера, главное, что затрудняло солдата – беление панталон, портупеи и перевязи, особенно же уборка его головы. Еще с полуночи подымаются и начинают натирать тупеи и косу свечным салом, и набивать, взамен пудры, крупичатой мукою; каждого одевают и осматривают как жениха, и когда готов, новое, самое трудное положение, чтоб соблюсти всю чистоту и не измять прически до десяти часов утра, пока не кончится развод. Солдат мог вздремнуть не иначе, как сидя, вытянув ноги, и, прислонясь спиной к стене, держать взъерошенную голову горизонтально, чтоб не обить пудры; малейший изъян на голове или на белье пятнышко и – возня вновь до бела дня: вчастую, фельдфебель изобьет тростью неосторожного напропалую. В лагерной жизни несравненно менее ухода за лавержетами, реже пудрились, и не настояло надобности изнурять людей утомительной прическою.
Очень забавен этого времени покрой офицерского мундира. При Павле, воротники едва закрывали половину шеи. Прежде лиф, по росту человека, был длинный; в наше же время укорочен более чем на пядь, и фалды узкие искошены донельзя; шарфы подвязывали почти под грудь, и на шее, вместо скромного галстуха, жабо. Просто, вид офицеров – «пиковые валеты»! Волосы носили длинные; шляпы высокие набекрень, с черным петушьим султаном. Так это шло пока заключили тильзитский мир, после которого прежде всего отброшена унтер-офицерская трость, долго игравшая большую роль; потом введена постройка мундира по талии, более по форме наполеоновской – с эполетами. Стрижка офицерских волос также изменилась; приказано стричь по солдатски, под гребенку, и вовсе запрещены жабо и бантики.
И удивительно, все что нынче было бы смешно и странно, тогда, напротив, имело для глаз вид чудесный, и казалось, что пригоднее ничто уже не могло быть придумано. К военному покрою подделывался и покрой гражданский: благородный фрак искажали до невероятности; лиф поднят был до безобразия, и узенькие полы болтались вроде рыбьего хвоста. Даже дамы платили дань тогдашнему вкусу ратных нарядов: покрой их платья имел сходство во многом, особенно своим лифом, ужасть высоким. Я знаю еще несколько почтенных старушек, тогдашних щеголих, блиставших красотою, которые, припоминая те времена, не могут не вздохнуть и не сказать несколько похвальных слов прежнему покрою офицерского мундира и прочего воинского убранства. Военный туалет, ныне прилаженный так умно и близко к натуре человека, самая ловкость молодых воинов и скромность их обращения уже не трогают бабушек, даже некоторых дедов, а только их смущают.
Апреля 26-го 1805 года меня произвели в портупей-прапорщики, с переводом во вторую гренадерскую роту[8]. В том же году объявлен поход в австрийские пределы, и к нам прибыл из гвардии новый полковой командир, полковник Николай Семенович Сулима; прежний наш полковой командир, Федор Федорович Монахтин, переведен в Новгородский мушкетерский полк. Не смотря на его строгость, мы весьма о нем жалели, да и он расстался с нами неравнодушно: даже имел с Сулимой дуэль, которую скрыли от высшего начальства. Московский полк доведен был Монахтиным до желаемого совершенства; люди выбирались к нам из рекрутских партий по роду и виду лучшие, словно в гвардии; офицеры почти подряд хороших фамилий, благовоспитанные; шеф благородных правил, с громким именем; короче, инспекторский полк его имел перед другими полками заметное превосходство по всей армии: даже ни в чем не уступал гренадерским полкам – Киевскому и Малороссийскому. Было за что и драться[9]. Бились на шпагах в пустом военном госпитале, Комендант Массе, хотя редкий блюститель, дознался поздно, когда уже противники кончили дело. Монахтин разрубил Сулиме шляпу и лоб, а сей изранил Монахтину два пальца на правой руке. Не смотря на свежие раны, на другой день оба находились при разводе. Военный губернатор Васильчиков довольно сурово посматривал на обоих полковников.
Наконец, с объявлением войны вовсе брошены, к общей радости, пудра и коротенькие косы, от которых па память остались только командные слова: равняйся в косу! В одно и то же время инспекции переименованы в дивизии; Дмитрий Сергеевич Дохтуров поступил с своею дивизией под начальство Михаила Ларионовича Кутузова, котораго пятидесятитысячная армия, в пособие австрийцам, собралась на Волыни. 17-го августа[10], мы перешли русскую границу в Радзивилове, и имели первый ночлег в местечке Броды, Австрийской империи.
Войска Кутузова следовали шестью колоннами. Видя себя на чужой земле, в рядах русских богатырей, шедших сразиться с врагами, я находился постоянно в приятном обаянии. Уже с самого перехода за границу между нами родилось большое любопытство знать – с кем воюем и куда идем… Одни болтали, что какая-то размолвка Царя с Цесарем. Другие, более опытные, смеялись, говоря: «Да разве у вас не стало глаз, ротозеи, что не видите, как цесарцы-то ухаживают за нами! Стало быть, какая тут размолвка? Вишь, француз-то задирает Русь: какой-то там Бонапартия, словно Суворов, так и долбит кого попало; да уж мы не дадим охулки на руку: примем и его, молодца, как бывало басурман, по-Екатеринински!»
До Тешена. мы шли обыкновенными маршами, но с этого пункта, ровно через месяц, 13-го сентября, нас двинули на перекладных, утроенными переходами до 60 верст в день. Порядок переменных фургонов распределен был с примерной точностью: на каждый фургон садилось по 12 человек с полным во оружением, и с такого же числа людей складывались туда ранцы и шинели. На десятиверстном расстоянии ожидала нас перемена; идущие усаживались на фургон, а ехавшие шли пешком, налегке, в одних сумах с ружьями. Офицеры и портупей-прапорщики не чередовались в пешей проходке: под них постоянно давали особые форшпаны. Конница отставала от пехоты несколькими маршами; лошадям прибавили фуража; мундштуки с вьюками везли на подводах. Под артиллерию наряжались подставные перемены, а лошадей вели в поводах, и выдавали им фураж двойной дачею. Все эти издержки делались от Австрии. Привалов не было, и по прибытии на ночлег, тотчас разводили людей по квартирам: каждый домохозяин ожидал гостей у калитки и лишь, пропустит мимо себя сколько назначено ему по расчислению, захлопнет дверь на запор. Отлично приготовленная пища, винная порция, даже кофе и мягкая чистая постель, все было в большом изобилии к услугам русского солдата. Дневки назначались редко, всего четыре на всем пути нашей великолепной поездки, и больных во всю дорогу ни одного. До самаго Браунау и реки Инн, нас встречали постоянно с разверстыми объятиями и полным усердием. Погода благоприятствовала нам во все время нашего шествия; прекрасные фрукты и особенно виноград, прохлаждали нас при проезде почти каждого местечка или города. Баярд наш, Михайло Андреевич Милорадович, закупал целые рынки этих богатых фруктов, и обыкновенно угощал ими проходившие войска; такая тороватость радовала русского солдата и удивляла немцев. Достигнув Браунау, армия расположилась довольно широко в окрестных деревнях и по берегу реки Инн…
По переходе через Дунай, частенько доходили слухи до ушей русского солдата, что француз берет верх и австрияки идут на попятную. Наши старики ворчали на цесарцев, говоря: «Не радует-то дело с брудерами, коли уже и на первых порах не устояли!»
Я имел тогда еще слабое понятие о заграничных местах, и как был поражен резкой разницей русского крестьянина от немецких поселян; их вид, одежда, постройки, повсеместная чистота, порядок, самая обработка земель, все показывало в высшей степени образованность. Эта разность поражала и наших солдат; я не раз слышал их похвальные отзывы немцам: «Ай, брудеры, – говорили они, – народ смышленый!» Русские не могли довольно надивиться, что воловая упряжь у немцев, или лучше ярмо, утверждено не на шее быка, а на его рогах. Когда сказали им, что у рогатой скотины вся сила во лбу, многие возразили: «Хитер немец, ведь понял же». Умный обычай у немцев ковать быков также обращал на себя внимание наших солдат; похваляя немецкую замысловатость, один из них вскричал: «Все так, да что-то они плохо управляются с французом!» Русские солдаты полюбили немецкий кофе, называя его кава; в простонародьи оно обыкновенно с примесью картофеля и цикория, подслащается же сахарной патокою; все это вместе кладут в большой железный кувшин, наливают водой и кипятят на огне. Таким-то кофе подчивали наших кавалеров вместо завтрака, поставив по числу людей соответствующее количество кружек; но употребление кружек солдатам не понравилось; они потребовали суповую чашку: влив в нее с гущей весь этот взвар и накрошив туда ситника, хлебали кофе ложками, как щи, многие примешивали туда лук и подправляли солью; очень довольные этой похлебкой, они часто просили изумлённых немок, подбавить им еще этой жижицы. Кофе у немцев едва ли не из первых потребностей, и точно как у нас сбитень, так у них кофе – напиток народный, и продается уже готовый по лавочкам и на рынках. Немецкий солдат без кофе не может обойтись и на биваках: почти у каждого из них есть крошечный кофейник, и при первой возможности немец разогревает его; наши солдаты, видя такую их заботливость, часто издевались над ними, и называли их обыкновенно «кофейниками», приговаривая: «Похлебал бы нашей тюри, то получшал бы на живот». Зато немцы употребляли чай как лекарство, и его надо было спрашивать в аптеке, а по лавкам трудно отыскать. Пиво у них также в большом употреблении, и мы вдоволь нагляделись, как немцы в своих трактирах, просиживая по нескольку часов над гальбою пива, рассуждалй о Наполеоне, разводя пальцами по столу пивные капли, чтоб яснее обозначить его богатырские движения.
Пока стояли мы в Браунау, главнокомандующий приказал назначать к нему с каждого полка на ординарцы офицера с одним унтером из дворян, преимущественно портупей-прапорщиков и юнкеров, и по одному рядовому на вести. Дней за семь до выступления, пришла и мне очередь. Рано утром ввели нас в огромную аванзалу и построили в две шеренги, юнкеров в первую, рядовых во вторую; офицеры стали на правом фланге. Скоро зала наполнилась генералами и штаб-офицерами. Сзади нашего фронта была маленькая дверь, в роде потаенной, и оттуда, через полчаса, вышел Кутузов в теплом вигоневом сюртуке, зеленоватого цвету. Скромно пробравшись вдоль стены к правому флангу, сперва прошел он офицеров, разговаривая с некоторыми, а потом начал смотреть наш фронт. Я стоял, по старшинству полка, первый; гренадерские полки находились в авангарде и от них не было ординарцев. Михайло Ларионович, подошед ко мне, спросил мое имя и которой губернии? На ответ мой, он вскричал: «Ба, малороссиянин!», и, обратясь, к Милорадовичу, примолвил: «Благословенный край, я провел там с корпусом мои лучшие годы: люблю этот храбрый народ!» Случившемуся тут же моему шефу, генералу Дохтурову, он приказал оставить меня при главной квартире бессменным. После я узнал, что Кутузов часто посещал дом моего деда, и нередко проживал у него дня по три и более. Переступив во вторую шеренгу и проходя по ней, он проговорил с каждым вестовым несколько слов: все из них были уроженцы великороссийских губерний, и он о каждом русском племени отозвался в различных выражениях, с искусной похвалою, от которой у каждого выступала на лице краска, изобличавшая желание оправдать ожидание главнокомандующего. Потом, он обратился к генералам, и более часа громко рассуждал с ними о движениях неприятеля. Когда он ушел с некоторыми из окружавших во внутренние покои, дежурный штаб-офицер вывел нас и указал наше место в коридоре, примыкавшем к кабинету главнокомандующего. Обед нам шел от его стола; я оставался при нем до выхода из Браунау, и не раз, дежурный генерал, Иван Никитич Инзов, требовал меня к нему.
Какими надеждами старый солдат преисполнен был во все это время! Но с 11-го октября, как прибыл к нам австрийский генерал Макк, опасное положение нашей армии объяснилось. В ночь 16-го октября потребовали всех ординарцев и вестовых в аванс-залу главнокомандующего. Едва мы стали по местам, вышел Кутузов, заметно гневный. Никогда не забуду той минуты, когда он, как бы с досадою, обратясь к нам, приказал явиться в свои полки; потом, вертя табакерку в руках, очень вразумительно сказал: «Цесарцы не сумели дождаться нас, они разбиты; немногие из храбрых бегут к нам, а трусы положили оружие к ногам неприятеля. Наш долг отстоять и защитить несчастные остатки их разметанной армии: скажите это и вашим товарищам».
Так неудача генерала Макка под Ульмом расстроила общий план союзных армий. Кутузов оставался однако большим препятствием для Наполеона, и он двинулся вперед усиленными маршами, чтобы нагрянуть врасплох и не допустить нас соединиться с австрийскими и русскими корпусами. Не смотря на известный погром австрийских войск под Ульмом, русский вождь, к удивлению немецких генералов, не оставлял Браунау сряду пять дней, пока вполне не обрисовались движения западного завоевателя, нетерпеливо жаждавшего скорее истребить передовую русскую армию.
Когда мы пришли в свои полки, вовсе не с отрадными вестями для товарищей, последовал приказ, чтобы войска собирались у главной квартиры; однако еще никто не знал, куда пойдем, вперед или назад; все думали, даже генералы, что идем против французов. Не без сожаления покидали мы свои гостеприимные и покойные квартиры; хозяева, особенно доброхотные хозяйки, напутствовали нас хлебом-солью и благословениями. Подойдя к Браунау, полки строились на показанных местах под городом, по направлению к Ульму. Часа два простояли на месте, все в той мысли, что идем на Ульм; так толковали сами жители, вышедшие из города провожать нас. Вдруг отдан был второй приказ, чтобы трогались с мест по вестовой пушке. Нс прошло и часа, как, 17-го октября, чем свет, раздался выстрел на площади перед квартирой главнокомандующего. Снявшись с позиции, мы вышли на шоссе, и тут-то, к удивлению горожан и нашему, поворотили нас в обратный поход левым флангом. – «Ба, ба! – заговорили в рядах солдаты, – кажись, мы идем назад, ребята? – Кажись, что так! – Да и без проводников! – Да к чему ж их! дорога-то знакома. – Уж не зашел ли француз с тылу! Вишь, эти брудеры так шайками и бредут на попятную!», 19-го октября, поздно вечером, вся армия пришла в Лайбах, где простояла двое суток. В три дня усиленного марша, мы сделали более ста верст, и оставили французов, едва появившихся на реке Инн, далеко назади. Наши войска и на этих первых переходах уже не находили заготовленного провианта, кроме небольшого количества соломы и дров. Косо смотрели на нас жители и жительницы: у последних уже не встречали мы прежних умильных взглядов; прищуря глаза и сжав губенки, они провожали нас как разлюбленных. Так озадачило их наше обратное шествие. Наполеон, между тем, прибежав в Браунау, удивился, что не нашел русских, и, бросясь за ними в погоню, еще более поражен был столь поспешным отступлением, которое совершено в таком порядке, что не оставили ему из рядов ни одной души, хоть, так сказать, для языка.
22-го октября, французы, наконец, догнали нас и затронули ариергард; наши отразили геройски натиск Мюрата и держались на позиции более шести часов, пока не приказано было отступать. Здесь-то впервые сошлись французы с русскими, почти через семь лет после свидания в Корфу и в Италии; тогда Мюрат и многие из действующих в эту кампанию французских генералов находились с Наполеоном в Египте, и до Ламбаха еще не были знакомы с русским воином; их удивила стойкость наших богатырей и строевой порядок в пылу сечи. Присутствие Багратиона и Милорадовича напоминало французам победы Суворова при Кассано, на берегах Тидоны и Требии, под Нови и на высотах стремнистых Альпов, Меткие выстрелы русской артиллерии изумили Мюрата, и он по ним, в продолжение всей кампании, узнавал Ермолова. Мариупольские и павлоградские гусары, венгры Кинмейера и храбрые донцы, предводимые графом Витгенштейном, произвели на французов сильное впечатление: при каждом их ударе неприятель обращал тыл. Таково начало битв с завоевателем Египта. Под Ламбахом, к сожалению всей армии, командир 8-го егерскаго полка, храбрый полковник граф Головкин, ранен в шею двумя ружейными пулями навылет; не желая остаться в руках неприятеля, он следовал в брике за нашим полком, и на третьем переходе кончил боевое поприще под любимыми звуками пушечных и ружейных выстрелов.
Раздосадованный неудачным началом, Мюрат бросался на Багратиона как тигр; русский витязь не оставался в долгу, платил Мюрату тою же монетою; гусары, казаки и конные орудия ширяли, на местах побоища, как на маневре, а гренадерские и егерские баталионы и Апшеронский полк, словно форты, стояли как вкопанные на опорных пунктах. Тем временем, наша армия перешла реку Энс, которая течет с быстротою стрелы. Здесь Кутузов остановил Наполеона; но славный прием, сделанный ему русским полководцем, продолжался не долго; австрийцы, поставленные у Штейера, не выдержали напора, и французы овладели переправой. Русская армия отошла к Амштеттену; почти весь день, 24-го октября, Багратион дрался с ожесточением; потом отступили к Мельку и Санкт-Пельтену. Багратион и Милорадович попеременно сталкивались с французами; ни одно дело не обходилось без того, чтоб неприятель не отступал от наших в большом расстройстве. Французы подавались вперед единственно потому, что в плане нашего главнокомандующего не настояло надобности удерживать за собой ту или другую позицию: но где нужно было убавить порывистый ход неприятеля, там всегда брали верх русские.
При сих движениях до Дуная, наши солдаты, ненавидя всякое отступление, говаривали: «Тьфу пропасть! Все назад, да назад, пора бы остановиться. – И вестимо пора, отзывались другие: да наш-то дедушка выводит Бонапартию из ущелья; французу лафа лески и пригорки, а вот сизого голубя на простор. – Да ведь озорники-то, вскричал барабанный староста, не охочи на чис тоту… – Да, да, куда не любят московского штыка!» – весело кругом шумели голоса. Такой беседой сдабривали нижние чины наши горькие прогулки. У русского солдата своя стратегия, свой такт, и часто бывает очень верный, потому что сопряжен с большой отвагой, против которой редко устоит самый твердый практик военного искусства.
Выгодная позиция у Санкт-Пельтсна представляла возможность выждать на ней корпус Буксгевдена, шедший из Моравии; с этою мыслию Кутузов построил войска в боевой порядок и послал осмотреть предмостное укрепление у Кремса, которому, по приказанию императора Франца, следовало быть готовым еще ранее двумя днями. Посланный донес, что австрийцы и не думали приниматься за дело, и что, к довершению неприятностей, маршал Мортье, на левом берегу Дуная, за два перехода от Кремса. Пути на Вену уже были заняты Бернадоттом и Даву… Постигая замыслы противника, Кутузов, не смотря на занимаемую нами крепкую позицию, снялся с лагеря, под вечер 28-го, и пошел к Кремсу, вопреки настояниям австрийских генералов держаться в настоящей позиции. Армия наша перебралась за Дунай под выстрелами неприятеля и истребила мост. Можно судить о советах австрийцев, когда и при самом успешном отступлении мы чуть не увязли в сетях неприятеля: недаром сердце русского солдата не лежало к австрийцам с самого выхода из Браунау!
Гнавшиеся за нами французские конные егеря уже были на роковой половине моста, как вдруг вся середина его с ужасным треском взлетела на воздух и многие десятки неприятельских трупов с их лошадьми поднялись вверх вместе с осколками камней и подъемным мостом, обратившимся в мелкую щепу.
Быстрое перемещение Кутузова на левый берег Дуная изумило Наполеона и расстроило его планы: цель его разъединить нас и уничтожить не состоялась; самая надежда, что Мортье упредит нашу армию в Кремсе, не оправдала его ожиданий; короче, все старания завоевателя перехитрить Кутузова не удались. Тогда-то он убедился, что ведаться с русскими полководцами будет для него труднее, чем с австрийскими.
Весь день 29-го октября люди чистили ружья и оправляли кремни; при раздаче добавочных патронов, кто-то сказал: «Будете потеха: французы перебрались на наш берег и теперь недалеко». Солдаты радовались, говоря: «Пора, пора отколотить господ мусье порядком». Сорвавшийся у немцев с бойни огромный бык, как будто в предвестие близкой грозы, налетел на наш стан и начал носиться во все стороны; с полчаса гонялись за ним солдаты, и, наконец, жердями из шалашей угомонили животное. Немцы не смели требовать быка в возврат, и жирную говядину его люди разделили между собой, в утешение за то, что он смял одного кашевара, переломал десятка два ружей и разорил многие шалаши. Только что возня с быком кончилась, показались монастырские воспитанницы, сопровождаемые монахами Бенедиктинского ордена. Около ста девиц, редкой красоты, были, одеты в белые шерстяные епанечки, в голубых тафтяных шляпках, с откинутыми розовыми вуалями. Оне шли большой дорогою, пересекавшею наше шумное становище; но при их прохождении все замолкло!; глаза у нас чуть не повыскакали от удивления, при виде этих кротких ангелов, бросавших на нас свои чистые, чарующие взгляды, и, казалось, с участием. Трое дородных бенедиктинцев открывали шествие; такое же число их шли в замке, и десятка два подобных же по бокам патрулями. Была ли это прогулка, или вели девиц куда-либо по наряду, нельзя было дознать: да и не до того: мы так растерялись, глазея на этот восхитительный рассадник!.. Путешествию воспитанниц сама погода благоприятствовала.
В вечеру часть войск перевели в город и расположили на трех обширных площадях, примыкавших к Дунаю. Берега реки были установлены батареями, и некоторые от времени до времени пускали ядра на противулежащую сторону. Мы простояли там, вокруг разложенных огней, далеко за полночь. Напоследок, прибежал дежурный генерал Инзов и потребовал Дохтурова к главнокомандующему; возвратясь через полчаса, Дмитрий Сергеевич приказал нам становиться в ружье. Когда сложили с себя ранцы пошереножно, у одной длинной каменной ограды, нас вывели из города, и мы тотчас очутились посреди гор и пропастей. Ночь была темная и падал мелкий дождь. Куда вели нас, никто не знал: «Ну, что тут догадываться, – говорили, – разумеется идем не к хозяйке на печь, а для свиданья с бусурманом; он, чай, и не думает как нагрянем к нему на фриштык». Более часа были мы в пути и беспрестанно останавливались; вожатые, наши, повидимому, не твердо знали местность, и завели в какую-то трущобу, из которой с трудом вылезла одна пехота; конницу и артиллерию оставили и воротили назад; одну лишь верховую лошадь Дохтурова люди вытаскивали на руках и переносили с утеса на утес. Скоро рассвело и послышались пушечные выстрелы с левой стороны к Кремсу: тогда все догадались, что идем в обход; но чем далее, тем труднее становились проходы; пропасти и глубокие ручьи заставляли принимать далеко в сторону, а время убегало: это ужасно сердило всех, от генерала до последнего солдата. Немецких вожатых проклинали, а между тем раздались ружейные выстрелы, и, казалось, не в дальнем расстоянии: мы же все кружились, как в западне, и было уже за полдень.
Еще с утра, З0-го октября, Милорадович, расположенный с отрядом вне города, подле католического монастыря, встретил появившихся французов залпами из орудий; потом завязалась между застрельщиками перестрелка, и загорелся достопамятный кремский бой.
Мортье сильно напирал на отряд Милорадовича, в той мысли, что русская армия отступает; но вечером он с ужасом заметил, что имеет дело не с слабым ариергардом, а с самим Кутузовым. Уже в сумерки Дохтуров спустился с гор и сразу занял Дирнштейн[11] в тылу французской дивизии Газана, с которою Мортье отбивался от наступающаго Милорадовича. Кутузов ожидал появления Дохтурова у Дирнштейна гораздо ранее; но, по милости австрийских проводников, мы с трудом подошли туда в пятом часу, как начало темнеть. Едва выбились из вертепов и заняли с бою Дирнштейн, как Дохтурову донесли, что дивизия Дюпона идет в тыл нам со стороны Линца, и уже недалеко. Князю Урусову приказали задержать Дюпона; битва между тем разгоралась во тьме с невероятным раздражением, на всем протяжении между Дирнштейном и деревнею Лойбен, вторично занятою войсками Милорадовича. Противные линии, различаемые по одним выстрелам, двигались на довольно узком пространстве: с одной стороны бурный Дунай, с другой – стремнистые скалы не позволяли растягивать войска. Милорадович теснил Мортье по направлению от Кремса; Дохтуров с Московским полком и егерями генерала Уланиуса, разбив в Дирншнтейне два французских баталиона, прошел этот городок, и, уничтожив вне стен неприятельских драгунов, встретил отступающего маршала и принял его беглым огнем и штыками. Но тем временем, как Мортье, отстреливаясь от Милорадовича, силился пробиться сквозь наши ряды, позади нас, в Дирнштейне, опять закипела жестокая сеча: князь Урусов, с Вятским полком и другими прикомандированными баталионами, препирался с дивизиею Дюпона, настигшею наши задние войска при выходе из ущелий и стремившеюся на выручку к маршалу; так продолжалось почти до полуночи. Дивизия Газана и отряд Дохтурова, очутившиеся между двух огней, бились на смерть: казалось, не было возможности уцелеть, и отчаяние удвояло взаимную храбрость. Тут пал, пораженный пулею, австрийский генерал-квартирмейстер Шмит, высокие способности которого и преданность престолу подавали большие надежды. Под конец, однако, расстроен ная дивизия Газана, действиями полков Московского и Ярославского, надвинута была на войска Милорадовича; егеря же Уланиуса рассыпались по утесам над самим неприятелем. На этом пункте было с десяток больших деревянных магазинов для складки товаров: наши зажгли их, чтоб вернее различать неприятеля; старые строения разгорелись и осветили страшное зрелище. Французы отбивались толпами между Московским полком и рядами Милорадовича; ярославцы, соединясь с апшеронцами, громили их на берегу Дуная, а застрельщики Уланиуса, нависшие, так сказать, над этой сценой ужаса, стреляли в любаго француза сверху из-за камней. Победа Россиян была полная, и если ускользнул кто из дивизии Газана до зажжения магазинов, то обязан тем ночному мраку, еще более усилившемуся от скопления дождевых туч. Мортье, в потемках, прорвался с горстью храбрых, и, соединясь с Дюпоном, отступил бегом к Спицу, где тотчас переправился за Дунай.
Пощады в этом деле не было: все соделалось жертвой штыка; около двух тысяч пленных французов, в том числе один генерал, одолжены жизнию присутствию Дохтурова, который одним словом остановил ярость москвичей и прекратил истребление неприятеля.
Когда кончилось кровопролитие, у наших солдат начался торг: один продавал часы, или дорогие ножи, табакерки; другой – шелковые вещи или белье; многие носили богатые пистолеты, палаши, и предлагали неприятельских лошадей; последних захвачено было едва ли не все три эскадрона, действовавшие в этом ущельи. Оценка лошадям с седлом и вьюком была скорая – пять австрийских гульденов или рубль серебра за каждую; за немногих только получали по червонцу. Некоторые хвалились чересами с золотом, отвязанными у пленных и убитых французов. Взятые у неприятеля орудия, знамя, штандарты, вместе с пленными, которых разделили на шесть партий, отправлены были в Кремс, и мы с триумфом возвратились в город, сопровождаемые по дороге криками восторженных жителей: Браво, Русь! браво!
На главной улице, у больших каменных ворот в роде башни, стоял главнокомандующий и благодарил каждый проходящий полк, называя солдат победителями. Перед взводами нашего полка везли отбитые у неприятеля орудия, и несли отнятые у него знамя и штандарты; последние положили на барабане перед Кутузовым, который приветствовал нас словами: «Молодцы, молодцы! Слава и честь вам!» Потом, обратясь к окружавшей его свите, присовокупил: «Этот полк всегда дрался с отличною храбростию: за то и носит славное имя нашей белокаменной Москвы». Слыша приветы любимого вождя, солдаты воодушевлялись геройскими чувствами. Горожане, в чаду восторга, думали, что французам уже не придется роскошничать под их кровлею, что мы останемся здесь надолго, и, в приятном забытьи, шумно пировали нашу победу. Пленных, в тот же день (31-го октября), отправили вперед к Брюнну.
Наполеону донесли о потерях Мортье в тот самый момент, как он, прислушиваясь к гулу пушечных выстрелов, еще надеялся, что маршал отделается без урона; разгневанный дурными вестями, он спешит принять меры, чтоб исправить ошибку. Но Кутузов скоро узнает, что Вена занята французами, что венский мост на Дунае попал хитростию в руки, неприятеля, и что Мюрат, Ланн, Сульт, Вандам, Удино, Сюше заходят нам в тыл… В ночь на 1-е нояб ря, русская армия оставила Кремс и шла форсированным маршем до утра; отдохнув немного в Эберсбрунне, продолжала путь далее. На рассвете 3-го ноября, князь Багратион, шедший от нас вправо проселочными дорогами, уже стоял у Голлабруна. Скоро туда же пришел из Вены Мюрат, и изумился, увидя перед собою русских. Французы не ожидали такой поспешности и думали упредить нас на цнаймской дороге, единственном пути для прямого соединения с корпусом графа Буксгевдена. Эта неожиданность привела Мюрата в замешательство: артиллерия его и вся пехота еще были на марше; он не смел атаковать Багратиона, по соображению, что Кутузов должен быть недалеко, и вступил в переговоры, чтоб хитростью задержать русскую армию, пока нахлынут к нам в тыл из Кремса Бернадотт и Мортье. Того же дня, вечером, наша армия подошла к Шенграбену. Мы простояли там, не сходя с места, около двух часов; огней разводить не дозволяли. Наконец, показался перед фронтом Кутузов, и, к удивлению, скомандовал вполголоса всем войскам «налево кругом»; с поворотом мы стали лицем к наступающему неприятелю, и Московский полк превратился в авангард: заметим, что обратное движение армии от Браунау совершилось левым флангом, и наш полк находился в замке. Вскоре гусарский офицер подвел четырех немцев; главнокомандующий приказал Дохтурову приставить к ним караул из двадцати гренадер, при одном расторопном унтер-офицере. Дохтуров вызвал меня, и я, взяв у подпрапорщика алебарду, передал ему знамя: тогда сам Михайло Ларионович изустно приказал мне смотреть за немцами пристально и беречь их как зеницу ока, прибавив: «Это наши вожаки, понимаешь ли!» Тотчас двинулись в путь: велено соблюдать возможную тишину. Версты две шли обратно к Кремсу; люди подумали, что их ведут ударить на спящих французов и радовались новой потехе: однако скоро последовало разочарование; проводники сошли с шоссе и круто взяли вправо. Стемнело как в яме, принесли потаенный фонарь. Всю ночь пробирались мы по узеньким тропинкам; часто спускались в овраги, проходили ручьи, перелески. Пионерам пришлось во многих местах очищать дорогу и строить наскоро мостики для артиллерии, которую, почти при каждой крутизне, люди вытаскивали на руках. Часа за три до рассвета, стали подниматься на высоту, где открылась обширная площадь; тут немцы указали нам Голлабрун и Шенграбен, окруженные французскими бивачными огнями на расстоянии от нас около пятнадцати верст. Армию остановили, велели принять влево к лесу, на противоположный покат горы, и там позволили развести огни, которые не могли быть видимы неприятелю; отдыхали с небольшим час, потом поднялись; тут Кутузов подъехал и благодарил немцев за услугу, примолвив: «Потрудитесь, друзья, довести до шоссе». Оставив для прикрытия небольшой отряд, под начальством полковника Монахтина, войска пустились вперед, но шли уже без затруднения, ровными местами. На рассвете выбрались на дорогу к Эцельсдорфу, почти в тридцати верстах от неприятеля. Дан был еще коротенький роздых, и мне приказано представить немцев к дежурному генералу: за исправность, Инзов благосклонно пожал у меня плечо, а австрийский колонновожатый сунул мне в руку на мою команду 25 гульденов[12].
С этого дня в армии не слыхали более ариергардных выстрелов; Кутузов принудил врага к бездействию. Зато много беспокоились о князе Багратионе, отрезанном под Шенграбеном, и не было в рядах ни одного солдата, который не молил бы Бога о его спасении.
У Цнайма наши войска прошли только предместье; почти у каждаго дома расставлены были часовые. Я зашел к булочнику, но все было раскуплено. Молодая хозяйка сжалилась надо мною, и, отведя в другую комнату, наложила в платок фунтов семь крупичатой муки и отдала мне, не требуя платы. Я привязал муку к ранцу, схватил за порогом алебарду и поспешил за полком в превеликой радости. Колонны шли по гладкому полю подле шоссе; впереди, верст за пять, возвышалась гора и заметны были огни, разложенные по высотам передовыми полками – обыкновенный признак расположения войск на ночлег. Трое суток мы не только не спали, но не доводилось и отдохнуть порядочно; сон валил меня с ног, голова отяжелела и в глазах двоились предметы: рассчитывая, что до вечера еще далеко и что успею вздремнуть, я улегся в шоссейный ров, где и заснул убитым сном. Солнце было на закате, когда отряд казаков, исполняя свою обязанность, занялся подыманием отсталых; я проснулся с трудом, и моя первая мысль была об узле с мукою. Увы! кто-то отвязал драгоценный узел: в испуге, не веря своим глазам, я даже перерыл вещи в ранце, и, убедясь в невозвратной потере, с тяжкою грустью поплелся в лагерь, из конца в конец пылавший яркими огнями. Товарищи мои, не менее меня томимые голодом, узнав о моей беде, также очень печалились.
6-го ноября армия наша торжествовала сряду две радости: первая – появление непобедимого Багратиона, со славою отделавшегося от Мюрата и двух французских маршалов. Оставленный Кутузовым на жертву, для спасения армии, он умел не только выпутаться из вражеских сетей, но еще доставил пленных и знамя, отбитое храбрыми гусарами. Как уже сказано выше, Мюрат, думая остановить Кутузова переговорами, в предположении, что, ему поверят наслово, и что наша армия вся у Шенграбена, провел более суток без выстрела; но, увидя, наконец, что окружен только небольшой отряд, главная же армия далеко впереди, он, с досады, что не удалось обмануть русскаго вождя, так подшутившего над ним, бросился с яростию на Багратиона, вечером 4-го ноября. Бесстрашный Багратион воспользовался ночным мраком и распорядился так, что французы, обступившие его большими массами, в потьмах стреляли по своим. Несколько раз они предлагали русскому герою сдаться, но ответом были картечь и ядра. Около полуночи прискакал из Вены Наполеон и, заметив ошибку, остановил бой: Багратион не пропустил счастливого момента, и едва притихли неприятельские выстрелы, пошел по цнаймской дороге напролом; штык и сабля помогли ему скоро выбиться из французской блокады. В этой свалке потерпели более прочих войск пехотные полки Азовский и Подольский. Оплошность Мюрата рассердила Наполеона; браня его, он повторял: «Как входить в переговоры с старым хитрецом – с лисою!» Сами французы были рады, что развязались с Багратионом. Ночное дело у Шенграбена еще более убедило Наполеона, что заводить драку в потемках всегда опасно, и он стал избегать ночных нападений и преследований: с закатом солнца французы прекращали стрельбу, кроме тех случаев, когда сам противник станет на них напирать. Армия наша ликовала соединение с нею князя Багратиона благодарственным молебном, как победу.
Вторая радость, приятно потрясшая сердца воинов, был слух о прибытии Государя нашего в Ольмюц. Отрадным вестником столь давно ожидаемаго нами события был флигель-адъютант Александр Иванович Чернышев, присланный нарочно к главнокомандующему. При виде этого дорогого вестника, армия пришла в неописанный восторг: одна мысль, что скоро увидим обожаемого Государя, свалила с плеч все понесенные труды и мы, не чувствуя усталости, готовы были идти бегом навстречу Царю и новопришедшим соратникам.
8-го ноября, мы сошлись в Вишау с авангардом корпуса графа Буксгевдена. Тут сделан был привал. Новички, так кутузовцы честили родных гостей, бросились к нам – и пошли обятия и целования, а расспросов, расспросов и не обобраться!.. Трудно решить, кто более кому обрадовался: мы ли им, или они нам; кажется, сердца наши бились одинаково, с тою только разницей, что нам стало вдвое веселее, имея в подмогу столько бравых товарищей. Через два часа ударили подъем: звуки барабана раздались впервые по выходе из Кремса; мы тронулись, но, долго озираясь, не сводили глаз с своих пришельцев, пока от них не скрылись.
Утром 10-го, в прекрасный солнечный день, армия Кутузова стояла вольно у подошвы ольмюцких высот. Около полудня раздалась команда «смирно!» и вслед за тем прискакали адъютанты, говоря: «Приготовьтесь: Государь Император встречает вас в полгоры у дороги». Радость была невыразимая: каждый потирал лоб и охорашивался. Скоро вывели армию на шоссе и началось шествие: я шел со знаменем, еще никогда не видав Государя. Едва стали подыматься на гору, скомандовали «глаза налево». На половине горы, Государь верхом стоял один, далеко впереди от свиты. Перо отказывается описать наши чувства при виде Царя!.. Его присутствие, его взгляды оживляли воинов новою бодростью. Музыки не было, и Государь, смотря на нас с улыбкой, бил такт ногою под наш скорый шаг; при проходе каждаго полка он здоровался. Несколько далее, по другую сторону дороги, стояли под ружьем гвардия и корпус Буксгевдена в отличном виде. В сравнении с нашими, они были как женихи; ослепительная чистота светлела на них, как играющие лучи солнца на пажитях; в гвардии особенно подобраны были люди все красавцы, один лучше другого; мы, напротив, походили на кузнецов. Когда армия взобралась на высоту и стала на позицию, Император, объезжая фронт, спросил солдат: «Давно ли была на вас вода?..» Люди в ответ кричали: «Ради стараться, Ваше Величество!» Корпус Буксгевдена построился позади нас во второй линии, гвардия в третьей. Багратион и Милорадович с авангардом расположились по дороге к Вишау у Просница. Австрийския войска заняли позицию с левой стороны шоссе, по направлению к Брюнну.
До Ольмюца от боевых линий считали с небольшим две версты. Император Александр часто навещал нас, не только днем, но даже по ночам, в сопровождении одного казака. Кроме ночного времени, император Франц всегда сопутствовал нашему Государю. Великий Князь Константин Павлович почти не оставлял биваков ни днем, ни ночью; если же отлучался, то на самое короткое время. Как часто он сиживал у наших огней, разговаривал с нами, шутил, и если готова была наша похлебка, отведывал, прихваливая, что вкуснее французского бульона, понравилась бы и нашим московским дамам!»
Михайло Ларионович Кутузов назначен был главнокомандующим всех, и новопришедших войск русских и австрийских, Армия простояла в ольмюцком лагере дней шесть. Наполеон находился в Брюнне, авангард его в Вишау. Говорили тогда, что от него прислан был к нашему Государю нарочный с письмом (генерал Савари), в котором, поздравлял его с приездом. Кроме этой рыцарской вежливости, во все время нашего роздыха под Ольмюцем, Наполеон нас не задевал; точно, как будто его там не было.
Позиция, занимаемая нами на высотах ольмюцких, была превосходная; нам можно было бы продолжать стоянку, выжидая корпус Эссена, армию Беннингсена и австрийцев, предводимых эрцгерцогами Карлом и Иоанном, если б очень важное обстоятельство не помешало этому намерению, а именно недостаток в продовольствии. От самаго Браунау, мы никогда досыта не наедались, а соединясь с имперцами, близки были к совершенному голоду. Немцы, рассерженные нашим возвратным шествием, отказывали в доставлении съестных припасов, и наши, заодно с австрийскими солдатами, часто силою добывали себе прокормление в придорожных деревнях. Жители, из страха, хлопотали более о сбережении своих запасов для французов, и прятали от нас и от своих все что могли; достать что-либо съестное нельзя было ни за какие деньги, в которых однако не нуждались: император Франц нередко дарил нашим войскам по два и по три гульдена на человека. В ольмюцком лагере, случалось, кричат из средины за хлебом, и тут поротно наряжают людей: нам, в ожидании, как будто здоровее на душе; но проходил целый день, и посланные возвращались к вечеру с пустыми руками. Иногда притащат, бывало, на весь баталион полбочки муки, и с какою радостию мы получали в полу шинели отпускаемую дачу: подбежав к огню, в той же поле растворяли ее водою, месили и пекли в золе, без соли, лепешки, которые ели с неизяснимым наслаждением. Изредка отпускались печеные хлебы; на роту доставалось десятка по два, по три; фельдфебель и каптенармус, стараясь выгадать для себя получше кусок, чертили мелом эти продолговатые небольшие хлебы по числу людей с особым искусством, и, поставив в ранжир роту, начинали выдачу перекличкой, отделяя каждому, ломтик по черте: каждый, приняв его, целовал, перекрестясь, и прятал за пазуху в шинель: в такой редкости был насущный хлеб! Говядина отпускалась в полки живьем; за неимением вчастую и картофеля, несколько кусков мяса сожигали в уголь и заедали им вареное мясо; винную порцию в ольмюцком лагере ежедневно раздавали по манерочной крышке на человека: я всегда менял свою порцию на то, чтоб во время сна, подле пылающаго костра, меня оберегал от огня тот, кто ее выпьет, охотников было довольно, и, как водится, очередовались. Повелительный голос «за соломой и дровами» многих очень веселил, и я, при первом зове, бывало, первый на ногах являлся с командой не в очередь, не смотря на опасность. Два разные чувства побуждали меня к тому: не допускать людей до разорительного грабежа, и удовлетворить ненасытимую страсть к воинским приключениям. Команды эти, при одном офицере от каждого полка, обыкновенно размещались по хуторам и окрестным деревням, где часто сталкивались с французскими фуражирами, что наиболее и подстрекало молодых людей пускаться на подобные похождения. Кутузов, именно поэтому, уже с Цнайма, отдал приказ отлучаться командам с ружьями и примкнутыми штыками, тем более, что и самые жители нередко встречали нас железными вилами и рогатинами, от чего и бывали убийства: недаром говорят, что голод и замки рвет.
Одно только большое село, в полторы версты от праваго фланга наших линий, было вне опасности, потому что запрещали его штурмовать; но дня за два до выступления, когда уже все окольные места были опустошены, запрещение, повидимому, было снято, и наши фуражирные команды быстро разлились по улицам. Невдалеке от меня я услышал женские вопли: гренадеры моей команды разрывали место, над которым видно ненапрасно трудились; старые и молодые немки целовали мне руки и умоляли со слезами остановить дальнейшее разрытие; я потребовал от них дать солдатам пищу, и они принесли несколько хлебов, мешок муки, картофель, яблоков и 15 кусков шпику: один молодой парень притащил жбан красного туземного вина, ведра в три. Поблагодарив, я уже хотел уйти с солдатами; но старуха, видя кротость людей, за несколько минут до того неукротимых, просила остаться пока кончится набег и защитить ее от других, рыскавших по домам с невероятным ожесточением; я согласился, и команда моя расположилась довольная у входа в жилище. Немцы живут вообще большими домами, в несколько покоев; многие из них, особенно по хуторам, в два этажа, обнесены высокими бревенчатыми стенами; надворные постройки в порядке и везде строгая опрятность. Хозяйка ввела меня в комнату, и молодыя женщины и девушки!обступили гостя с любопытством… Старуха внимательно рассматривала мою одежду, распахнула шинель на груди, потом растегнула несколько мундир, и удивилась, что под мундиром, кроме рубахи, ничего нет теплого: тут подала ей, одна из моравских красавиц, совсем новую душегрейку, и старуха предложила мне надеть. С большою благодарностью принял я этот дорогой подарок человеколюбивой почтенной женщины, и тотчас его надел. В признательность за спасительную душегрейку, я выпросил у нашего полковаго командира, Н. С. Сулимы, охранный караул из трех гренадеров, для ограждения старухи от беспрестанно возобновлявшихся поисков: так, во все время стоянки под Ольмюцем, добрая хозяйка была под защитой. Перед выступлением, я забежал проститься с нею; она благословила меня на дорогу прекрасным хлебом. Этот хлеб я доставил подполковнику П. П. Шамшеву, моему баталионному командиру.
Не смотря на постоянную во всем скудость, и в особенности чувствительный недостаток в хлебе, наше отступление от берегов реки Инн часто оживлялось забавными сценами. Так, например: миновав Шпремберг, когда позади нас ревела канонада и трещал ружейный огонь, австрийские артиллеристы, наловив у одной мызы с десяток крупных свиней, и вдобавок некоторых с поросятами, привязали маток к орудиям, которые тянулись по высокому шоссе; свиньи упрямились, упираясь и озираясь на своих детенышей, пронзительно визжали. Это возбудило всеобщий хохот в войсках, шедших по сторонам дороги густыми колоннами. Вдруг наскакал дежурный генерал Инзов и стал строго выговаривать; артиллеристы, соскочив с седалищ, устроенных по бокам лафета в роде линеек, принялись душить неугомонных свиней; но дюжие животныя, сорвавшись с привязи и разбежавшись с поросятами по сторонам, произвели колебание в ближайших колоннах.
Скоро однако, среди уморительного шума, все это свиное племя исчезло: слышались только из среды русских колонн выразительные благодарности немцам за ужин.
Под Амштеттеном, где французы, не дав нам и кашу сварить, завязали жаркую перестрелку, наши фуражирные команды еще не возвращались из поисков. Кутузов посылал торопить людей сперва офицеров, а потом князя Урусова, шефа Вятскаго полка. Пока собирали команды между домами и по огородам, в одном промежутке, где случился и Урусов, человек двадцать солдат разного оружия, и в числе их полковой причетник, гнались с пронзительным криком за огромным сытым кабаном: скоро одолели животное, и там же на месте принялись тесаками делить его на паи; к этой алчной проделке подъехал князь, и, увидев причетника, который, держа заднюю ногу животного, и ничего не замечая, твердил: «это мне», с улыбкою сказал ему: «Как! и ты здесь?» Причетник, не выпуская из рук, кабаньей ноги, отвечал очень скромно: «Человек бо есмь, Ваше Сиятельство, голод не тетка!» Когда случалось напасть на яму с картофелем или с капустой, радость наша была выше слов, и тут-то у нас начинался гомеровский пир… Вообще все лишения переносились с духом веселым, даже с некоторою гордостью: всегдашнее присутствие любимых начальников и нашего славного вождя заставляло забывать голод.
Лазутчики Наполеона давали знать жителям вперед, когда вступят к ним французы, назначали даже в какую пору, утром или вечером, и мы ровно три недели находились в беспрестанном движении. Ночлеги наши были слишком короткие, всегда в открытом поле, и редко проходили без тревог; случалось даже целые ночи проводить под ружьем, без огня, или на марше. Ни один из нас до Ольмюца не расстегивал ни шинели, ни мундира, и вместо сапог, почти у каждаго были поршни, даже у многих офицеров; шинели наши почти у всех были обожжены бивачными огнями, а у некоторых исстреляны пулями; лица грязные, испачканные порохом, небритые, и при всех трудах и недостатках, каждый солдат держался бодро, с видом страшным, привыкшим к бою, как некогда, на родине, к знакомому плугу. В строе были люди, прослужившие слишком 20 лет, опытности дивной, спокойные в огне как на охоте. Никакие бедствия не потрясали их: все они переносили с твердостию. Случались дни, что армия не имела и времени сделать привал. Наполеон так усердно преследовал наши войска, что некоторые его отряды, стараясь опередить нас стороною, спешили на переменных форшпанах, а французская кавалерия забирала у жителей лошадей, на которых нередко являлась в бой. Наша конница всегда брала верх над французскою, не смотря на то, что у любой лошади во всю ширь седла было садно: просушивать им спины недоставало времени. Французы же имели перед нами то преимущество, что в преследовании могли свободнее заменять свои передовые отряды вновь подошедшими, и могли скорее оправиться от потерь; их не затрудняли ни отвоз раненых, ни доставка провианта и фуража; свежая пища для них и корм для лошадей были всегда готовы с избытком; короче – все им было с руки; пугливые жители помогали им во всем и жертвовали последним, чтоб их не озлобить. Нашим случалось частенько заглядывать в ранцы пленных французов, где непременно находили почти у каждого, кроме хлеба, или зажареную птицу, или лакомый кусок шпику, а у некоторых бутылку вина или ратафии. Можно вообразить себе голодного русского, когда нападал на пресыщеннаго с запасом француза: тут уже не было пардона, и всегда верная смерть последнему… Казаки в набегах добывали много поживы у неприятеля; они налетали внезапно на французских фуражиров, и нередко забирали их в плен вместе с добычею. Для пехоты, вообще, труднее было доставать прокормление, и мы часто постничали по целым дням[13]. Знаменитый вождь наш умел, однако, мастерски смягчать это жестокое положение: при всяком движении войск, он непременно станет на самом видном месте и непременно встретит каждый полк несколькими ободрительными словами. Чтоб более ознакомить солдат с собою и утешить их голод, он тут же, на походе, входил с ними в короткую беседу и вливал в русских воинов непобедимую твердость духа.
Для многих из нас, и в особенности для немцев, странным казалось, что обозы наши, и казенные, и офицерские, на всем отступлении до Ольмюца, как будто и не существовали при армии. По распоряжению главнокомандующего, вся эта хозяйственная часть находилась всегда впереди, на расстоянии двух, а иногда и трех переходов, и войска на марше не встречали и самомалейших препятствий: все движения совершались без замешательства, в удивительном порядке.
После жестокой сечи при Мельке, где, к общему всех сожалению, мы лишились двух храбрых полковников: Мариупольского гусарского, Ребиндера и Киевского гренадерского, Щербинина, русская армия подошла к Санкт-Пельтену, и впотьмах, вблизи города, стала на позицию. Большая часть городов Верхней Австрии построена из камня, и вообще живописной наружности; у каждого дома ворота с калиткой, окованы железом и всегда на запоре; улицы вымощены и во многих с тротуарами. Квартира одного только главнокомандующего была в городе; все прочие генералы находились при своих местах. По городам запрещалось производить обычные поиски, да и было невозможно: все домы настоящие крепости. Едва люди воротились с дровами и соломой, едва развели огни, как меня потребовал Дмитрий Сергеевич Дохтуров. Он дал мне горсть червонцев и приказал купить для него в городе белого хлеба, вина и что только можно из съестного; для переноски велел взять с собою несколько гренадеров, примолвив: «Постарайся достать хоть что-нибудь: совсем отощал». Я доложил генералу, что в ночное время, может статься, ничего нс найду, и что в таком случае обращусь на кухню главнокомандующего. «Хорошо, только спаси от голода», – отвечал он. Взяв с собою шестерых гренадеров, я исходил все закоулки небольшого города, однако безуспешно; ворота везде были на запоре, ставни в нижних этажах закрыты; в верхних во многих домах светилось. Один из них, довольно огромный, освещен был ярче прочих: я решился атаковать его; велел людям подойти к воротам как можно тише, и объявил им, что когда успею заставить дворника отодвинуть засов, то в ту секунду они должны навалиться сильно на дверь, чтоб, увидя нас, он не прихлопнул опять на запор. Осторожно, негромко я постучал в дверь и раздался голос: «Кто там?» Применяясь к их наречию, я отвечал тонким, дрожащим полуголосом: «Отворите». Несколько раз повторялся вопрос, но ответ мой был все тот же. К счастию, я услышал движение засова; конечно, он счел меня за женщину. Гренадеры, затаив дух, тихо приставили к калитке свои геркулесовские кулаки, и едва щелкнул дверной замок, как калитка и привратник с шумом полетели в сторону. Ужас объял немца при виде солдат. Я приказал запереть калитку, и, оставив при ней двух гренадеров, с остальными четырьмя пошел по широкой освещенной лестнице прямо вверх. Появление наше в пространной зале произвело в доме сильное волнение. Хозяин, средних лет, богатый негоциант, встретил меня с испуганным лицом; но мои объяснения и горсть червонцев, положенная мною на стол, совершению его успокоили; он отказался от денег и угостил нас радушно, не забыв нагрузить моих спутников всякого сорта богатым запасом. Меня усадили особо, и, в продолжение этого неожиданного ужина, выбежали из других комнат множество пригожих дам и девиц: пристально рассматривали они русских воинов, и, переглядываясь между собой, любовались молодечеством сынов прибрежий Волги и Днепра. Расставшись с дамами, хозяин повел меня по коридору в просторные сени, из конца в конец увешанные тушами телят, баранов, свиней и всякой живности: выбирайте любое, сказал он; я взял теленка, двух баранов и две индейки, но он прибавил еще две свиные туши, говоря: «Это для солдат, а у вас же есть кому и дотащить», потом, сняв с высшей жерди двух фазанов, и подавая мне, примолвил: «Для его превосходительства». Заметив мое удивление, при виде такого большого заготовления, хозяин, потряхивая головою, сказал: «Неволя заставляет нас, отказывая своим, делать эти жертвы для врага[14]. Уже с вечера получено через наполеоновских лазутчиков строгое от него повеление, чтоб здесь приготовились принять французов к утру наступающего дня (28-го октября); и мы дивимся, продолжал он, что ваш главнокомандующий так покоен здесь: нас пугают слухи, что он намерен тут сразиться». – Все может быть, отвечал я; но французов, при Мельке, наши шибко поколотили, и, конечно, это задержало их, они еще далёко отсюда. Добрый немец видимо был доволен, и, как кажется, еще более обрадован тем, что имел дело с русскими, а не с своими, которые, не смотря на его бескорыстие и вежливый прием, вероятно забрали бы у него весь этот лакомый запас. Он провел меня до калитки; с чувством пожали мы друг другу руку, и едва я переступил за порог, как, живо прихлопнув калитку, задвинули ее чуть ли не двумя засовами, чтоб, наконец, избавиться новых посещений. Опрометью, сколько позволяла мне моя ноша, пустился я в обратный путь обрадовать моего начальника, которого мы любили как отца.
Наши командиры, без исключения, не смотря на возможность ни в чем себе не отказывать, подавали первые пример терпения, и не позволяли себе ни малейшей неги, или чего-либо похожего на довольство и роскошь: заодно с рядовыми грызли сухарь, или, и по нашему, голодали, отдыхая на той же соломенной постилке, среди поля, под открытым небом, во всякую непогоду и слякоть. При этом как могли и мы роптать на скудость?
Не доходя Мелька, при одном ариергардном деле, версты за четыре от армии, неприятель пробрался к нам на марше во фланг. Кутузов, по первому известию, лишь только миновали небольшой город, остановил войска, чтоб выждать ариергард и дать отпор идущему на нас со стороны неприятельскому отряду. Пока дожидались развязки, главнокомандующему кто-то донес, что в костеле, против котораго мы остановились, заготовлена от жителей большая пропорция печеного хлеба для французов. Время не позволяло отыскивать и ожидать надзирателя, войска же наши дня три даже не нюхали хлеба. Михайло Ларионович подъехал к костелу и приказал отбить дверь. Свежепеченый хлеб точно найден в большом количестве, и для раздачи по полкам тотчас потребовали приемщиков. Кутузов слез с лошади и сел на поданную скамью, у самой дороги; мимо его носили хлеб, кто в мешке, кто в поле; одного из солдат он остановил, вынул из полы продолговатенький хлебец, разломал на куски, и, разделив между окружавшими его генералами, ел кусок свой с большим аппетитом, похваливая заботливость немцев о наших врагах… Нам, голодным, тут же роздали этот прекрасный хлеб, так внезапно ниспосланный самим Провидением; мы тоже ели каждый свою дачу, громко превознося нашего вождя и благодетеля. Тем временем ариергард подошел ближе, а отряд гусаров и казаков, с одной конной батареей, остановил обходных недругов.
В продолжение всего отступления только раз нам довелось, так сказать, перевести дух, после перехода через Дунай, у Кремса. В первый день кремского отдыха, Дохтуров потребовал к вечерней заре барабанщиков со всей дивизии. Ватага этих шумил, человек сто, собравшись к урочному времени, подле дома, занимаемого главнокомандующим, приударили вечернюю зарю, пройдя по главной улице взад и вперед. Эта грохотня, не доходившая до ушей Наполеона на всем пути до Дуная, вероятно изумила его, убедив, что мы ничуть не запуганы преследованием. Более суток мы поджидали здесь маршала Мортье, и не даром: седины нашего вождя украсились в этом деле новыми лаврами, искусно отнятыми у торжествующих французов. Наполеон, стоя на противолежащем берегу Дуная, скрежетал от досады, что не мог пособить Мортье, и называл Кремское сражение воловьей бойнею.
Кремс запечатлелся в моей памяти еще по одному странному случаю. Полковник Сулима, утром 31-го октября, послал меня в госпиталь, где производилась перевязка, составить раненым Московского полка поименный список, с обозначением и самых ран. Госпиталь устроен был на главной улице, во втором этаже обширного здания; широкая лестница с пространной площадкою вела в покои. Большая передняя наполнена была всякого возраста немцами и немками; стоя рядами с жбанами и ендовами туземного вина, они предлагали его желающим из человеколюбия безденежно. Около них теснились жаждущие, и веселый говор оживлял эту фламандскую картину. Две другие комнаты заняты были медиками, фельдшерами и разных полков офицерами: последние находились здесь с тою же целию, как и я, чтоб узнать о числе и состоянии своих раненых: эти раненые лежали в двух огромных залах. Прошло много времени, пока я обошел. всех страдальцев и насчитал человек до тридцати пяти нашего полка. Составив им поименный список с отметками, я пробрался далее, где производились операции; там нашел из наших, кроме семнадцати мушкетеров из рот Маркова, Пробста и Данилевского, еще из знаменных рядов четырех гренадеров, так бывших мне близких во весь поход; в последний раз беседовал я с ними, и долго не мог от них оторваться. Распростясь, я перешел в следующую комнату и меня удивило большое число французов с ужасными ранами: они лежали рядом с нашими: эти раны, по большой части от штыка, приобретены ими на длинной насыпи, где защищались храбро против москвичей и ярославцев. Поднятые, по приказанию Дохтурова, они были помещены в общем с русскими госпитале, и число их далеко превосходило наших ранепых. Многим, и французам, и русским, отняты уже были кому рука, кому нога; других продолжали пилить. От жестокой духоты и тяжкого зрелища у меня закружилась голова, и я вышел освежиться обратно к парадной лестнице, на площадку. Скоро одолел меня сон, я присел в угол; сколько времени проспал – не знаю, но было уже поздно, когда, впросонках, я услышал крик: «Выходи вон!» Хочу подняться, не могу, чувствую, что завален спящими людьми. Но какой объял меня ужас, когда я убедился, что загроможден не спящими; а мертвецами: в продолжение моего сна, умирающих от ран и ампутаций выносили на эту площадку и складывали друг на друга. К счастию, я уселся в самом углу, и трупы не могли задавить меня; однако же без помощи казаков мне не вылезть бы. Это происшествие не обошлось без шуток. На голос мой, удалые сыны Дона шумно отвечали: «Полно, вправду ли жив, не морочишь ли нас!», и, разваливая покойников по сторонам, добрались до меня и вытащили. Потом, чтоб не быть в ошибке, не призрак ли какой вынули с того света, подвели меня к фонарю, и, смеясь, осматривали с головы до ног: вдруг вышел из комнат наш полковой адъютант Прегара, до крайности обрадованный, что, наконец, отыскал меня. Когда мы спустились с лестницы на улицу, на дворе уже было темно, лил дождь и все войска в движении. Одни только легко раненые были отправлены к Цнайму и далее: все же трудные, вместе с французами, оставлены в Кремсе, при двух или трех фельдшерах[15].
После нашей достопримечательной прогулки от реки Инн и Браунау, мы порядком отдохнули в Ольмюцком лагере; но дальнейшее стояние в нем угрожало армии решительным голодом. В военном совете почти все изъявили желание обратиться на неприятеля. Кутузов был противного мнения: он объявил, что затрагивать Наполеона еще рано, и предложил отступать. Его спросили, где же предполагает он дать ему отпор? Кутузов отвечал: «Где, соединюсь с Беннигсеном и пруссаками[16]; чем далее завлечем Наполеона, тем будет он слабее, отдалится от своих резервов, и там, в глубине Галиции, я погребу кости французов». Немцам показалось это странным, и мнению русского военачальника не последовали. Многие шептались и болтали даже, что Кутузов помешался на ретирадах… Император Александр, уверяемый императором Францем и его первенствующими генералами в несомненном успехе, отдал приказ – идти на неприятеля, и, 15-го ноября, двинулись на Вишау.
Можно представить себе радость Наполеона, видя решимость союзной армии действовать наступательно; он крайне опасался оборонительной системы Кутузова, и кто знает, какие средства были им употреблены для того, чтоб не последовали совету нашего русского Фабия, будущего решителя судьбы французов, который и тогда готовился погребсти их кости. Уже со дня соединения Кутузова с Багратионом, Наполеон не напирал на нас с привычною ему быстротою, а с занятием нами ольмюцкой высоты, он вовсе утих и показывал вид, что намерен держаться в оборонительном положении; словом, с его стороны употреблены были все хитрости, чтобы вызвать нас на бой, и австрийские генералы, уже столько раз им битые, как будто в угождение завоевателю, усердно рвались против него вперед.
Да немцам и кстати было чужими руками жар загребать: главные армии их находились вне опасности, а вся сила ольмюцких войск заключалась в русских; следовательно, нечего было дорожить мнением Кутузова.
К довершению невзгод, ожидавших нас на полях аустерлицких, император Австрийский упросил нашего Государя предоставить составление плана и диспозиции для сражения австрийскому генерал-квартирмейстеру Вейротеру, так что Кутузов, оставаясь при своем звании главнокомандующего, играл во время сражения простую роль исполнителя приказаний, объявляемых австрийскими генералами.
У Вишау, 16-го ноября, наши атаковали французский авангард; упорство неприятеля длилось недолго; его опрокинули и гнали через город штыками, в присутствии самого Императора Александра, ободрявшего людей под неприятельскими выстрелами. Едва французы скрылись за город с потерею эскадрона драгун, и приутихла на улицах смертоносная буря, как народ тысячами показался у раскрытых окон, дверей, ворот и на крышах, приветствуя Государя восторженными криками радости. На этот раз немцы ничего не жалели для русских: бочки с виноградными винами, огромные корзины съестного, появились у домов, и горожане радушно угощали наших солдат.
На другой день, после дела под Вишау, я чуть не попал в беду. Мы подавались к Брюнну; в одиннадцатом часу утра нам дали привал для завтрака, по левую сторону шоссе; наш Московский полк примыкал к нему на расстоянии не более тридцати сажен; направо, у самой дороги, стояла каменная гостиница и подле нее большой колодец, крутом обставленный преогромными чанами, на чугунных колесках. Скоро развели огни и принялись стряпать, причем воспользовались соломой и дровами, заготовленными для неприятеля; вода также была под рукой, и команды бросились к колодцу. Чтоб избавить людей от лишней ходьбы за водою, мне вспало на мысль наполнить один из чанов и дотянуть его артелью до места. По совету моему, гренадеры тотчас принялись за дело: уже они передвигали налитой чан через шоссе, как поднялся вокруг него большой шум. Пробравшись сквозь толпу, я увидел, что гренадеры спорят с каким-то роскошным кучером, который силится напоить из чана двух прекрасных лошадей, запряженных в дрожки: ничего не понимая что за кучер и чьи дрожки, я оттолкнул его, сказав: «Это для людей вода, а лошадей можешь поить из колодца», – и приказал гренадеру дать ему котелок. Кучер хотел что-то говорить, но я махнул гренадерам, и чан покатился с шумом. Не прошло и полчаса, как полковник Сулима начал разыскивать, кто из унтеров был при чане: указали на меня, и я был потребован к ответу. Тут с изумлением узнаю, что экипаж и кучер Царские; но испуг мой рассеялся великодушным вмешательством князя Долгорукова, который, узнав как произошло дело, сказал мне очень благосклонно: «Вы правы», и отпустил. Пять дет спустя, я познакомился в Петербурге с знаменитым Ильей Ивановичем[17]; он часто напоминал мне о чане, хвалил мою привязанность к солдатам, а я не мог его слушать не совестясь…
Наш солдатский завтрак продолжался недолго; скоро раздалась команда: к «ружью!» Армия приняла влево и направилась прямо к Аустерлицу, полями и виноградниками; один князь Багратион с авангардом преследовал неприятеля по большой дороге к Брюнну. Часа два гул пушечных выстрелов, обличая его шествие, доходил до наших ушей; но когда удалились от главного шоссе, до нас перестала долетать авангардная пальба, и мы шли вне всякой тревоги.
На следующий день дали роздых, подле двух небольших деревень; в несколько минут улицы наполнились солдатами, не смотря на то, что оба Императора и генералитет занимали некоторые дома; на главной, где проходило шоссе, разных полков нижние чины, гурьбой, ловили кур, и одна из них порхнула вверх и разбила окошко: там были Александр и Франц. Люди испугались: Милорадович, выбежавший оттуда, стал их стыдить, называя нахалами. Лишь начали солдаты расходиться, как показались у двери с веселым видом оба Императора. Вместо ожидаемого наказания людям, что, в виду своих Венценосцев, так дерзко полевали; император Франц приказал, чтоб тотчас отпустили во все полки винную порцию. Спустя час, места куриного погрома остались впусте: все колонны были на марше.
Все время оба Императора находились при армии; войска шли побригадно колоннами, в несколько линий, и представляли великолепное зрелище. Кавалерийские отряды, живописно разбросанные версты за полторы впереди, открывали дорогу; команды пионеров держались почти на том же расстоянии, и где встречались ручьи или рытвины, неудобопроходимые для артиллерии, тотчас их поправляли, строили мосты или накидывали понтоны. Погода стояла ясная, кроме туманных утренников, начавшихся с 18-го ноября. Император Александр на марше всегда был верхом; по крайней мере нам не случалось Его видеть в экипаже; беспрестанно Он появлялся перед нами, переезжая от одной колонны к другой, или, опередив всю массу войск и став на возвышении, он любовался нашим прохождением. Полки армии Кутузова были размещены между новопришедшими, и своею темною одеждой слишком резко отъявляли испытанные трудности похода. Шествие Российской гвардии, в челе которой ехал верхом Великий Князь Константин Павлович, имело вид высокого торжества: смотря на нее, каждый из нас уверен был в победе.
С той поры, как свернули с брюннского шоссе; музыки, песенников, барабанного боя не слышно было нигде; казалось по всему, что движение наше хотели скрыть от неприятеля. Однако, в продолжение этих наступательных маршей, наши ночлеги, начиная с Ольмюцкого лагеря, обозначались бивачными пожарами: едва трогались мы с места, показывались на двух или трех пунктах расположения австрийцев густые клубы дыму, и вскоре огонь, охватив один по другому все шалаши, пожирал их дотла. Император Александр, видя такое опустошение, и не менее того довольно изобличающее направление наше, спросил Кутузова на марше третьего перехода: «Зачем эти пожары, Михайло Ларионович?» – «Не наши причиной, Ваше Величество, – отвечал главнокомандующий, – я строго приказал наблюдать осторожность от огня; но австрийцы, вероятно с досады на скупость своих земляков, жгут их последнее добро. Таких сигналов у меня не было во всю ретираду, а у цесарцев, по видимому, в обычае освещать свое наступательное движение». Вслед за этим разговором, казачьим партиям приказано, чтобы, по выходе войск с бивака, заливать огни, и пожары прекратились. Вообще на этом походе жители более потерпели от своих собственных войск: я видел не раз как австрийские солдаты таскали в лагерь, кроме разной домашней утвари, большие перины, одеяла, тюфяки, подушки, и, устилая ими шалаши, спали на них, или, как водится, из отчаяния, в ожидании смерти, роскошничали; потом, с намерением или от небрежения, все истребляли огнем. Во многих деревнях, за неимением дров, разобраны ими для бивачных огней целые дома, на выбор, лучшие, и жители провожали своих и нас с проклятиями… Можно побожиться, что наши солдаты от самого Браунау нигде не жгли бивак. Случалось, что, по недостатку топлива, разрушали по деревням хилые домики, и то редко; но жечь шалаши и без строжайшего на то запрещения у наших не хватило бы варварства: австрийские командиры – настоящие виновники этих походных фейерверков.
19-го ноября, вечером, миновав Аустерлиц, мы подошли к высотам Працена и остановились у подошвы горы, на виноградниках. Несколько часов прошло в ожидании: отлучаться из фронта и разводить огни запретили строго, а позволили прилечь каждому в своем ранжире. Мрак ночи и какая-то могильная тишина нашептывали о близкой грозе; люди догадывались, что здесь, расплатимся с французами; они ожидали генерального сражения как светлого праздника. «И сон не берет, говорили многие; кабы скорее переведаться с злодеями: ведь уж не спроста батюшка наш надежа поворотил назад: он порядком отбоярит Бонапартию…» Так нижние чины рассуждали между собой, вовсе не зная, что этот надежа-Кутузов состоял под распоряжениями немецких голов. Около полуночи, осторожно подвинули нас к вершине, где и пролежали мы до утренней зари. Очень хорошо помню, как взбирались на эту высокую гору: хотя и пологая, а довольно утомила: солдаты беспрестанно повторяли: «Эка его дьявол куда занес…» От времени до времени до нас долетали отголоски восклицаний из французского лагеря; люди, прислушиваясь, говорили: «Француз что-то разгулялся, видно у него идет, попойка[18]»…
Едва начало светать, нам тихо скомандовали: «вставай!» Дохтуров, подъезжая к фронту, приказывал оправиться и осмотреть ружья. Скоро увидели маститого Кутузова на вороном аргамаке: это был тогда его любимый боевой конь. Поговоря с нашим генералом, главнокомандующий проехал к 4-й колонне, где находился наш Государь. Немного погодя, повели нас под гору. Когда мы спустились в долину, егеря, казаки и кроаты Кинмейера уже перестреливались с неприятелем. В руках у меня было знамя: я шел бодро, словно на охоту, густой туман скрывал от глаз все предметы: вдруг я наткнулся на двух убитых егерей: меня обдало холодом и страх пробежал по жилам, заронив в грудь нечто похожее па трусость. – Но иду со знаменем! – подумал я, и стало совестно упадать духом. Мысль, что увижу грозное зрелище, эту, для меня, первую генеральную битву, пролила теплоту в охладевшие чувства, и я силился подавить малодушие. Офицеры поминутно кричали людям, чтоб не разрывались и шли теснее. Уже мы ступили на места, занимаемые неприятельскими застрельщиками, как увидели тела убитых французов. Взгляд на поверженного врага разом освежил меня удвоенною бодростью; но смотря на мужественных усачей, о бок со мной идущих, я краснел в душе, и затаил от них едва минувший страх. За туманом, почти до девяти часов, все еще мало что могли различать: впрочем, это не помешало подойти к шанцам, и полк развернутым на марше фронтом бросился вперед. Французы защищались упорно; мы однако выбили их из шанцев штыками, и подавались за ними в тумане; тут казаки подвели к Дохтурову захваченного французского офицера; от него узнали, что Наполеон в центре своей армии, а против нас войска маршала Даву. Скоро проглянуло солнце, мгла рассеялась, и мы вдруг увидели перед собой французскую линию в самом близком расстоянии. Застонали орудия, загрохотал батальный огонь, и земля дрогнула. Обе линии, наша и неприятельская, очутились в непроницаемом дыму, обозначаемые только беглым огнем. Так началось сражение на левом фланге нашей армии: штык, и сабля с криком «ура!» работали вволю, и французы быстро очищали нам и поле, и деревни. В пылу свалки, голос Дохтурова часто раздавался: «знамена вперед!», и вся масса полка стеной валила на врага. Раза два били отбой, когда наши с запальчивостию вдавались в опасность. Уже далеко были мы от центра нашей армии, и стояли победителями за Тельницем; баталионный адъютант Пожидаев, ходя по фронту, объявлял людям, что, по назначению, нам должно занять Тураский Лес, указывая на чернеющееся вдали возвышение. «Перешагнем и лес, и этих французов, ваше благородие», – отзывались солдаты. Простиравшееся за нами пространство было усеяно убитыми и ранеными: Русских пало втрое менее чем французов, которые местами лежали кучами; при беспрерывном нашем передвижении, многие из последних, легко раненые, подымались и стреляли по нашим, а некоторые из них и лежа пускали пулю в ряды русских; Дохтуров, заметив эти проделки, приказал отобрать у раненых французов оружие. Невдалеке, один неприятельский драгун, в косматой каске, лежал с перебитой ногою и долго не отдавал палаша; уже хотели изрубить упрямца тесаками, как Дохтуров закричал: «Оставьте ему заветный палаш и не трогайте его!» При каждом наступлении на врага, полковая музыка начинала играть какой-нибудь танец: такое смешение ужаса с веселыми звуками кларнета и флейт ободряло наших солдат и, казалось, не радовало французов.
Пока мы подавались вперед за отступающим неприятелем, Наполеон главными силами двинулся наперерез нашему центру. Столь внезапный натиск захватил союзные войска на марше, по направлению за нашим левым флангом, и произвел сильное замешательство. Одни колонны графа Буксгевдена и правофланговая князя Багратиона сошлись с неприятелем в боевом порядке; остальное все, следуя австрийской диспозиции, подверглось, страшному расстройству: резервы, шедшие позади без всякого опасения, вдруг очутились перед неприятельскими колоннами в первой линии; так было и с нашей гвардиею.
Аустерлицкое поражение нельзя вменять в вину русским войскам: у нас всем распоряжался австрийский генерал-квартирмейстер Вейротер, заступивший место искусного Шмита, к сожалению, убитого под Дирнштейном. В армии тогда же сделалось известным» что некоторые из австрийских генералов, особенно граф Бубна, сильно оспаривали распоряжения Вейротера, по милости которого на операционной линии союзных войск, растянутой верст на 15-ть, все шло наизворот, и победа как будто подставлена была нашему противнику. Наполеон ломился вез де наверное, словно вперед зная диспозицию… Кутузов присутствовал при этом беспорядке как лицо субальтерное, и отстранить удар уже не имел власти; предвидя неудачу, он более часа мешкал на праценской высоте, желая удержать за собой этот ключ всего поля сражения; но Вейротер настоял на том, чтоб побудить Кутузова к движению, и русский военачальник оставил праценскую позицию с негодованием, когда сам Государь лично приказал ему выступить. Французы как будто сговорились с немецкими распорядителями, и лишь заметили, что высоты Працена обнажены и без прикрытия, как немедленно овладели ими и внезапно явились в тылу нашего левого фланга, направленного в обход их правого фланга.
4
Нынешние дивизии тогда именовались инспекциями, а начальники дивизий – инспекторами.
5
Кроме гренадеров, у которых вместо шляп были острые латунные каски, с надписью «С нами Бог». Теперь в одном только лейб-гвардии Павловском полку сохранились на память павловские каски.
6
Полки именовались тогда по именам своих шефов, а так как шефы часто переменялись, иногда на месяц по два и по три, то эта поименная численность полков в русской армии, почти беспрерывно умножавшаяся во все продолжение италийской кампании, пугала французских генералов и приводила в заблуждение, великий Суворов и с малыми силами постоянно торжествовал над многочисленными противниками. Неприятель никак не подозревал, что один и тот же полк носил в течении месяца три и более имен, и эта мистификация сильно действовала на французов, при быстроте и натиске русских, водимых бессмертным Суворовым.
7
Прием с понижением чина из статской службы в военную многих тогда поражал своею новостию: удивлялись данному преимуществу военным, пока, наконец, увидев, как дорого обходятся заслуги воину, особенно во времена наполеоновской борьбы, убедились в справедливости этого отличия.
8
В то время в каждом мушкетерском полку первый баталион состоял из гренадер.
9
Монахтинские ученья во многом отличались от других полков: почти все построения делались у нас на бегу. Во время маневров, людей приучали переносить походные трудности, и нижние чины, вследствие того, наполняли ранцы песком, а манерки водою. Для учений выбирались места, изрытые рвами, где попадались плетни и сугробы, даже нарочно сделанные барьеры. Нередко за полночь, солдат поднимали по тревоге, без предупреждения; проворно запасались сухарями на трое суток, и только на сборном пункте мы узнавали, наконец, что посреди нас неутомимый Монахтин. Тут он начинал суворовские эволюции; быстрота и натиск наблюдались строго; за плутонгом перепрыгивали рвы и плетни, и, не разрываясь, дружно принимали в штыки отстреливающихся противников. Последние, скрытно от нас приведенные издалека, занимали свою позицию уже с вечера, на местах, еще нам незнакомых. Эти распоряжения и принимаемые предосторожности делались точь-в-точь как на войне. Так Монахтин, во время нашей стоянки в Киеве, доводил до желаемой цели Московский полк, в котором каждый солдат глядел атлетом.
10
Передовые полки армии Кутузова начали выступать из русских пределов с 13-го августа.
11
Дириштейн – опрятный городок, в одну улицу, и при входе в него высится старинный замок, где некогда (в XII веке) томился английский король Ричард Львиное Сердце герой Третьего Крестового похода. Возвращаясь из Палестины морем, корабль, на котором сидел Ричард, испытал крушение на берегах Италии; имея повсюду врагов, он боялся пройти Франциею и пустился через Германию, перерядясь простым паломником. Излишняя его тороватость открыла в нем монарха; он был узнан, и Леопольд, герцог Австрийский, по ненависти к нему, засадил его в замок Дирнштейн. Около пяти лет тянулось это скрытое заточение Ричарда, как трубадур Блондель, уроженец аррасский, отыскивая короля по всем концам германских владений, случайно попал на след. Леопольд, испуганный этим открытием, не осмелился держать у себя своего грозного узника и передал его немецкому императору Генриху VI. Император, также имевший против Ричарда давнюю злобу, обрадовался этой находке, и заковал его в цепи, как бы взятого в плен на поле сражения. Герой крестового похода, наполнивший свет своею славою, был заброшен в мрачную тюрьму и оставался еще год добычею мести врагов, которые были христианские государи.
Замок Дирнштейн мы захватили врасплох, и два орудия, стоявшие на лицевой башне, взяты были нами в несколько минут. Французы, не ожидавшие с зтой стороны появления русских, с беспечностию бражничали по домам: пьяно, впопыхах, они едва успели выстрелить один раз картечью, и толпой бросились выбраться из тесной улицы.
12
Тогда австрийский гульден составлял на русские ассигнации 60 копеек.
13
Офицеры особенно много терпели нужд. Тогда не было в обыкновении отпускать для них порцию натурою; им выдавались рационные деньги, которые всего чаще были в кармане ненужною мебелью, кроме разве для игры в карты; ничего съестного нигде нельзя было купить, запасов же иметь невозможно; брать телегу для клади запрещалось; дозволяли, и то не всегда, вьючную лошадь – одну на всех ротных офицеров. Благодетельная перемена – отпускать для офицеров порцию натурою – последовала в царствование блаженной памяти Императора Николая, в войну с турками 1828 и 1829 годов. Эта мера принесла великую пользу и тем уже, что на биваках между офицерами почти уничтожилась картежная игра, что было очень заметно при обложении Варны, в эту эпоху, славную для российского оружия. Прежде, от избытка рационных денег, частенько, на досуге, голодные офицеры резались в фаро, и многие проигрывались в пух, так что где и можно б было отогреть и поправить желудок, так уже не на что было: в кармане не оставалось и гроша… В прусскую войну 1806 и 1807 и шведскую 1809 и 1810-го годов, я не раз был свидетелем горестных сцен решительного проигрыша, довольно забавного, впрочем для лиц посторонних. Но в кутузовскую кампанию 1805 года не было времени ни гулять, ни играть в карты…
14
Русские, в 1812 году, так не угащивали у себя французов: вместо приветливых слов и заготовления всякой снеди, они, чтоб торжественнее их встретить, оттачивали ножи и вострили секиры, и бестрепетно, с железом и пламенником в руках, ожидали прихода незваных.
15
В это ненастное время, у нас по рядам разнеслась радостная весть о победе английского адмирала Нельсона над французским флотом при Трафальгаре. «Ништо ему! – бормотали промеж себя солдаты, – вишь, забияка, со всеми рассорился; задел и заморских попугаев! Да, ведь правду сказать, Бонопартия-то и молодец хоть, все-таки несдобровать же ему. – Оно так, ворчали другие, а пока что – меси грязь… Эх-ма! подхватили старики, уж и осовели, ребята. Нам ли тужить, братцы! Трудись, терпи, так и будешь енерал. Мы видали не такое горе: в Туретщине и у персов всего перебывало, а Бог миловал; бусурман уняли: задали такого трезвона, что и дедам их не в память!
16
На всем пути нашего обратного шествия, носились слухи, что Пруссия отлагается от союза с французами и пристает к нам. Еще до Дуная, вокруг бивачных огней, из разговоров между генералами, можно было расслушать не один раз похвалы прусским войскам, и что Фридрих-Вильгельм уже давно недоволен диктаторским тоном Наполеона Бонапарте, и разрыв неминуем.
17
Лейб-кучер Императора Александра, сопровождавший Государя во все его походы, вояжи и частые разъезды по России. Эго историческое лицо особенно замечательно по своему уму и примерной преданности. Во время пути, Государь любил беседовать с Ильею, которого сановитость и сладкая речь увлекали слушателя до очарования. Редкое достоинство Ильи Ивановича и в том, что он никогда никого не оговаривал, а если что и объяснял любознательности Монарха, то по сущей справедливости; прямой души и чистый сердцем, Илья часто делал добро н никогда не злословил.
18
То был канун первой годовщины коронации Императора Наполеона, и французы, вместо иллюминации, по-походному, подняв на длинных шестах огромные пуки зажженной соломы, приветствовали своего царственного вождя, при проезде по линии, криками виват! Останавливаясь, Наполеон говорил солдатам: «Завтра вам, храбрые, следует решить вопрос – чья пехота первая. Надеюсь, вы оправдаете ожидания Франции и мои; кончим поход громовым ударом!», и обеты французов подарить ему, вместо букета на его праздник, неприятельскую армию, выражались восторженными кликами, долетавшими до наших ушей; по мере его проезда и расстановок. Наши между тем, перекликаясь, тужили, что нет им по чарке.