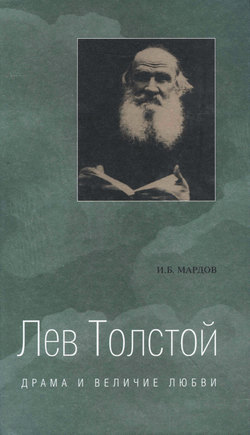Читать книгу Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии - Игорь Борисович Мардов - Страница 6
Глава 1
О духовной любви
5
ОглавлениеЛюбовь-благоволение вроде бы уравнивает каждого в едином круге любви. «Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни – это: без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального» (47.71), – писал 28-летний Толстой. Агапическая жизненность изливается высшей душою одного человека и выливается на всех; она, кажется, способна залить всякого, кто попадет в ее поток. На самом деле живые воды агапической любви поступают только изнутри колодца данной высшей души. Залить этот колодец внешними водами никак нельзя. Можно только, и то с огромным трудом, побудить высшую душу другого (и не всякого) человека агапически явить себя.
«Любовь есть проявление в себе (сознание) Бога, и потому стремление выйти из себя, освободиться, жить Божеской жизнью… Главная мысль моя в том, что любовь вызывает любовь в других – Бог, проснувшийся в тебе, вызывает пробуждение того же Бога и в других» (53.25).
И все же для такого пробуждения Толстой полагается на мощь «разумного сознания» (не рационального убеждения, а проявления в себе сознания Бога, Разума Жизни как таковой) куда более, чем на непосредственное воздействие силы агапического чувства жизни одного человека на другого. Но и «разумное сознание» той высшей души, которая более или менее активно живет агапической жизненностью, давая руководство к действию, само по себе еще не обеспечивает полноценное включение высшей души в работу внутреннего мира человека и, следовательно, не обеспечивает главенство агапического чувства жизни в его целостном чувстве жизни.
По Толстому, высшая душа пробуждается к активной жизни под воздействием своего «разумного сознания», поддержанного всей страдающей и гибельной жизнью человека. «Страдания и смерть, как пугалы, со всех сторон ухают на него и загоняют на одну открытую ему дорогу человеческой жизни, подчиненной своему закону разума и выражающейся в любви» (26.435). Действенным оказывается не разумное сознание как таковое, а разумное сознание человека, познавшего страдания и смерть, то есть человека уже во всех отношениях взрослого.
Жизнедеятельность высшей души в человеке всегда ценна сама по себе, вне зависимости от того, какой результат – всеобщий или частный – может быть получен в ней. Агапическая любовь склонна расширять поле самоизлияния, беспредельно множить объекты любви. Сторгическая любовь, напротив, всегда точечная и ведет к локальному единению высших душ субъектов любовного взаимодействия. Хотя сторгическая сплоченность существует и в Общей душе народа, но это особая тема.[24] Во всяком случае, общедушевная сторгия куда слабее выражена, чем сторгия приватной духовной жизни.
«Любовь нельзя сделать в себе, а отрешение от себя можно. И стоит отрешиться от себя, возникает любовь» (53.196) – агапическая любовь. Для сторгической любви одного самоотрешения мало. И ее можно «сделать».
Возможности агапической любви варьируются от готовности к милосердию до любви к врагу. Возможности сторгической любви варьируются от душевной привязанности, образованной длительным житейским соприкосновением тел и душ, до таинственной свитости душ на самом глубинном их уровне.
Человек впервые видит человека – и вполне может воспринять его агапически и соответствующим образом отнестись к нему. Но в общем случае он не в состоянии воспринимать его сторгически, даже если в каком-то отношении считает его себе «ближним». Хотя высшая душа, живущая сторгической жизненностью, склонна чувствовать – и иногда не может не чувствовать! – другое Я по своим таинственным каналам, посредством которых высшие души изнутри сообщают друг другу о себе. Сторгическим ближним вам становится тот, от кого до вашей души донесся зов, вызвавший в вашей душе ответное сторгическое стремление или переживание. Другое дело, что и зов этот, и ответное переживание могут оказаться мнимыми.
Сторгическое стремление требует от человека взять на себя ответственность за сторгического ближнего – такую же, что и за себя. В том числе и за его судьбу, неразрывно совмещенную со своей судьбою. Это не моральная ответственность, не долг и не чувство справедливости. Сторгическая ответственность перед своим другим Я – ровно такая же, как перед собой. Это в полном смысле ответственность по любви как к себе. В силу чувства сторгической любви высшие души стремятся жить вместе, две как одна. Здесь не сложение одного с другим, а, как мы сказали уже, взаимоусиление высшей душевной жизни каждого.
В сторгической связи высшая душа дополнительно обретает большую полноту и жизненность. От одного того, что два человека сторгически объединились, происходит то, что каждый из них внутренне возвысился, стал душевно выше и глубже самого себя, на порядок одухотвореннее, стал полнее и глубже переживать жизнь.
Сторгическое действие буквально на глазах оживляет человека, делает его более живым. Это приращение жизненности переживается как сторгическое благо и придает особые силы той высшей душе, которая переживает это благо. Выходить на поле духовной (или духовно-творческой, а то и просто творческой) брани одному, без поддержки супружеской, дружеской или какой-нибудь еще сторгии – значит не биться в полную силу и если и одержать победу в этой битве, то половинную. Это знает каждый, кто когда-либо ставил перед собой задачи на пределе своих сил.
Агапия (во всяком случае, ее ближайшее проявление в человеческой жизни) – это всегда любовь-добро,[25] которая, собственно говоря, не обязательно подчинена требованию «любви к ближнему». Это определенно выразил Толстой в дневниковой записи начала 900-х годов:
«Очень неверно, неточно, неопределенно сказано: люби ближнего. Это сказано в Библии; в Евангелии же только повторено, выбрано самое важное из всего. Любить велеть нельзя, любовь есть высшее проявление души и потому ничем не может быть вызываемо. Оно вызывает все другое. Любить можно велеть только Бога, потому что это свойственно человеку: как только он свободен от соблазнов, он невольно больше всего любит Бога, т. е. истину, добро, любовь. Надо сказать: не то, что люби ближнего – этого нельзя, а будь добр к ближнему (люби Бога). Это всегда можно» (54.100–101).
Сторгия – это всегда любовь-соединение. Для агапического действия соединение душ – одно из приложений. Для сторгического действия Добро – приложение.
«Зло есть материал любви. Без зла нет и не может быть проявления любви. – Бог есть любовь, т. е. Бог проявляется нам в победе над злом, т. е. любви» (53.216). Победа над злом есть дело добра, дело агапической любви. Сторгия к победе над злом земной жизни столь непосредственного отношения не имеет.
Агапическая любовь, как утверждал Толстой, есть чистейшее самопроявление той жизненности, в которой живет высшая душа человека. Агапическое чувство жизни – чувство жизни высшей души самой по себе.
Сторгическая любовь, быть может, есть самопроявление кого-то, кто начинает жить в поле жизненности высших душ. Сторгическое чувство жизни – чувство жизни кого-то, какого-то нового духовного существа, которое оживает в глубинной свитости высших душ людей.
В сторгическом единении высших душ одного и другого человека возникает новое духовное существо, которое не есть высшая душа того или другого или их сложение. Это духовное существо изначально не дано в земной человеческой жизни, возникло (рождено, создано, сформировано) в нем вновь и потому не подлежит уничтожению при отживании плотского человека. Тут есть веские предпосылки для решения вопроса бессмертия человека.
Сторгическая духовная жизнь избирательно обращена к другому человеческому «Я», к еще одному своему «Я», к другой высшей душе, чтобы воссоединиться с ней и в этом воссоединении создать новое, еще не бывшее в существовании.
В агапическом соединении (через Бога) нет первых и вторых, все равны. В сторгическом узле двух душ может быть как ведущий, так и ведомый.
Степень свободы сторгической жизни и полноты ее проявлений выдерживает сравнение со свободой и полнотой агапической жизни. Сторгическое чувство жизни столь же высшее проявление чувства жизни человека, сколь и агапическое чувство жизни. И потому вопрос смерти человека и его несмертной «истинной жизни» достаточно определенно решается в сторгическом соединении высших душ. Сторгическая жизнь – в полном смысле духовная жизнь, так как в ней оживает вновь рожденное духовное существо, в которое человек, участвующий в его зарождении, не только вполне может, но не может не перенести свою жизнь. Но, повторим еще раз, эта духовная жизнь иного рода, чем агапическая духовная жизнь.
Есть две различные струи духовной жизни высшей души, два рода жизненности, одна из которых оживлена агапической любовной духовностью, другая – сторгической любовной духовностью. Первая, по заключению Толстого, всецело принадлежит вселенской духовной жизни. Вторая принадлежит приватной духовной жизни земного человека.
Сторгическое и агапическое суть разные любовные духовности, трудно сводимые друг к другу. Сторгия не предполагает агапию. И агапия не обязательно предполагает сторгию. У Толстого, при его духовном рождении, в чем-то одна даже замещала (а то и разрушала?) другую. Тот, кто высоко одарен агапической любовной духовностью, у того может быть ослаблена воля сторгического действия. И наоборот: у человека могучей сторгической воли ослаблено агапическое благоволение к жизни, пусть даже он, будучи в лоне христианских представлений и чувствований, и должен толковать об этом предмете.
Агапия не направлена на личность, ей вообще не нужен объект переживаний, а тем более личностный объект. Враг – соответственное личное восприятие и восприятие личности. Врага можно любить, только исключив из переживания любви все личностное или пристрастное. Сторгия, конечно, носит личностный характер. Но это, подчеркнем особо, никак не характер психики животной личности, а лично-духовный характер высшей души.
Чтобы состоять в сторгической паре и чувствовать другое Я как свое, хорошо бы прежде как можно яснее сознавать свое собственное Я и знать, что личностно ему нужно. Сторгия – начало индивидуальности высшей души, создающее своеобразие ее проявлений. Без сторгии высшая душа единообразна, одна и та же во всех. Проповедь Льва Толстого построена на утверждении одной – агапической – высшей души во всех людях. Не потому, что он не признавал сторгическое действие в высшей душе, а потому, что он не верил в него. И имел на то веские основания в своей личной духовной жизни. При этом сторгические движения не отвергаются Толстым, а как бы включаются в агапические движения и даже поглощаются последними.
«Любовь есть стремление сознавать жизнь другого так же, как я сознаю свою – войти в другого, быть им. И когда любишь, то стремишься быть не собой одним, а всем, стремишься быть тем, что Бог, и познаешь Бога. – Это одно. Другое же то, что, если свята любовь, то как же я не люблю NN? И я вспоминаю, кого я не люблю, и стараюсь войти в его душу, говорю себе, что буду стараться войти в общение с ним, искать его, сближаться с ним, вызывать его на высказывания себя» (87.40).
Я думаю, что агапия без сторгии могла бы отдавать умозрительностью даже у Толстого. Если этого не происходит, то потому, что он то и дело переводит сторгию в агапию и наоборот. Толстой постоянно стремится расширить пространство сторгии с одного лица (естественное сторгическое пространство) на всех людей. Толстой считал, что всякого человека можно любить сторгически (как любишь ближайшего человека), и сам, успешно или неуспешно, стремился любить так.
Агапическая струя духовной жизни общедушевно востребована христианством. Сторгическая река любовной жизни в чистом виде религиозно невостребована, нигде не ставится в центр религиозной жизни, хотя именно эта река любви течет практически в каждом и заполняет большую часть общего жизненного поля людей. Это объясняется религиозной невостребованностью той духовной жизни, для которой сторгия имеет основополагающее значение.
24
См.: Мардов И.Б. Общая душа. М., 1993. Ниже мы еще коснемся этой темы.
25
«Читал Евангелие, чего давно не делал, – записал Толстой еще в 1857 году. – После Илиады. Как мог Гомер не знать, что добро – любовь! Откровение. Нет лучшего объяснения» (47.154).