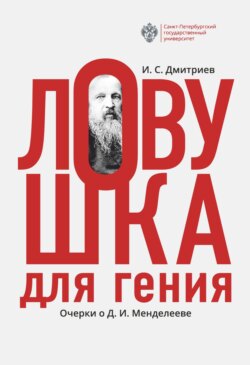Читать книгу Ловушка для гения. Очерки о Д. И.Менделееве - Игорь Дмитриев - Страница 9
«Земную жизнь пройдя до половины…»[1]
«По мне же, самодержец автократ – не варвар, но похуже во сто крат»[70]
ОглавлениеКонтроль над образованием и вообще над всякой интеллектуальной деятельностью в России еще более усилился, когда в Западной Европе разразилась гроза 1848–1849 годов, так называемая «Весна народов». В странах континентальной Европы начался новый период, когда власть перешла к «модернизаторскому руководству» [Black, 1966, p. 76][71].
Встревоженный революционными движениями император, «на мгновение потрясенный» (С. С. Уваров)[72], решил, что надо принять срочные и решительные меры по предотвращению чего-либо подобного в империи. Разумеется, 370-тысячная русская армия была срочно, уже летом 1848 года, сосредоточена у западных границ государства и через год выступила против восставших венгров. Но не менее беспокоила Николая I обстановка внутри страны. Следовало немедленно нейтрализовать распространение неконтролируемого вольномыслия. «Охранительная тревога» охватила российские верхи. «По сравнению с революционной заразой даже холера, снова вернувшаяся в Россию, уже не казалась такой опасной. Николая больше заботил карантин нравственный…» [Олейников, 2012, с. 287]. В марте 1848 года император сообщает И. Ф. Паскевичу в Варшаву: «Здесь все спокойно. Выезды за границу я совершенно запретил, сделай то же у себя; въезд к нам только за личной ответственностью министров и с моего предварительного разрешения, вели то же и в Польше; и в особенности прекрати свободный выезд по железной дороге»[73]. Необходимо было в срочном порядке умножить число «умственных плотин» (С. С. Уваров) [Барсуков, 1888–1910, кн.4, с. 85].
Прежде всего был усилен контроль над прессой. Внезапно выяснилось, что направление многих российских журналов «весьма сомнительное», да и вообще, какое издание ни возьми, в нем, как выразился князь П. А. Вяземский, «каждое слово есть обиняк» [Щебальский, 1862, 53], а посему был создан так называемый Бутурлинский комитет, или Комитет 2 апреля 1848 года (официальное название – Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений). Надо было срочно урезонить виртуозов пера, «обуздав единожды твердыми мерами врожденную строптивость периодических изданий» [Уваров, 1864, с.96] и особенно, как выразился его величество, «некоторую часть московских тунеядцев»[74]. Редакторам петербургских изданий было объявлено, что «за напечатание либеральных и коммунистических статей они подвергнутся личному взысканию, независимо от ответственности цензуры»[75].
В «мрачное семилетие» николаевского царствования (1848–1855), т. е. в период, который бросил тень на все тридцатилетнее правление Николая Павловича, Комитет проделал колоссальную работу по обеспечению доступными ему способами порядка и стабильности в империи, «храня целомудрие прессы»: по его докладам в 1848 году был сослан в Вятку М. Е. Салтыков-Щедрин, в 1852-м – выслан в Спасское-Лутовиново И. С. Тургенев и т. д. В 1849 году Комитет заблокировал принятие нового цензурного устава. Министр народного просвещения граф С. С. Уваров, поддержавший статью проф. И. И. Давыдова в защиту университетов и университетских реформ 1830-х годов [Давыдов, 1849], которая крайне не понравилась Николаю I, начертавшему: «Должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя», 20 октября 1849 года вынужден был уйти в отставку[76], после чего, несмотря на болезни и переживания в связи со смертью жены, скончавшейся еще в июле 1849 года, он прожил последние шесть лет своей жизни вполне мирно, счастливо и деятельно. Оставаясь на посту президента Императорской Академии наук, даже магистерскую диссертацию защитил в Дерпте (о происхождении болгар), докторскую готовил…
Он предпочитал ничего не говорить о шагах властей после 1848 года, но одно стихотворение Байрона, им переписанное, возможно, выражает его разочарование и веру в правильность своего пути.
What shall I say to Ye;
Since my defence must be your condemnation?
You are at once ofenders and accusers,
Judges and executioners! – Proceed
Upon your power! [Виттекер, 1999, с. 269][77].
Как умны, смелы и прекрасны бывают чиновники в отставке! Какое чудо природы такой человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Век бы слушать…
В начале 1849 года по Петербургу и Москве поползли слухи о предстоящем закрытии всех университетов. Однако сделать это Николай I не мог, образованные специалисты и чиновники империи были необходимы[78]. Но что-то предпринять было надо, чтобы, по выражению Уварова, «дух учебных заведений был по возможности огражден от заразы мнимого европейского просвещения, не совместимого ни с нашими учреждениями, ни с благоденствием Отечества»[79]. Как видим, в руководстве российским образованием смешались две разнородные тенденции – идеологическая и просветительская, причем первой был отдан безусловный приоритет.
В итоге выборы ректоров университетов были заменены их назначением министром (без определения срока пребывания в должности), с последующим утверждением императором, в целях «неупустительного прохождения» ректорами «своего важного звания». При этом ректор отбирался не из числа профессоров данного университета. Он, как и другие чиновники империи, должен был неукоснительно соблюдать все начальственные установления [Сборник МНП-2, т.2, 2-е отд., № 494, стб.1104–1105], и его (как и деканов) главной обязанностью стал надзор за преподаванием. Даже жениться ректор не мог без разрешения попечителя. Каждый профессор должен был представить декану подробную программу курса с указанием используемой литературы.
Программа утверждалась на собрании факультета. При ее рассмотрении имелось в виду, «чтобы в содержании… не укрывалось ничего не согласного с учением православной церкви, с образом существующего правления и духом государственных учреждений»[80]. Декан обязан был следить за точным соответствием лекций программам и докладывать о любом отступлении.
18 марта 1848 года был прекращен доступ в страну «всем вообще без исключения иностранцам и иностранкам, желающим отправиться в Россию для посвящения себя воспитанию юношества» [Сборник МНП-2, т.2, 2-е отд., № 428, стб. 897] (речь шла о «домашних наставниках», деятельность которых была неподконтрольна властям). Министерство народного просвещения постоянно проводило «мониторинг» состояния умов в учебных заведениях. Свод законов, инструкций, рескриптов, распоряжений и постановлений об образовании изрядно распух.
С весны 1848 года преподавание государственного права европейских стран было приостановлено. Заграничные командировки отменялись. В апреле 1849 года император запретил печатать в журналах статьи «за и против университетов как правительственных учреждений» [Лемке, 1904, с. 234].
21 марта 1849 года была проведена так называемая бифуркация в гимназиях: начиная с четвертого класса вводилось разделение курса в зависимости от склонности учащихся и их дальнейших планов (для тех, кто собирался поступать в университет, вводилось (также с 4-го класса) изучение латыни, но если гимназист намеревался поступить на первое (историко-филологическое) отделение философского факультета университета, он должен был с 4-го класса изучать еще и греческий язык) [ПСЗ-II, т. 24, отд. 1, № 23113][81]. Таким образом, изучение классических языков в гимназиях сокращалось. Кроме того, император делал все, чтобы дворянство шло не в университеты, а в военные учебные заведения.
В записке С. С. Уварова по поводу внесения изменений в уставы гимназий и училищ (от 21 марта 1849 года) было сказано: «…разграничивая точнее и решительнее предметы гимназического учения, полезно при этом случае оградить гимназии от умножающегося прилива как в эти средние, так и в высшие учебные заведения молодых людей, рожденных в низших сословиях общества, для которых высшее образование бесполезно: ибо, составляя лишнюю роскошь, оно выводит их из круга первобытного состояния без выгоды для них и для государства» [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 476, стб. 105721]. Впрочем, все это было не ново. Еще 9 июня 1845 года Николай I просил С. С. Уварова «сообразить, нет ли способов затруднить доступ в гимназии для разночинцев» [там же, № 305, стб. 632]. И тот быстро сообразил, как именно следует «ограничить необдуманное стремление молодых людей из низших сословий к высшему образованию», но при этом «не лишая… трудолюбивое юношество способов к приобретению нужных специальных познаний» [там же, № 409, стб. 864].
Нет, Николай I вовсе не намеревался оставить низшие сословия без света знаний. Его позиция было иной: необходимо, «чтобы повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся», а потому каждому молодому человеку надлежит получить лишь «познания, наиболее для него нужные», чтобы он «не стремился чрез меру возвыситься» над тем состоянием (т. е. сословием), в коем ему суждено оставаться «по обыкновенному течению дел» [там же, 1-е отд., № 41, стб. 71]. Ведь если, допустим, крепостной или кто-то из низших сословий получит высшее образование, то от этого ему же хуже будет, поскольку это возбудит в нем «пагубные мечтания и низкие страсти» [там же, 2-е отд., стб. 72, № 41].
В 1850 году (уже при преемнике С. С. Уварова князе П. А. Ширинском-Шихматове, при котором в просвещении российском установилась, по выражению М. П. Погодина, «тишина кладбищенская») упразднили преподавание философии, а преподавание оставленных в учебных планах университетов логики и психологии возложили на профессоров богословия.
Пожалуй, только Академию наук Николай Павлович оставил в покое. И это понятно – она, как чисто научное учреждение, не представляла в его глазах никакой политической и идеологической угрозы[82].
Среди разнообразных мер по обеспечению порядка и стабильности в империи вообще и в ее университетах в частности была мера, которая представляет особый интерес в контексте настоящего очерка. 30 апреля 1849 года (т. е. спустя восемь дней после ареста петрашевцев, в кружке которых было немало учащихся и преподавателей университета или лицеев) статс-секретарь А. С. Танеев сообщил министру народного просвещения С. С. Уварову, что государь император высочайше соизволил, чтобы штат студентов в университетах «ограничен был числом 300 в каждом, с воспрещением приема студентов доколе наличное число не войдет в сей узаконенный размер» [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., стб. 1066, № 480]. Кроме того, Николай Павлович потребовал, чтобы в университеты принимали «одних самых отличных по нравственному образованию» [там же]. Заметим – о способностях ни слова, ибо, как государь однажды изволил выразиться: «Мне не нужно ученых голов, мне нужны верноподданные»[83]. Последнее условие означало, что те выпускники гимназий, у кого, как у Д. Менделеева, в аттестате стояла четверка по поведению (т. е. «поведения был хорошего») и ниже, могли на предмет поступления в университет не беспокоиться.
Из воспоминаний П. Д. Боборыкина:
Когда я выправлял из правления (Казанского университета. – И. Д.) свидетельство для перехода в Дерпт, ректором был ориенталист Ковалевский, поляк, очень порядочный человек. Но инспектор, все то же животное в ермолке, аттестовал меня только четверкой в поведении, и совершенно несправедливо. А четверка считалась плохим баллом в поведении [Боборыкин, 1965, т. 1, с. 116].
Как справедливо заметила Ц. Х. Виттекер, «власти ошибочно полагали, что студенты из этих [низших] слоев, скорее всего, и есть главные виновники беспорядков; им еще только предстояло осознать, каков революционный потенциал мучимого совестью дворянина и сколь консервативен стремящийся наверх студент из низов, который рвется только „попасть в обойму“» [Виттекер, 1999, с.265]. К тому же хотя среди тех, кто ступил на революционную стезю, более всего было лиц с университетским образованием, однако большинство выпускников высших учебных заведений России верно служили престолу [там же, c. 177].
Что же касается требования императора уменьшить число обучавшихся в университетах, то С. С. Уваров такого не ожидал. Ведь рескрипт государя требовал сократить число студентов в университетах в четыре раза, с 4467 до 1180 человек! Тогда он обратился к императору с просьбой исключить 674 казенных стипендиата из числа сокращаемых. «Он напомнил царю, что эти студенты отличаются безупречным поведением и хотят стать учителями, так остро необходимыми России, либо являются уроженцами польских, кавказских и сибирских губерний, которым пойдет на пользу русификация в университетах. Кроме того, Уваров просил полностью освободить от сокращения медицинские факультеты из-за отчаянной нехватки врачей. Он ловко сыграл на главной тогдашней заботе Николая – его армии – и предупредил, что, если хотя бы один год студенты-медики не будут набраны, это существенно сократит число докторов, на которых рассчитывает военное ведомство» [Виттекер, 1999, с. 266].
11 мая Николай Павлович соизволил разъяснить: «об казенных и речи нет» [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 482, стб. 1068]. Таким образом, ограничение касалось в первую очередь своекоштных, т. е. находившихся на собственном материальном обеспечении, студентов на всех факультетах, кроме медицинского[84]. Число же своекоштных студентов в университетах Российской империи (кроме Казанского, где оно было несколько меньше половины общего числа обучавшихся) заметно превышало контрольную цифру императора, в связи с чем С. С. Уваров в докладе, датированном 11 мая 1849 года, объявил, что «к предстоящему в августе месяце открытию новых курсов начальства университетские должны заблаговременно объявить по всей империи, что приема студентов в нынешнем году не будет» [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 482, стб. 1069].
О численности студентов в университетах Российской империи в 1848–1850 годах дает представление следующая таблица.
Составлено по: [Высшее образование, 1995, с. 84][85].
Как видно из этой таблицы, хуже всего пришлось Петербургскому университету, где не было медицинского факультета. В других университетах можно было схитрить, поступив учиться на врача, а затем перевестись на другой факультет. Но в декабре 1849 года такой переход Николай I запретил [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 507, стб. 1125]. По данным Ф. А. Петрова, которые он, однако, не подтвердил никакой ссылкой на источники, в Петербургский университет, вопреки запрету, было принято 12 человек (некоторые – по протекции) [Петров, 2003, с.230]. Что касается Казанского университета, то благодаря тому, что там было много казеннокоштных студентов, сокращение общего студенческого контингента оказалось небольшим.
Казеннокоштных («штатных») студентов (к коим относили также пансионеров и стипендиатов «разных заведений и частных особ, ревнителей просвещения») [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 482, стб. 1069] в университетах было немного, они, как говорилось в постановлении, «образуются по распоряжениям правительства для особых назначений (т. е. это были, так сказать, „целевики“. – И. Д.), именно: для занятия звания учителей и профессоров в заведениях Министерства народного просвещения и других ведомств… уроженцы Царства Польского, Закавказских и Сибирских губерний присылаются… чтобы приготовиться для службы в тех краях, куда они и обязаны возвратиться» [там же, № 482, стб. 1068–1069].
С. С. Уваров опасался, что для выполнения требования Николая I о сокращении числа своекоштных студентов прием в Петербургский и Московский университеты придется прекратить лет на пять-шесть. Министр хотел было сыграть на милой сердцу императора мысли об ограничении в университетах числа разночинцев, поскольку именно последние при таком сокращении количества студентов заполнят университетские аудитории в качестве казеннокоштных, тогда как «дворяне, не имея позволения образовать детей своих в университетах, опять обратятся к домашнему или пансионскому иностранному воспитанию»[86]. Однако Николай I парировал это заявление министра тем, что дворянским отпрыскам следует готовиться поступать в военно-учебные заведения, а не в университеты. В итоге тем, кто хотел получить высшее университетское образование, приходилось искать обходные пути[87].
Кроме того, постановлением по Министерству народного просвещения, утвержденным императором 31 декабря 1848 года, повышалась плата за обучение: в столичных университетах – с 40 до 50 руб. в год, а в Харьковском, Казанском и Университете Св. Владимира – с 20 до 40 руб. [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 475, стб. 842–844].
По поводу новых образовательных инициатив государя Т. Н. Грановский писал А. И. Герцену в июне 1849 года: «Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением»[88].
«Все это, – писал позднее с возмущением Герцен, – принадлежит к ряду безумных мер, которые исчезнут с последним дыханием этого тормоза, попавшего на русское колесо» [Герцен, 1954–1965, т. 8, с.107][89].
Решение императора вызвало недоумение даже среди его сторонников. Барон М. А. Корф, директор Императорской публичной библиотеки, заготовил записку, в надежде передать ее государю через наследника, в которой писал, что «большим, однако, несчастием будет, если уменьшится число знающих и образованных чиновников, в котором и теперь нет избытка. ‹…› И триста молодых людей в университете, если нет за ними должного надзора умственного, нравственного и административного, могут быть гораздо вреднее тысячи». Однако, поразмыслив и приняв во внимание, что «государь не отходит так скоро от принятых мер, особенно когда они пошли от него непосредственно»[90], решил оставить написанное при себе. И правильно, не стоит перенапрягать высочайшие мозги и без того умного императора явно негабаритным для них грузом.
Ситуация начала меняться только при смене высшей власти. Поначалу Александр II не проявлял никакой склонности к преобразованиям в сфере народного просвещения, что было отмечено некоторыми современниками.
Из дневника А. В. Никитенко (19 июня 1855 года):
Наши дела идут менее успешно с нынешним государем, чем шли последнее время при покойном. Министр наш имел более значения при Николае, которому нравился тон откровенности и прямодушия, принятый Авраамом Сергеевичем [Норовым]. Покойный государь решал сам и скоро, и мы могли представлять ему о многом, не опасаясь отказа, особенно при известном искусстве редакции. Ныне не то [Никитенко, 2005, т. 1, с. 621].
У нового императора, «удрученного войною», забот хватало. Но после окончания Крымской войны (мирный договор был подписан в Париже 18 марта 1856 года) и окончания коронационных торжеств (сентябрь 1856-го)[91] в образовательной политике наметились заметные изменения.
Впрочем, еще 23 ноября 1855 года, спустя девять месяцев после кончины Николая Павловича, министр народного просвещения Авраам Сергеевич Норов представил новому императору всеподданнейшую докладную записку, в которой упоминал, что еще в декабре 1854 года испрашивал у императора Николая I дозволения начать неограниченный прием студентов хотя бы в два столичных университета и его величество тогда разрешил принять по 50 человек в каждый. И вот теперь, «принимая в соображение общее стремление нашего юношества к высшему образованию», министр обращается к императору Александру II с просьбой дозволить принимать неограниченное число студентов «во все университеты». На записку министра последовала резолюция: «Высочайше соизволил» [ПСЗ-II, т. 30, отд. 1, № 29849].
Короче говоря, началась новая эпоха. «После Севастопольской войны, неожиданно разрушившей призраки, в которые веровало русское общество, – писал профессор Санкт-Петербургского университета В. В. Григорьев, – наступил для него период новых заблуждений, еще более обманчивых… Одно из этих заблуждений заключалось в том, что родившийся позже тем самым умнее родившегося ранее, что знания можно и должно достигать без усилий, и что для приложения его к жизни не требуется умственной зрелости, обусловленной опытом, а достаточно одной доброй воли». В результате «в гимназиях приобретение положительных сведений стало, чем далее, тем более, заменяться „развитием“, а в университетах студенты вместо того, чтобы работать по указаниям профессоров, принялись рассуждать о преобразованиях и устройствах» [Григорьев, 1870, с. 307–308].
71
Здесь и далее перевод с иностранных языков мой, кроме оговоренных случаев.
72
Цит. по: [Шевченко, 2003, с. 122].
73
Цит. по: [Олейников, 2012, с. 287].
74
Цит. по: [Там же, с. 289].
75
Цит. по: [Там же, с. 288].
76
Подробнее о причинах отставки С. С. Уварова см.: [Виттекер, 1999, с. 258–271].
77
Что говорить, когда
Моя защита – обвиненье вам?
Злодеи – вы, но вы и прокуроры,
И судьи вы, и палачи. Власть ваша,
И действуйте (англ.). —
Байрон. «Марино Фальеро, дож Венецианский» (акт 5, сцена 1; пер. Г. Шенгели) [Виттекер, 1999, с. 269, примеч.].
78
Поэтому С. С. Уваров защищал привилегии выпускников высших учебных заведений при принятии на службу и прохождении ее.
79
Цит. по: [Шевченко, 2003, с. 253].
80
Цит. по: [Высшее образование, 1995, с. 84].
81
Этой теме была посвящена статья Т. Н. Грановского «Ослабление классического преподавания в гимназиях и неизбежные последствия этой перемены», написанная в 1855 году, но изданная после смерти автора в 1860 году [Грановский, 1892, с. 417–429].
82
Подробнее см.: [Хартанович, 1998; 1999].
83
Цит. по: [Шевченко, 2003, с. 96].
84
А также богословского факультета в Дерпте. Впрочем, число своекоштных студентов на медицинских факультетах было незначительным.
85
В целом приведенные в этой публикации сведения согласуются с официальной статистикой 1840-х годов. Однако в этом издании ссылки на первоисточники либо вовсе отсутствуют, либо приведены в неудовлетворительном виде.
86
Цит. по: [Петров, 2003, с. 228–229, 369].
87
Примером может служить начало биографии Николая Саввича Тихонравова (1832–1893), филолога, историка русской литературы, археографа, в 1877–1883 годах ректора Московского университета, академика (с 1890 года). Он был родом из мещан. Окончив в 1849 году с серебряной медалью Третью Московскую гимназию, он не мог, по указанным выше причинам, поступить в Московский университет, а потому отправился в Петербург, где стал студентом Главного педагогического института. На следующий год в журнале «Москвитянин» была опубликована его первая научная работа. Академик М. Н. Погодин, издатель журнала и почетный член Московского университета, посодействовал переводу Н. С. Тихонравова на историко-филологический факультет этого университета казеннокоштным студентом.
88
Цит. по: [Петров, 2003, с. 230].
89
Подробнее о российских университетах в 1830-х – первой половине 1840-х годов см.: [Аврус, 2001].
90
Цит. по: [Шевченко, 2003, с. 134–135].
91
Любопытно, что одним из завершающих коронационных мероприятий стал торжественный обед, данный новым императором 3 сентября 1856 года в Москве для, как сейчас говорят, деятелей науки и культуры. «Никогда в прошлом, – замечает биограф Александра II, – русские цари не дарили подобным вниманием представителей русской интеллигенции» [Николаев, 1986, с. 269]. Да что цари, назначенный в 1830 году попечителем Московского учебного округа князь С. М. Голицын даже не подумал пригласить к себе на бал кого-либо из университетских. Как ядовито заметил по этому поводу П. А. Вяземский, «Голицын как шталмейстер, который конюшней заведует, но лошадей к себе не пускает» [Вяземский, 2003, 618].