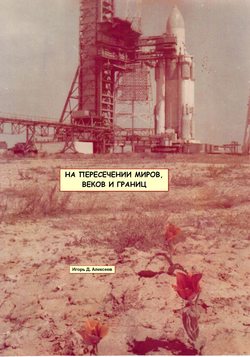Читать книгу На пересечении миров, веков и границ - Игорь Дмитриевич Алексеев - Страница 5
Дома
ОглавлениеЗнакомство с Родиной началось в Ленинградской таможне. В течение долгих часов таможенники вскрывали наши чемоданы и ящики. Папа и мама давали пояснения по каждой вещи, а я с братом Мишей на коленях сидели на единственном найденном свободном стуле и смотрели на всё, что происходит.
Когда, казалось бы, всё благополучно закончено, таможенники вскрыли ящик с любовно собираемой отцом коллекцией пластинок. И тут началось невообразимое:
… таможенники вытаскивали их по одной.
– Вертинский, … хрясть об стену!
– Русские народные песни в исполнении ненашенских ансамблей, … туда же! – Это кто? Неизвестный! … туда же!
Глядя на помертвевшее лицо отца и под звуки таможенной музыки заорал Мишка. Мама бросилась его успокаивать, а таможенники продолжали демонстрировать нам патриотизм, уничтожая одну пластинку за другой.
Из нескольких сотен пластинок, аккуратно переложенных отцом папиросной бумагой, нам на развод оставили лишь около десятка пластинок Шаляпина и ансамбля Александрова.
Папа остался в порту оформлять доставку багажа в Москву, а мы с мамой поехали размещаться в забронированную для нас гостиницу Астория. Когда папа присоединился к нам, удрученный и усталый, и увидел, что мы тоже никакие, приказал:
– Умыться, празднично одеться, пойдем в ресторан праздновать!
Через какое-то время мы спустились в ресторан. До этого я никогда не был в ресторанах и был поражен нарядной обстановкой: оркестр, хрустальная посуда, накрахмаленные скатерти, бегающие официанты, нарядная публика – все наши праздники в Торгпредстве проходили проще: как большие пикники. Кто и что заказывал, я не помню. Но помню, что мне заказали рубленый шницель с жареной картошкой – блюдо, которое я полюбил всерьез и надолго. Но и это наше празднование быстро закончилось: Мишка, любитель лимонада, не отпускавший ото рта хрустальный бокал, откусил кусок этого бокала!
Что тут началось: Миша, испугавшись, плачет; мама кричит, вытаскивая у Миши изо рта кусочки хрусталя; официант и вмиг прибежавший метрдотель орут, требуя у отца немедленной оплаты стоимости уничтоженной посуды и заявляя, что, оказывается, несовершеннолетние дети в рестораны в вечернее время не допускаются, и, настаивая, что бы мы немедленно покинули заведение. Как и чем все это закончилось, совершенно не помню. Сытый впечатлениями дня приезда я даже не помню, как мы добрались до Москвы, где мы должны были жить.
Комната, в которой родители жили до нашего отъезда в Англию, была возвращена детскому саду, эвакуированному во время войны, и, как не имевшим своего жилья, нам предстояло временно жить в гостинице Красной Армии, где, помимо небольшого числа командировочного люда, проживало огромное количество безземельных семей, связавших свою жизнь с армией. Это временное проживание растянулось почти на четыре долгих года, в течение которых мы почти не видели отца, а наши жилищные условия улучшались очень условно: поселив нас вчетвером в 10-метровую комнату, через какое-то время нас переместили в 11-метровую, потом в 14-метровую с раковиной. И только в начале 1953 года, когда папе, в его 35 лет, присвоили звание полковника, нас наградили 16-метровой комнатой, в которой, был даже … свой туалет!
После поселения в гостинице в один из первых выходных к нам на прописку собрались московские друзья и сослуживцы отца. Убрав стол, расселись с двух сторон по кроватям с тарелками на коленях. Пили чай (и не только) не только из стаканов, которых в номере было только 4, но и из различных банок – дяде Вене Бритареву, который был самый большой (рост под 190 и 60-ый размер плеч) досталась трехлитровая банка. Слава богу, на этаже был титан, и поэтому ограничения на кипяток не было. Выпив свою банку, на предложение повторить дядя Веня ответил: По многу не пью, только одну чашку. С тех пор эта фраза стала у нас семейным приколом.
К сложностям проживания в гостинице прибавлялось и то, что в гостинице запрещалось готовить. Поэтому мама готовила только поздно вечером, ночью или рано утром, после готовки скрывая следы преступления – убирая в коробку или чемодан керогаз или электроплитку, а готовые блюда – в шкаф. Холодильников, само собой разумеется, в гостинице не было. Душ и туалет находились в конце коридора. Чтобы попасть в душ, надо было записываться заранее и брать ключ у дежурной по этажу. Поэтому мы еженедельно ходили в баню, расположенную в подвале гостиницы с противоположной от входа стороны.
Мои родители, с учетом того, что я практически свободно говорил по-английски, хотели определить меня в английскую спецшколу, но…, поскольку я заикался, эта затея не удалась. Разозлившись на судьбу, я категорически отказался разговаривать по-английски даже с родителями, которые долгое время пытались поддерживать у меня навыки общения на этом языке. В итоге, к пятому классу, когда язык начали изучать в школе, все мои знания испарились. О чем я же и сожалел.
В итоге пришлось идти в обычную городскую школу № 607, расположенную в Трифоновском пер. в районе Марьиной рощи.
После решения всех практических вопросов, связанных с приездом, папиным трудоустройством, оформлением меня в школу и т.д., мы поехали в Днепропетровск, где жили мамины родители и сестры, а также все папины родственники, за исключением обеих сестер и мамы, проживающих в Душанбе. Пробыв некоторое время в Днепропетровске, куда также приехала и папина мама, родители поехали в санаторий, оставив нас с Мишей на руки многочисленной родне.
Как только они уехали, бабушка Феня совместно с папиной тёткой – тетей Елей решили тут же исправить ошибку наших родителей в воспитании – окрестить нас с Мишей.
Эта процедура, первой в моей жизни, вызвала некоторую нелюбовь к православным священникам: окрестив меня, приступили к крещению Миши, которому было 2 года. Вручив ему свечку, батюшка продолжил какие-то процедуры, а Мишка, которому было всё интересно и который всё время крутил головой, ненароком поднес свечу к своим длинным златокудрым волосам … и, о ужас…, волосы вспыхнули! Бабки закудахтали! Священник замер! А я начал черпать воду из купели и тушить Мишкины кудри. – Отрок, стой! – заорал поп. Но, куда там! Я думал, что скажут родители, и продолжал тушить, пока все не кончилось. И тогда я получил затрещину – Богохульник! (До этого меня никто рукой не бил.) В итоге разозленный и, думаю, перепуганный священник вручил бабушке наши крестики, которые мы никогда позже и не видели, и прогнал нас. А бабушка просила нас ничего не говорить родителям.
В первом классе я практически не учился: в сентябре болел дизентерией (заболел, будучи в Днепропетровске), затем ветрянка, краснуха, свинка, несколько раз переболел ангиной. В декабре лежал в больнице со скарлатиной с последующим осложнением, и, напоследок, в марте 52-го года меня на долгих три месяца, с осложнениями на сердце, уложили в педиатрический институт АН СССР на Солянке с диагнозом ревмокардит, где я перенес три сердечные атаки, и меня чудом оставили в жизни.
Хотя не всем в этой больнице так повезло: в нашей палате, где лежало более 20 мальчишек в возрасте от нескольких месяцев до 14-16 лет, смерти происходили достаточно часто и несколько буднично. В больнице я очень много читал, мучая персонал просьбами об обмене книг. В палате иногда, не помню, чтобы это происходило часто, приглашенные учителя занимались с нами по отдельным предметам, иногда старшие ребята или больничные сестры читали вслух. У одного из старших мальчишек, помню его фамилию – Азарков (может быть – Озорков), была гитара. Репертуар у него был несколько странный, так что, когда родители забрали меня из больницы, первое, что я им спел: Гоп со смыком – это буду я!…. Папа от смеха чуть не задохнулся.
Тем не менее, меня условно, без аттестации по нескольким предметам, перевели во второй класс. Прекрасно помню свою первую учительницу – Фаину Михайловну, только что окончившую педагогическое училище, красивую с большими черными глазами, вечно преследуемую старшеклассниками, которые вряд ли были младше её самой, но влюблённую в нас – свой самый первый класс и готовую возиться с нами сколько угодно.
Моим соседом по парте был Мельников (имени уже точно не помню, кажется, Володя), у которого отец был художником. Жили они в полуподвальном помещении какого-то полуразвалившегося дома около парка им. Дзержинского. Как-то, побывав у него дома, чтобы вместе подготовиться к урокам, я долго не мог отойти от полученных впечатлений. Каморка, наполненная запахом масляной краски и каких-то растворителей, внизу на стене портрет Сталина, разбитый на квадраты, рядом незаконченный портрет того же Сталина на мольберте, свернутые холсты в рулонах по углам. Только мы пришли, к Мельникову-отцу пришел посетитель: оказалось, представитель ГосЛИТа пришел сертифицировать готовые портреты (оказалось, что у Мельникова была лицензия или разрешение на копирование портретов Вождя). Этот мужчина с лупой прочёсывал готовые портреты, сравнивая их с расчленённым оригиналом, и ставя какие-то отметки, без которых портреты нельзя было вывешивать в присутственных местах и сдавать в магазины. После его ухода мой одноклассник тут же постарался проводить меня – его отец начал готовиться отмечать приемку продукции без брака.
Летом 1952 года мы поехали отдыхать в военные лагеря под Тулой, где служил начальником политотдела десантной дивизии дядя Боря Сапожников, муж маминой сестры Бебы. Там мне запомнились несколько интересных моментов.
Дядя Боря был очень маленький (рост где-то около 160 см.). Соответственно, и вес у него был небольшой – не хватало, чтобы прыгать с парашютом. Поэтому он хранил дома свинцовые грузы, которые при прыжках навешивал на пояс. Там, в лагерях, мне удалось поймать огромную щуку, которая погналась за утятами и выскочила на берег. Не растерявшись, я забил ее камнем. Когда мы с гордостью тащили ее домой, она оказалась выше меня.
Помню я и похороны Сталина. Папа ушел с раннего утра, одевшись в полную полковничью форму (Наверное, единственный раз, когда я его видел в форме дома). Поскольку занятия в школах были отменены, мама решила пойти в Дом Союзов вместе с Мишей, ему ещё не было четырех лет, и со мной. Поехали от площади Коммуны (сейчас Суворовская пл.), где была гостиница, трамваем. Не доезжая Садового кольца, нас высадили. Дальше пошли пешком. Народу все прибывало. С горем пополам мы дошли до Трубной площади, но дальше проход был закрыт армейскими грузовиками, стоявшими поперек Покровского и Рождественского бульваров и улицы Неглинки. Мама хотела уже идти домой, но это оказалось невозможным: количество людей увеличивалось, двигаться было невозможно. Нас прижало к круглой рекламной тумбе в самом начале Покровского бульвара. Спасибо, какой-то молодой офицер из толпы увидел нас всех троих плачущих, мобилизовал еще несколько мужчин и забросил меня на верхушку тумбы, а Мишку посадил себе на плечи. Эти мужчины образовали защитную зону, упершись руками в тумбу и запустив маму в эту зону. Они спасли нам жизнь.
Вокруг творилось что-то невообразимое: волнообразное движение спрессованной толпы, крики и стоны людей, треск машин из оцепления. Так мы простояли несколько часов, пока солдаты, стоявшие в оцеплении на грузовиках и за грузовиками, по чьей-то инициативе, стали вытаскивать из спрессованной массы детей. Что было дальше, не помню. Домой мы, замученные, голодные и замерзшие, вернулись только ночью и сразу заснули.
Папа вернулся ещё позже. В итоге, он прорвался в Колонный зал, но пришел домой в порванной шинели, без пуговиц, с разломанным козырьком форменной фуражки и без одной калоши.
На следующий день в школе и везде вокруг только и было разговорах о сотнях, а может быть, и тысячах погибших. Самое гиблое место оказалось в районе Трубной площади. Там погибли дети нашей завучи и еще одной учительницы, а также отец одного из наших одноклассников. Мама еще много лет корила себя за столь опрометчивое решение проститься с Вождем вместе с детьми, а я до сих пор благодарен неизвестным людям, спасшим нас в столь критической ситуации.
В сентябре 1954 года, после слияния мужских и женских школ, меня перевели в другую, которая была значительно ближе к нам – в Октябрьском переулке. Кажется, ее № был 54. В этой школе я проучился всего до апреля и ничем особенным она мне не запомнилась. Единственное – это был одноклассник по фамилии Филатов. Он запомнился тем, что у него были совершенно фиолетовые губы. Когда мы увидели его первый раз, кто-то из ребят спросил его, зачем он намазал губы чернилами. На что он очень обиделся, а учительница позже разъяснила нам, что у него больное сердце. Через несколько месяцев он умер: у него был врожденный порок сердца.
Пока мы жили в гостинице, у меня были постоянные обязанности, которые доставляли мне удовольствие: снабжать семью хлебом и молоком. Хлеб я покупал на обратном пути из школы в булочной, которая находилась на углу Октябрьской улицы сзади театра Красной Армии. В этой булочной, почему-то, верхние полки были заполнены пирамидами из крабовых консервов Чатка. Продавщицы там меня знали и продавали мои полбуханки, нарезав к ним до нужного веса хорошие довески душистого теплого хлеба, которые я съедал по пути до гостиницы. За молоком приходилось ходить с бидоном на Центральный колхозный рынок, находившийся рядом с цирком. Дорога туда и обратно пешком по бульварам через оживленную Самотечную улицу занимала почти час. Молоко я всегда покупал у одних и тех же теток, которые меня тоже знали и которые меня угощали то ложечкой сметаны, то ложечкой свежайшего творога.
Досуг мы с гостиничной детворой проводили в находившемся рядом парке Центрального Дома Красной Армии (теперь – Екатерининские сады), где зимой на катке тренировалась команда ЦДКА во главе с любимым нами всеми Бобровым. Что он – великий спортсмен, мы вряд ли понимали. Но он, а потом и несколько других хоккеистов, делая вид, что клюшка треснула, выбрасывали её за бортик в нашу сторону. Так что у большинства из нас были настоящие клееные клюшки. Как же нам было его не любить!
Помню полуразвалившиеся то ли дома, то ли бараки в Самарском переулке напротив стадиона Буревестник. До самого переезда из гостиницы я иногда ходил и смотрел на один из них, стены у которого не было, а роль стены исполнял натянутый брезент с проступавшими через щели какими-то старыми одеялами. Как там могли жить люди!? После этого дома наши гостиничные условия казались раем.
Летом мы частенько гостили у наших друзей Тарасовых и Седовых в посёлке МВТ во Внуково. Поселок был построен из сборных домов, которые Гитлер направил для проживания высшего офицерского состава после захвата Москвы. Дома очень пригодились, но печные заслонки в них оставались исполненными в виде свастики и тогда, когда в этих домах селили отдельных сотрудников МВТ.
Однажды, когда мы гостевали во Внуково, папа сообщил, что прилетает муж его сестры, дядя Володя Анисимов, который был пилотом самолета ИЛ-14, летающего по маршруту Душанбе-Москва. Дядя Володя, боевой летчик, после войны остался в Душанбе, куда была эвакуирована его жена – тетя Аня, с мамой, с сыном – Виталиком, и своей сестрой – Лидочкой. Мы решили пройти пешком до аэропорта. Когда самолет приземлился, мы с мамой и Мишей, которому тогда было 4 года, побежали к самолету (тогда это разрешалось). Дядя Володя, увидев нас, вытащил из самолета гигантский арбуз и покатил его в нашу сторону. Миша попытался его остановить, и был сбит с ног этой огромной ягодой. Расплакавшегося брата решили успокоить, показав ему внутренности самолета.
Наибольшее впечатление на него произвел туалет: как же так, через дырку всё падает вниз на землю?
Дядя Володя на полном серьёзе посоветовал ему никогда не смотреть на пролетающие вверху самолеты с открытым ртом: мало ли что может оттуда падать.Обратно в посёлок пришлось брать такси, т.к., помимо арбуза, дядя Володя вез и виноград, и … витамин Ш (спирт, предназначенный для антиобледенительной системы и сэкономленный в ходе полета).
1953г. – Корсунские (тетя Киля – мамина сестра, её муж – дядя Сёма, сын – Рома), Ирочка Сапожникова, мама с Мишей и со мной