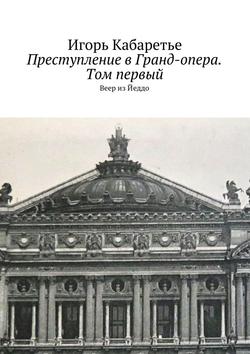Читать книгу Преступление в Гранд-опера. Том первый. Веер из Йеддо - Игорь Кабаретье - Страница 3
ГЛАВА I
ОглавлениеИстория давно минувших дней.
Будуар Джулии д’Орсо, которой принадлежала бесспорная, но сомнительная честь блистать на вершине пирамиды парижских дам полусвета, был обтянут шёлком цвета «лютика едкого», отчего в полумраке казался коричневым. Прозрачный огонь мерцал в старинном камине, рядом стояли подставки для дров времён Людовика XVI, подлинные подставки, сохранившие память об их прежних владельцах из Версаля, ставивших на них свои изящные ножки. Мягкий свет лампы из японского фарфора освещал это уютное убежище, табу для посторонних. Туда не проникали никакие посторонние шумы, разве что, кроме приглушенного далёкого цоканья копыт и шума колёс экипажей, которые спускались по бульвару Малешербе, да шёпота закипающей воды, поющей свою песню в самоваре красной самородной меди.
Между тем, Джулия, с небрежным видом прилёгшая на кушетку, была не одна. Рядом, полностью погруженный всем телом в просторное кресло, сидел молодой человек, покручивая кончиками пальцев свои светлые усы, и меланхолично поглядывал на терракотовую скульптуру в стиле рококо, изображающую Вакханок с лютней, примостившихся у ног Фавна.
Мысли элегантного кавалера, между тем, были далеки от этой замечательной вещицы работы Клодиона1, этого Фрагонара в скульптуре, но не более, чем у дамы, перед которой на стене сияла великолепная картина Мариано Фортуни2 за которую она недавно заплатила безумные деньги.
И если они молчали, то это отнюдь не означало, что им нечего было сказать, и они украдкой наблюдали друг за другом, как два равных противника, желающих убедиться, что конфликт исчерпан, прежде чем вложить шпаги в ножны.
Опытный повеса счёл бы, на первый взгляд, что между этой влюблённой парочкой случилась серьёзная размолвка. Драматический автор уловил бы напряжение иной ситуации.
Джулия решила атаковать первой.
– Гастон, – вяло сказала она, притворяясь, что её душит зевота, – мне кажется, что вы необычайно мрачны сегодняшним вечером.
– Возможно. Уже несколько дней меня преследуют дурные мысли, – ответил Гастон Дарки.
– Откуда такой пыл, как у юной девицы!
– Я на самом деле нервничаю из-за этого.
– Да, вы имеете право на это, но когда вы раздражены, было бы милосердно с вашей стороны не вынуждать вашу подругу сердца находиться наедине с вами.
– О, моя дорогая, к чему такие упрёки! В этом случае вам следовало бы запереться!
– Вот именно, мой дорогой, и я уже начинаю сожалеть, что не сделала этого. Вам прекрасно известно, что по понедельникам у меня день Оперы, и, вместо того, чтобы поговорить о последних премьерах, вы заставляете меня слушать рассказ о вашем неловком камердинере, после чего нелепо заявляете, что вы решили посвятить мне этот ваш вечер. И после всего этого я, не ропща, повинуюсь моему властелину, и даже, по его желанию посылаю очень любезное приглашение посетить мою ложу Клодин Рисслэ, а ведь я опасаюсь плохой компании, ведь моя репутация может пострадать. Моя самоотверженность доходит даже до того, что я лично приготовила вот этими белыми ручками этот зелёный чай из Китая, который вы так любите. Ещё недавно такое было невозможно себе представить, но сегодня утром я заставила сделать мне причёску в соответствии с вашим вкусом, хотя эти локоны на моей голове меня уродуют, превращают в какую-то оперную актрисочку, и я ожидаю моего Гастона, мечтая о голубых бабочках в глазах, но… Хлоп! Прибывает Гастон с похоронным видом… Посмотрим же, мой дорогой, почему, собственно говоря, такое происходит? Если бы вы играли на бирже, я могла бы предположить, что мой Гастон только что, между полуднем и тремя часами, потерял там всё своё состояние, но я прекрасно знаю, что вы не играете на бирже днём, а только ночью в карты в вашем клубе, так что проиграться в пух и прах к этому часу у вас ещё не было возможности.
Эта речь, начатая довольно кислым тоном, заканчивалась, как ни странно, почти сердечно, и Гастон не мог понять происходящей перемены, хотя улыбка, появившаяся на губах Джулии, пока она произносила эти слова, была явно не высшей пробы, и можно было поклясться, что молодой возлюбленный хозяйки дома явно сожалел о том, что упустил повод для ссоры.
– Вы правы, – попытался он вернуть инициативу в свои руки, – я невыносим и заслужил, чтобы вы меня выставили за дверь. Но правда и в другом! Не моя вина, если жизнь, которую я веду последнее время, причиняет мне сплошные неприятности.
– Хорошо, пусть будет так! Хотя сейчас вы уже начинаете говорить мне дерзости.
– Ничуть. Я лишь робко пытаюсь рассуждать о моей жизни бездельника, о своём бессмысленном существовании, которое требует огромных расходов… этот мой престижный клуб, членом которого я состою, все эти бесчисленные театральные премьеры, арендованные ложи, бега.
– И ещё эта Джулия д’Орсо, не так ли?
– Да, бытие, которую мой друг Нуантэль называет жизнью гардении, – сказал Гастон, сделав вид, что он не заметил камень, который дама только что бросила в его сад.
– По поводу гардении… вы же знаете, что это мой любимый цветок, и, как я понимаю, это тот самый ваш друг Нуантэль, который рекомендовал вам не посылать мне букет цветов сегодня вечером?
– Нуантэль не даёт мне советы, и, если бы и делал это, я бы им не следовал.
– Почему? Этот красивый капитан, на мой взгляд, самый настоящий мудрец, счастливо живущий в Париже со своим маленьким для столицы состоянием. А вы, обладатель сорока тысячефранковой ренты и наследник ещё ста тысяч, которые получите после смерти своего дяди, почему вы за модель жизни не возьмёте образ существования вашего друга? Он не играет в карты и никогда не имел серьёзной возлюбленной. Попробуйте имитировать его жизнь, мой дорогой, с таким же энтузиазмом, с каким вы завидуете его счастью.
Джулия говорила теперь сухим тоном, и слова слетали с её губ, как стрелы. Она пыталась, очевидно, пронзить своего любовника обидными словами, чтобы он сорвался и снял с себя маску, прекратил свою игру, и это ей удалось.
– Моя дорогая, – ответил Гастон, – вообще-то я и не помышлял о том, чтобы копировать кого-нибудь, но мне двадцать девять лет, и…
Молния мелькнула в больших глазах Джулии, но выражение её лица не изменилось, и с совершенным спокойствием она произнесла:
– И вы подумаете о том, что вам настало время жениться, и вы, наконец-то, решились на это?
– Я…?! Никогда!
Гастон ответил с такой искренней убеждённостью, что Джулия тотчас же изменила свою тактику.
– А почему вы не хотите жениться? – тихо спросила она. – Вы богаты, у вас прекрасное происхождение, ваш отец занимал высокое положение в магистратуре, ваш дядя – судья в Париже, и ваша семья имеет такие обширные и крепкие связи с крупной буржуазией, которые стоят дворянского титула, так что вы легко найдёте наследницу с хорошим состоянием.
– Я вам повторяю, что об этом не может быть и речи.
– Это странно, – продолжила Джулия, – одна известная пословица утверждает, что несчастье никогда не приходит в одиночку. Представляете, что мой будущий брак также в опасности?
– Ой-ли! – Гастон довольно недоверчиво хмыкнул.
– Хотя я и чувствую, что ваше удивление – не просто дань вежливости, оно меня не трогает и не ранит, поскольку я понимаю, что для меня ещё не настало то время, когда мне необходимо встать на тот путь, который ведёт к мэрии и церкви. Я могла бы легко пройти эту дорогу, так как тоже получила хорошее воспитание и образование. У меня есть диплом учительницы, мой дорогой, и я напоминаю вам об этом лишь только потому, если вы вдруг об этом забыли. Но я предпочла цветущие тропинки, в конце которых находится особняк и ценные бумаги, обеспечивающие жирную пожизненную ренту, и поэтому я не могу выйти замуж за такого человека, как вы, но ничто не помешает мне сделать это с иностранцем. Предубеждения француженки остаются на границе.
– Вы готовы уехать за границу! Покинуть Францию?
– Без сомнения. Корона графини стоит потери родины, экспатриации, так что в данный момент самое дорогое и желанное для меня – это стать графиней.
– В какой стране? – Спросил Гастон с некоторой долей иронии.
– В Польше… Знаете ли вы графа Голимина?
– Эта та самая личность, тот персонаж, кого в наших кругах зовут Блекбуле, а в Индии их относят к касте неприкасаемых, и ни один приличный человек в Париже не хочет иметь с ним дело. Да, конечно, мне он известен.
– Эта точка зрения мне знакома, но…
– И его репутация также?
– И эта репутация отвратительная, не правда ли?
– Именно вы об этом сказали.
– Вы знаете, что граф меня безумно любил три года тому назад…
– Вы могли бы не ворошить эти неприятные для меня воспоминания.
– И что я порвала с ним, хотя он по-королевски тратил на меня своё крупное состояние.
– И чьему происхождению никто не доверял.
– Весь высший свет Парижа… да и я сама. И именно потому, что оно было сомнительно, я и оставила Голимина. Но сейчас я могу утверждать, что судила о нём слишком строго, ведь золото, которое он пригоршнями швырял на парижские мостовые, было законно заработано Голиминым в Америке.
– Игрой в карты?
– Нет, в шахтах Калифорнии.
– Именно этой участи я ему желаю. Надеюсь, там он и закончит свою жизнь!
– И только я одна знаю, – продолжила Джулия, не обращая внимания на язвительные ремарки своего друга, – чего в действительности стоит этот славянин, к речам которого раньше, когда он был богат, весь Париж благосклонно прислушивался и искал его дружбы. Н самом деле граф-искатель приключений, а не мошенник. Голимин участвовал в достойных порицания делах, но на его счёту также есть и героические поступки. Я не знаю, какое определение можно дать этой странной натуре… Вы же читали романы Шербулье. Так вот! Граф Голимин – это одновременно и Ладислас Больски в его приключениях, и Самюэль Брохль и компания… в одном лице.
– Самюэль Брохль, главным образом.
– Да, как и Самюэля, его любила одна знатная дама… и не одна. Но, и он также, он тоже любил…. Он любит со страстью…
– Вас, без сомнения?
– Да, меня. И он относится к той категории людей, которые способны убить и меня и себя, если я откажусь выйти за него замуж. Он мне об этом написал.
– Вы мне этого не говорили, в противном случае, я предполагаю, я бы вам высказал моё мнение о том, что вы должны сделать.
– Нет, спасибо, я уже приняла решение.
– Какое?
– Я больше никогда не увижу Гжегоша.
– Так его зовут Гжегош…? Позвольте вам заметить, что это имя нормальный европеец просто не способен выговорить! Только этого не хватало? Если это так, то я вас поздравляю с этим решением, моя дорогая Джулия.
– Значит вы находите, что мало заслуги в том, чтобы отклонить предложение о замужестве от человека с недостатками, да к тому же и практически разорённого. Да, вы правы, я не люблю его больше.
– Получается, что вы его всё-таки любили?
– Почему бы не признать это? Голимин красив, смел, у него есть отвага, презрение к мнению дураков и опасности… качества, которые так нравятся женщинам, так что если бы он меня сделал графиней, я была бы ему обязана всем, ведь если задуматься, кто я, впрочем, в сущности? Отверженная… Я бы, если так можно сказать, не потрясла устои общества, выйдя замуж за такого же парию, как и я. Но я вам уже сказала, Гастон, что я его больше не люблю и скорее позволю себя убить, чем связать свою жизнь с Голиминым.
– Вы так трагичны в этой сцене, моя дорогая, – прошептал молодой человек, скорее раздосадованный этой сценой, чем рассерженный.
Было вполне очевидно, что оборот, который приняла беседа, ему не нравился. Гастон пришел к Джулии не для того, чтобы распинаться перед ней о своей любви, и посылал сейчас ко всем чертям этого поляка, которого госпожа д’Орсо бросала к его ногам, как будто она поставила перед собой задачу помешать закончиться их разговору. Дарки не крутил больше свои шёлковые усы, но подавал другие знаки, ещё менее двусмысленные, указывающие на его нетерпение и раздражение, и в то время, как он нервно ёрзал в своём кресле, дверь будуара приоткрылась и в полусвете проявился мертвенно-бледный абрис камеристки Джулии с заострённым носом и насмешливым ртом.
– Что случилось? – сухо спросила Джулия. – Я не звонила.
– Мадам не звонила, но у меня есть одно словечко, которое мне нужно передать вам, мадам, – претенциозно и слегка конфиденциально ответила субретка.
– Говори, к чему столько тайн? У меня нет секретов от месье Дарки.
– Прошу прощения, мадам, но пришёл один человек, который просит разрешения поговорить с вами, мадам.
– Кто?! Кто это? Я же запрещала тебе принимать гостей.
Горничная хранила осторожное молчание.
– Что означает это выражение лица? – спросила её мадам д’Орсо – Там что, граф?
Очевидно, что такого вопроса субретка не предусмотрела. Она была докой в своей профессии и не приучена объявлять перед царствующим королём о прибытии свергнутого с престола экс-правителя, так что, ни мало не смутившись, ответила настолько тихо и таким низким голосом, что Гастон её едва расслышал:
– Да, мадам, это – граф… Но мадам может полагать, что он возвратился, несмотря на все мои усилия… ливрейный лакей и кучер вышли, и я не смогла его остановить… я совсем одна… я не смогла ему помешать нарушить запрет и проследовать в салон.
– Ах! Так граф уже в салоне! – воскликнула мадам д’Орсо. – Очень хорошо. Сейчас я к нему выйду, а ты возвращайся в мою спальню и оставайся там, пока я тебе не позвоню.
Камеристка исчезла так же бесшумно, как и вошла, закрыв дверь с такими предосторожностями, что не оставалось никаких сомнений в её огромном опыте при разрешении таких сомнительных ситуаций.
Гастон, вставший с кресла при первых же словах этой короткой беседы, спросил:
– Это граф Голимин, не так ли?
– Мой Бог! Да! – ответила Джулия. – Он мне написал сегодня утром, что хотел бы меня увидеть прежде, чем покинет Францию! Граф уезжает завтра. Я ему отказала, но внутренне была готова к выходке такого рода. Уверяю вас, что это будет наша последняя встреча. Я хочу покончить с этим сегодня вечером.
– А я… я, пожалуй, пойду, – моментально сказал Гастон с готовностью, которую мадам д’Орсо, без сомнения, заметила, так как холодно ответила:
– Если вы ищете повод, чтобы оставить меня, не затруднило бы вас найти причину получше. Между мной и графом уже давно ничего нет, и я вас попрошу остаться здесь. Встреча будет коротка, я вам это обещаю, и когда я вернусь, мне бы хотелось объясниться с вами.
Сказав это, Джулия быстро вышла, не оставляя своему любовнику ни времени, ни возможности, чтобы вставить хоть одно слово.
Гастон, как казалось, испытал очевидную нехватку присутствия духа, но справедливости ради нужно признать, что раньше он его находил и в более острых ситуациях. Задерживать мадам д’Орсо вопреки её воле было смешно, да не в его правилах было принуждать женщину к чему бы то ни было. Что ему оставалось делать? Уйти? Но это было невозможно чисто физически, ведь из будуара Джулии был только один выход, и чтобы его покинуть, нужно было пересечь салон, где в это время находился граф. Проходить через зал на глазах у соперника и уступать ему место… или искать повод для ссоры с этим претендентом на руку Джулии ради того, чтобы выставить его за дверь… Гастону следовало выбрать между этими двумя вариантами, и он охотно избрал бы последний, если бы имел дело с человеком своего круга и положения, но перспектива дуэли с этим деклассированным славянином отнюдь не улыбалась Дарки, и это означало для Гастона, к несчастью, перспективу разрыва связи с Джулией, связи, которую он хотел развязать полюбовно, без скандала.
Так что, следует признать, Джулия не ошибалась в своих догадках. Гастон Дарки был настроен порвать отношения с ней. С присущей ей женской проницательностью она прочитала это намерение в его глазах, и, так как такой вариант – быть брошенной любовником, совершенно не входил в её планы, она принялась тотчас же разыгрывать новую партию, которую намеревалась выиграть. Неожиданный визит Голимина стал для неё настоящим подарком, словно удачный решающий удар в конце игры, и женщина-игрок надеялась, что этот удар ей удастся. Джулия знала, что нет ничего лучшего для воспламенения угасающей любви, чем вовремя вброшенный уголёк напоминания о соперничестве двух мужчин, так что она решила пожертвовать Польшей для подтверждения своего французского и парижского будущего.
Гастон, со своей стороны, говорил себе, что этот неприятный инцидент дал ему преимущество, прекрасный повод для прекращения отношений с Джулией. Сегодня он приехал к ней в некотором затруднении, колеблясь и не зная, как правильно поступить. Он уже год был вместе с Джулией д’Орсо, и это был год любви, почти страсти, год… то есть целый век в парижском мире наслаждений, в том мире, где страсть невозможно оценить цифрами. Гастону был нужен мотив, повод, чтобы перебить крылья этой страсти, и он опасался, что в решающий момент объяснений, когда мадам д’Орсо начнёт оправдываться и умолять не бросать её, Дарки не хватит сил довести разрыв до конца.
Ложный, ошибочный манёвр коричневой сирены восстановил апломб и душевное равновесие Гастона. Пытаясь пробудить его ревность, Джулия обнажила перед ним одну из своих слабых сторон. Гастон мог простить ей всех её бывших любовников, за исключением Голимина. Мало того, что он был иностранцем, так ещё и личностью с сомнительной репутацией… и славянином вдобавок. Упоминая о графе, Джулия совершила оплошность, а прибытие этого подозрительного персонажа во время их свидания сделало невозможным исправление этой ошибки, и этот факт дал Гастону возможность почувствовать себя уверенно и осознать, что теперь он может контролировать ситуацию.
В ожидании возвращения мадам д’Орсо из её злополучной экскурсии в Польшу он лихорадочно ходил по будуару, приостанавливаясь, когда до него через двери и обивку будуара доносились крики, а затем продолжал мерить его шагами, чтобы заглушить в себе желание подслушать происходящее в соседней комнате.
Салон, куда субретка ввела графа, был смежным с будуаром, где остался Гастон, и он спрашивал себя, почему Джулия не увела своего славянина в другую комнату.
Особняк Джулии был довольно большим, если не сказать, огромным, так что у неё не было проблем с выбором комнат. Была, например, галерея-библиотека на английский манер, расположенная так далеко от будуара, что там можно было спокойно драться на дуэли или застрелиться, без опасения, что шум будет услышан в этом кокетливом убежище мадам д’Орсо.
В своих размышлениях Гастон вскоре дошёл до такого, на первый взгляд парадоксального умозаключения, что Джулия была совсем не против того, чтобы он, можно сказать, эвентуально, нет, скорее практически присутствовал при её беседе с Голиминым.
Гастон решил, что она нарочно старается говорить так громко, чтобы значительная часть слов её беседы с поляком дошла до его ушей, а чуть позже он уже даже уверил себя в том, что Джулия об этом заранее договорилась с поляком, но тут Дарки абсолютно ошибался.
Если же судить о происходящем беспристрастно, то следовало признать лишь то, что градус их разговора постепенно повышался, и надо было бы быть глухим, чтобы не расслышать фрагменты этого диалога.
Гастон прекрасно различал оба голоса, которые иногда чередовались, а иногда также и смешивались в общий хор. Голос Джулии был тёплый, очень женственный, а баритон польского графа – серьёзный, едкий, неритмичный.
А, если говорить серьёзно, в это время в салоне мадам д’Орсо разыгрывалась настоящая драма. Джулия пыталась превратить её оперетту, но разъярённый поляк толкал её во тьму дьявольских страстей.
– Это бесчестно! – кричал славянин.
– Обойдёмся без грубых слов, – вокализировала французская дива.
– Значит, вы хотите, чтобы я убил себя!
– Вы хотите покончить с собой из-за женщины?
– Да… если я её обожаю… и не могу жить без неё.
И после этих взрывов эмоций следующий куплет разговора опускался на тон ниже. Очевидно, граф, переходя на минорный лад, пытался умиротворить неумолимую даму полусвета, которая ему отвечала отказами под сурдинку.
В результате Гастону пришлось испытывать на себе разнообразные пытки. Когда дуэт поднимался до высоких и резких нот, он останавливался в четырёх шагах от дверей и с трудом сдерживался, чтобы не выйти на сцену и не выбросить этого наглого иностранца на мостовую, поляка, требовавшего от Джулии, чтобы она за ним последовала в какие-то затерянные, богом забытые страны, где обычно на помойке заканчивают свою жизнь подобные неудачники. Порядочный человек не позволяет себе грубо обращаться с фрегатом, который плавал под его флагом, и когда их речитатив возвращался в нежные и тихие ноты, Гастон злился на себя за то, что оказался в такой смешной ситуации.
– Зато теперь, – ворчал он, чтобы успокоиться, – я радикально излечился от своей любви.
Впрочем, ситуация стала усложняться, так как, судя по всему, развязка не могла заставить себя долго ждать, и действительно, финал стремительно наступал. Джулия не любила длинных сцен, и стала делать купюры в своих театральных репликах.
– Значит, – продолжил Голимин низким голосом, – вы отказываетесь уехать со мной?
– Это вполне решено, мой дорогой, – спело сопрано. И затем последовала фермата3, – Позже вы меня поблагодарите за это.
– Нет, это невозможно, потому что вы никогда больше не увидите меня живым.
– Опять! Вы чересчур много говорите о смерти. И вопреки вашим зловещим речам, ещё раз повторю: «До свидания… через три или четыре года… когда вы найдёте другое золотое дно в Калифорнии… или в других странах… то тогда…»
– Вы присоединитесь к вашему любовнику, – загремел глубокий контрабас. – Я вас слишком презираю, чтобы убить, но при этом проклинаю, и вы увидите, чего стоит проклятие мертвеца!
После этой фразы пятого акта раздался шум неистово закрываемой двери. Занавес упал, спектакль был закончен.
Гастона мало интересовал этот поляк, который действительно злоупотреблял словами, но и холодные насмешки мадам д’Орсо ему опротивели, и он её спокойно ожидал, чтобы окончательно с ней объясниться.
Джулия возвратилась с театральной сцены в салоне спокойной, почти улыбающейся, и Гастону лишь показалось, что в её глазах продолжал мерцать огонь не угасшей страсти, да немного покраснели её щеки.
– Наконец-то, – сказала д’Орсо, – я освободилась от этого бесноватого поляка. Для него самого было бы лучше, если бы Мариетта не впустила его в мой дом. Теперь Голимин больше никогда сюда не вернётся.
– Я ему верю, – холодно сказал Гастон.
– Вы слышали наш разговор?
– Нет, я его не слушал. Но был вынужден услышать… да… несколько слов… Вы слишком громко беседовали!
– И Вы думаете, что граф Голимин действительно меня так любит, так, как об этом мечтают многие женщины… с яростью… бешенством… до самоубийства, наконец?
– Когда мы хотим убить себя, то не кричим об этом так громко.
– Я вам уже сказала, мой дорогой, что вы совсем не знаете Голимина. Именно такой сумасшедший, как он, без малейших раздумий взорвал бы Париж, лишь бы только удовлетворить одну из своих фантазий.
– Меня мало волнует, кем он является или не является на самом деле, но я очень надеюсь, что никогда не встречу его на своём пути.
– Вы правы, мой друг, я вам слишком много рассказываю об этом польском бунтовщике, и я вас прошу меня извинить за те неприятные моменты, которые вам только что пришлось пережить. Вы могли бы обидеться на меня за ту ситуацию, в которой невольно оказались. Ещё раз подчёркиваю, что это случилось невольно, не по моей вине, и вы были так любезны, что позволили мне лично выгнать моего преследователя из дома. Я вам действительно должна быть признательна за это, а вы знаете, что я всегда оплачиваю свои долги, – сказала Джулия с улыбкой, которая растопила бы и ледяное сердце восьмидесятилетнего старца.
– Пока что же именно я оплачиваю всё это великолепие, даже чашку этого чая, который прибыл вчера из Москвы, минуя Варшаву. – подумал про себя Гастон, и ответил Джулии уже вслух, – Тысяча вам благодарностей за эту милость. Но я должен оставить вас до полуночи, а уже половина двенадцатого, так что хочу вам сказать, что увы… вынужден раскланяться.
Джулия в этот момент уже изобразившая свою привычную позу на кушетке, которую она принимала, когда хотела кого-нибудь очаровать, вдруг резко спросила:
– А что вы хотели мне сказать?
– Что я решился, наконец, пойти на службу в магистратуру. Хочу начать карьеру судебного следователя, пойти по стопам своего дядюшки.
– Я так понимаю, что сообщив мне эту серьёзную новость, вы проигнорируете меня сегодня в опере. Для того, чтобы судебному следователю без ущерба для репутации посетить меня в моей ложе, вам придётся одеть чёрное платье и сбрить ваши усы ради маскировки.
– Нет, не сейчас. Я не собираюсь моментально менять свой образ жизни.
Ясным и холодным взглядом, как лезвием шпаги, мадам д’Орсо окинула лицо своего любовника.
– Эта новость означает фактический разрыв наших отношений, о котором вы меня уведомляете столь грациозно, не так ли? – спросила она после короткого молчания.
– Всего лишь только расставание, – парировал молодой человек, склоняясь перед женщиной в полупоклоне.
– Есть слово честнее. То, что вы произносите, им не является.
Гастон вздрогнул от обиды, но сдержался и достаточно спокойно ответил:
– Вы никогда не верили, я думаю, что наши отношения будут вечными. Я всегда поступал с вами, как порядочный человек… и я вас оставляю, потому что карьера, которую я хочу сделать, меня к этому вынуждает… и я знаю, что для меня это тягостная необходимость.
– Вы хотите этим сказать, что завтра, в последнем букете гардений, который мне принесут от вас, я найду чек на внушительную сумму? Я вам его отошлю назад, мой дорогой. Я не хочу ваших денег без вас. Что я буду делать? Я богата, и если мне будет нужен преемник на ваше место, я возьму его не за богатство, а за другие качества, так же, как я взяла вас.
Гастон снова склонился перед ней в поклоне, не отвечая на эти обидные слова. Сцена с поляком экипировала его в рыцарские доспехи из брони, одинаково защищающие его как против упрёков, так и против лести.
– Без сомнения, именно ваш дядя-судья вложил в вашу голову добродетельное идею заменить меня однажды на другую женщину. И вы осмеливаетесь утверждать, что это не он решил вас женить! Никогда в это не поверю.
– Вы забываете, что мой дядя холост, и потому не может испытывать тяги к этому институту гражданского состояния.
– Тут дело в должности, которую вы однажды унаследуете. Причина, к тому же, в том, что он заботится о вашем с ним имени, чтобы оно было увековечено в веках. Во втором поколении Дарки, чьим отцом станете вы, поставит апостроф после буквы «де» в вашей фамилии и станет аристократом д’Арки.
Гастон чувствовал, что терпение его иссякает, и двинулся к выходу. Джулия тоже встала. Её глаза сверкали.
– Мой дорогой, – просвистела она сквозь свои жемчужные зубы, – теперь я знаю, чего вы стоите… И я жалею женщину, которая выйдет за вас замуж, если только она не поступит потом с вами также, как вы поступаете сейчас со мной. И это то, что она, разумеется, сделает. Вы не из той породы людей, что мы, женщины, которые любят безответно и беззаветно, в отличие от вас, месье Гастон Дарки.
Затем, меняя тон, она внезапно сказала:
– Признайтесь, что во всём виновата эта прекрасная Гаванка, вдова с шестьюстами тысячами фунтов ренты, которая вешает красные помпоны на своих лошадей… маркиза де Брезе? Мне сказали, что вы её усердно добиваетесь. Но вы не являетесь единственным претендентом на её деньги и титул, и…
Дарки решил не задерживаться больше в доме Джулии, чтобы их разговор не превратился в базарную перебранку, и он внезапно открыл дверь будуара, пересёк салон и остановился лишь внизу лестницы, чтобы взять свою шляпу и пальто. Мариетта по прежнему была в спальне мадам д’Орсо, а другие слуги предавались радостям жизни на кухне, так что Гастон вышел из дома, никого не встретив на своём пути.
В то время, как Дарки спускался большими шагами по бульвару Малешербе, Джулия стояла, облокотившись на подставку со статуэткой Клодиона, и восклицала потерянным голосом:
– Брошенная женщина! Дарки меня бросил, словно куклу! Какой же дурой я была! Я его принимала за простака и думала, что одним прекрасным днём он увезёт меня под венец. Почему бы и нет? Эва без проблем стала принцессой Глукофф, а начинала она гораздо хуже, чем я. Её мать была торговкой яблоками. Да… но Дарки не русский. Дарки – высокопарный парижский мещанин, к тому же, успешный, быстро растущий. Он меня безжалостно пропустил между пальцами… и именно в тот самый момент, когда я уже решила, что крепко его ухватила за самые укромные места и ему уже не выкрутиться. Ну что же… это хороший урок для меня. Это научит меня целиться выше. Но кто-то же подтолкнул его к этому шагу. Когда я узнаю об этом, то жестоко отомщу этому иуде. И ему, и его дяде, и этому его другу Нуантэлю…
И вдруг Джулию озарило внезапное вдохновение:
– Голимин… вот кто мне в этом поможет. Он меня любит, и это тот самый человек, который не отступает ни перед чем. Я отлично выбрала время для его отставки! Только как его найти. Может быть написать ему? Да, но я забыла его адрес, да и он его уже наверняка поменял за последние шесть месяцев. Впрочем, адрес должен быть на визитной карточке, которую он вчера у меня оставил, когда я отказалась его принять. Где же она, эта карта? Ах! Кажется, Мариетта её положила на столик в стиле Буль, что стоит посередине галереи.
Когда мадам д’Орсо хотела какую-нибудь вещь, действие незамедлительно следовало вслед за идеей. Она тотчас же направилась к галерее, которая находилась на другом конце первого этажа. Салон был освещён, а галерея нет, и поэтому Джулия вооружилась подсвечником.
Войдя в галерею, она была изрядно удивлена тем, что нашла там на серванте горевшую свечу. Неяркий отблески света от неё едва проникали в высокие и глубокие проёмы готических окон с витражами, и когда Джулия дошла до последнего окна, ей показалось, что она увидела мелькнувшую тень человека на каменной плите стены.
Джулия была отнюдь не боязлива, и чуть продвинувшись вперёд, по меховой шубе сразу узнала этого человека, который, казалось, прислушивался к чему-то, стоя на подоконнике окна. Джулия воскликнула:
– Голимин…! Что вы делаете здесь? Что это всё означает…?
И почти тотчас же продолжила:
– Господи, висельник! – Прошептала она. – Он повесился!
Её рука уронила подсвечник и кровь, казалось, моментально замёрзла в жилах.
Зал в полумраке казался огромным. Потолок терялся в тени, и свеча, догорающая на серванте, освещала проём окна своими угасающими отблесками. Полная темнота была бы менее устрашающей, чем эти прерывистые отражения, моментами освещающие черты сведённого судорогой лица Голомина и позволяя мельком разглядеть едва видимый безобразный силуэт повешенного.
Джулия в ужасе отступила назад и застыла напротив деревянной обшивки библиотеки, бледная, с дрожащими руками и буквально остекленевшими глазами.
Она хотела кричать, но её голос ей не повиновался. Она хотела убежать, но ноги отказывались двигаться, ужас приковал её к холодным плитам пола. Она хотела отвести свой взор от висящего трупа, но не могла это сделать. Абрис висельника притягивал, словно магнит.
Это был действительно Голимин. Бешеный славянин сдержал своё обещание, и его последние слова буквально звенели в ушах мадам д’Орсо: «Вы ещё узнаете, чего стоит проклятие мертвеца.»
Теперь Джулия её понимала, эту угрожающую фразу, и от нервного перевозбуждения ей вдруг ясно представилась сцена самоубийства, как это всё произошло. Голимин, взбешённый её отказом, пересекает безлюдный дом и бросается в эту галерею, куда, как он точно знал, никто не войдёт. Когда поляк встречался с Джулией, она почти никогда не заходила в библиотеку. Голимин хладнокровно, на ощупь, не поднося поближе оставленной на серванте свечи, дошёл до крайнего проёма в стене с витражным окном, подтащил к нему табурет, встал на него, сорвал шнур с тяжёлой гобеленовой шторы, сделал скользящую петлю вокруг шеи и… шагнул с табурета в вечность.
– Вот, следовательно, какова его месть, – думала Джулия. – Он повесился у меня дома, чтобы произвести как можно больше шума известием о своём самоубийстве. Завтра весь Париж будет знать, что разорившийся и опозоренный Голимин повесился в доме своей любовницы… Скоро начнут говорить о его сообщниках и любовницах, и женщины, которые меня ревнуют, и мужчины, которые меня ненавидят, начнут ворошить и вытаскивать на свет божий всякие давно забытые гнусные истории. Кто знает, не скажут ли они, что это я убила Голимина? И Дарки, который слышал мою ссору с этим несчастным человеком, возможно, он не опровергнет тех, кто будет говорить об этом.
Затем Джулия принялась сожалеть о покойнике.
– Сумасшедший! – Говорила она еле слышным голосом, – он был безумнее в сто раз, чем я могла себе представить… Как я могла ему не поверить. Я же знала, что на самом деле сердце у него было в сто раз больше, чем у всех тех дураков, что его презирали… но убить себя в тридцать лет! Умереть тогда, когда в нём было ещё столько юношеской отваги, ума, и понимания того, как снова сделать состояние, достичь успеха! Ах! Как он меня любил…! И если бы я могла воскресить Гжегоша, я бы ему сказала: «Да, я готова за тобой последовать куда угодно!»
И внезапно Джулию поразила одна мысль:
– А если он не умер, – прошептала она, – если обрезать этот шнурок… Нет… нет… слишком поздно… Это было бы бесполезно…. Но я не могу больше здесь оставаться… Нужно действовать, чтобы меня не обвинили, что это я его убила… Необходимо позвать Мариетту и послать её предупредить о случившемся полицию.
Джулия вспомнила, что в галерею ещё не был проведён звонок, соединяющий его со спальней, где она видела субретку, и потому пошла к серванту, чтобы взять свечу, которая всё ещё горела и освещала место самоубийства, потому что свеча в подсвечнике, который несла Джулия, войдя в холл, погасла, упав на пол, и она не осмеливалась пересекать без света эту длинную галерею, в конце которой болтался в петле покойник.
Мадам д’Орсо с трудом пересилила себя, и после минутной заминки прошла, отворачиваясь, мимо зловещего окна, и ища подсвечник вдруг увидела, что рядом с ним лежал лист бумаги, вырванный из тетради.
– Это он написал, – тихо сказала Джулия, – мне, без сомнения… на прощание.
И она прочитала слова, начертанные карандашом:
«Меня убила Джулия д’Орсо. И моё последнее желание состоит в том, чтобы деньги, находящиеся в моем портмоне, были распределены между парижскими бедняками. Также я прошу французские власти вручить письма, находящиеся в моём портмоне, адресатам, фамилии которых написаны на конвертах.»
– Письма! – Прошептала Джулия. – Мои возможно… Да, Гжегош их сохранил… он мне об этом сказал, когда пытался напугать, напоминая, что у него в руках есть доказательство, которое может меня заинтересовать… и его последняя мысль была о том, чтобы раскрыть тайну нашей связи. Ах! Теперь я знаю, чего стоит проклятие мертвеца.
Она застыла на несколько секунд, потрясённая этим новым ударом, но затем снова воспрянула духом:
– Это бесчестно… то, что он сделал. Голимин посчитал, что один из моих слуг обнаружит его тело, и что эта бумага будет им вручена комиссару полиции, а я не смогу этому помешать… но он не предусмотрел, что именно я найду его тело… и теперь его письмо в моих руках и никто его не увидит… я его сожгу и… никто также не увидит моих писем к Голимину.
Джулия поднесла листок к огню свечи, и в одно мгновение это странное завещание превратилось в пепел.
Но остались ещё письма в кармане мертвеца.
– Я никогда не осмелюсь их взять, – произнесла д’Орсо совсем тихо.
Проем, который Голимин выбрал, чтобы умереть, был в шести шагах от серванта, и труп выделялся, как чёрный призрак на фоне прозрачных витражей. Галерея наполнялась потёмками. Везде царила тишина, зловещее могильное молчание. Джулия была в ужасе от страха, и дрожала то ли от него, то ли от нежданно окутавшего её с головы до ног холода.
– Они мне нужны, эти письма, – тихо повторяла Джулия. – А свеча скоро погаснет… И Мариетта может прийти… Я не хочу, чтобы она меня нашла здесь, рядом с трупом.
Джулия взяла подсвечник дрожащей рукой и двинулась к окну. Её горло сжималось от страха, губы были сухи, она ощущала жжение в корнях волос, как будто их прижигали раскалённым железом. Каждый шаг, сделанный ею, мучительной болью отдавался в мозгу. Иногда ей казалось, что она слышит голос голос Голимина, призывающий её к себе.
Дойдя до зловещего проёма, она закрыла от страха глаза, и…. опять уронила подсвечник, чей бронзовый звон показался ей сродни похоронному. Подняв его, она опять посмотрела на тело поляка.
Ноги висельника почти касались паркета, так как шнур, на котором он висел, растянулся под весом тяжёлого тела, его голова склонилась на грудь, а лицо исчезло в меховом воротнике его шубы.
Но, чтобы найти портмоне, нужно было дотронуться до трупа, рыться в его одежде.
– Нет, я не могу, – шептала Джулия, не осмеливаясь поднять глаза. Она боялась вновь увидеть черты человека, который, как выяснилось, боготворил её при жизни, взглянуть на его губы, которые её целовали и ласкали её тело. Ей было необходимо ощупать грудь этого мертвеца, в которой раньше билось горячее сердце, к которому она совсем недавно нежно прижималась, и ужас, сковавший её члены был сильнее интереса к содержимому карманов шубы Голимина. Однако Джулия быстро переборола свой страх, подняла, наконец, глаза на покойника и заметила, что один из боковых карманов шубы висельника оттопыривается и из него торчит кожаный кончик увесистого портмоне.
Конечно, Голимин его туда засунул неспроста. Он хотел, чтобы кожаный футляр был побыстрее обнаружен и это не должно было стать приятной новостью для его бывшей возлюбленной.
Мадам д’Орсо поняла это, и её страх окончательно улетучился, уступив место злости на покойника, после смерти желающего доставить ей максимум неприятностей. Она поставила подсвечник на столик в стиле буль, где чуть раньше нашла визитную карточку графа, и взяв кончиками пальцев портмоне, открыла его.
Вначале Джулия вытащила из него банковские билеты, три пачки по десять тысяч, последние средства неудачника, побеждённого парижской жизнью, подъёмные, зарезервированные для того, чтобы начать новую жизнь за границей.
Джулия едва взглянула на эти шелковистые банкноты, которые, обычно, она отнюдь не презирала, и лихорадочно стала открывать другие отделения портмоне. Она там нашла то, что искала – письма, перевязанные шёлковой нитью, письма источающие приятный запах духов с ароматом чая, реликвии любви, ставшей для Голимина, бывшего, как все поляки, особенно набожным, буквально святыми.
Мадам д’Орсо взяла их, а затем положила банковские билеты назад в портмоне, засунула его в карман покойника и вышла из галереи, не осмеливаясь даже обернуться.
Когда она вернулась в своей салон, после полумрака галереи показавшийся Джулии радостно освещённым, к ней вернулось обычное её хладнокровие. Она тихо пересекла комнату, бесшумно возвратилась в будуар, и закрылась в нём на замок, ведь Мариетта могла зайти и без вызова, а Джулия не хотела, чтобы она увидела письма.
План действий уже созрел в её очаровательной головке. Она решила вызвать горничную, послать её под каким-нибудь предлогом в библиотеку, и ожидать от неё известия об обнаруженном там повешенном. Дабы никто у неё не требовал объяснения, требовалось, чтобы никто не мог и подумать о том, что она нашла труп раньше других, и тогда её никто не сможет обвинить в том, что она касалась руками портмоне Голимина.
Но вначале Джулия хотела сжечь свои письма. Нужно было уничтожить доказательства её бывшей связи с Голиминым, а для этого требовалось набраться мужества и дотронуться до них.
Мадам д’Орсо собиралась бросить пакет с бумагами в огонь, но вовремя одумалась. Ей показалось, что он был более объёмным, чем полагалось быть связке только с её письмами. Она их в своё время написала Голимину немало, но не настолько уж много, как в этой пачке.
Джулия быстро развязала шёлковый шнурок, и увидела, что любовные записки были разделены графом на четыре пакета. Её горячий любовник отсортировал и разместил в таком порядке свои сердечные документы, как если бы речь шла о деловых бумагах.
Джулия взяла в руки один пакет, сразу же узнала свою подпись и была изрядно удивлена тем, что нашла приколотой к этой связке этикетку с пометкой:
«Мадам д'Орсо, бульвар Малешербе, 199.»
– Знали бы вы, что в них написано, – сказала она с горечью.
Ещё более она была удивлена, когда заметила, что три остальных пакета также имели этикетку с именем и адресом.
– Почему Голимин сделал это? – спросила она себя. – Хотел воспользоваться этими письмами, чтобы использовать тех, кто их написал? Его уже обвиняли прежде в том, что он обманул таким способом, используя женские слабости, одну знатную даму. Нет, я поверю скорее, что он оставлял за собой право принять решение после встречи со мной. Если бы я согласилась поехать с ним за границу, возможно, он попытался бы воспользоваться тайнами, которыми обладал. У него оставалось очень мало денег… а у меня он бы не посмел попросить. Когда Голимин принял решение умереть из-за моего отказа уехать с ним, он не думал больше ни о чём, кроме мести ко мне. Гжегош прекрасно знал, что комиссар полиции не постесняется начать расследование в отношении мадам д’Орсо. Кто я такая… всего лишь дама полусвета, в то время как мои соперницы – знатные светские замужние женщины, я в этом уверена.
И поразмышляв несколько секунд, Джулия продолжила:
– Однако, если я захочу…! На них начертаны имена… Он дорожил только мной, а что бы сделал Голимин, если бы не покончил с собой… Почему я должна испытывать жалость к тем, кто меня презирает? Баронесса дю Бриаж изменила свой день посещения оперы только потому, что её ложа рядом с моей, а она не хотела быть моей соседкой. Да, но речь не о ней. От кого эти письма?
Мадам д’Орсо прочитала имя, предназначенное получателю первого пакета.
– Я её не знаю, – прошептала она. – Мещанка, без сомнения. Если бы она была одной из светских дам, что у всех на виду, я наверняка слышала бы о ней. Бедная женщина! В какой ужас повергнет её новость о самоубийстве Голимина! И как она меня благословит, когда я верну ей её письма! Потому что я хочу ей их вернуть. Почему я должна ей вредить?
Посмотрим на других.
Окинув взглядом вторую связку писем, она воскликнула:
– Это она! Эти письма от неё! Ах! Я ведь знала, что Голимин был её любовником, хотя он всегда это отрицал. О, Боже, маркиза отдалась искателю приключений из Польши. А ведь все эти дураки, которые забрасывали Голимина грязью, ссорились бы друг с другом за честь сочетаться браком с этим созданием, а она пренебрегла ими, предпочтя Гжегоша! Ах! И ей я, возможно, верну её письма, но сделаю это на моих условиях… и тоже не потребую денег.
В этот момент в дверь будуара тихо постучались и, прежде чем открыть запор, мадам д’Орсо спрятала корреспонденцию в карман своего пеньюара, ведь был ещё и третий пакет, надпись на котором она до сих пор не успела посмотреть.
– А, это ты… что ты хочешь? – Спросила Джулия у субретки, которая уверенно ответила:
– Мадам мне приказала остаться в спальне, и извините меня за то, что я там заснула перед огнём камина а, пробудившись, увидела, что уже за полночь. Я подумала, что месье Дарки должен был уже уехать…
– Он ушёл, по крайней мере, не менее часа тому назад, но я не нуждалась в твоей помощи. Пойди, поищи мне газету «Фигаро», которая должно быть на столике Буль в библиотеке, а затем займись моим ночным туалетом.
Камеристка исчезла с проворством мыши. Джулия, оставшись одна, использовала счастливый момент одиночества, чтобы спрятать письма в секретный ящичек в небольшом шкафчике из дерева розы, и стала спокойно ждать мрачного известия от камеристки, к которому она внутренне уже была готова.
Три минуты спустя, буквально сметённая порывом ужасом, Мариетта влетела в будуар, невнятно бормоча одеревеневшим языком:
– Мадам…! Ах! Мой Бог…!Если бы вы знали, что я только что увидела! Граф… Он…
– Что? Он спрятался в особняке, чтобы выслеживать меня?
– Он умер, мадам! Повесился!
– Повесился?!
– Да, мадам…. На одном из окон в библиотеке. Я не знаю, как я не упала в обморок от страха.
– Это ужасно! – воскликнула мадам д’Орсо, не затруднившись даже хоть немного побледнеть, – Зови ливрейного лакея… кучера… Всех… Скажи им, пусть они бегут искать врача и предупредят комиссара полиции… врача вначале… возможно, есть ещё время, чтобы спасти жизнь этого несчастного человека.
1
Клодион(фр.Clodion, настоящее имя Клод Мишель, (1738—1814), французский скульптор, создавал в традициях рококо терракотовые статуэтки, небольшие скульптурные группы и рельефы, изображающие сатиров, вакханок, амуров.
2
Фортуни Мариано (1838—1874), испанский живописец и график. Получил большую популярность эффектными жанровыми, виртуозными по исполнению, изощрёнными в передаче цветовых рефлексов, картинами.
3
Ферма́та (итал. Fermata) – остановка, задержка, знак музыкальной нотации, предписывающий исполнителю увеличить по своему усмотрению её длительность, обычно, в 1,5—2 раза.