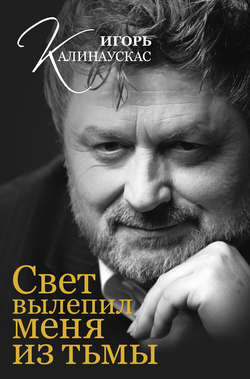Читать книгу Свет вылепил меня из тьмы - Игорь Калинаускас - Страница 8
Часть первая. Духовное сообщество
Это слово «Традиция»
А есть ли смысл?
ОглавлениеВозьмем такое противопоставление: бессмысленно и со смыслом…
Что это такое в повседневной человеческой жизни? Когда мы ощущаем бессмысленность чего-либо, чего нам не хватает? По какому признаку возникает переживание бессмысленности? Все это очень сложно. Человек по несколько раз в день произносит: «Это бессмыслица, а в этом я вижу смысл», но способ определения этого скрывается от него самого. Спросите человека без ментального напряжения о чем-либо: «Это имеет или не имеет смысл?» Он мгновенно ответит, имеет или нет, с его точки зрения. Мгновенно! Что же помогло сделать это так быстро? Ему не надо для этого думать. Откуда в нем это мгновенно возникшее знание? Чем он для себя определяет отсутствие или присутствие смысла? Нам кажется, что все, что определяется мгновенно, что рождает мгновенный ответ, наиболее вероятно связано с ценностной структурой, с иерархией ценностей. Значит, мы можем предположить, что смыслопорождающая функция имеет какую-то интимную связь с ценностной структурой человека, что между ценностью и смыслом существуют некие взаимоотношения.
Теперь попробуем рассмотреть эти взаимоотношения подробнее. Может ли быть неценным то, что имеет смысл? Очевидно, не может. Смысл – это то, что в определенном аспекте ценно. А может ли иметь ценность бессмысленность? В определенной ситуации может. Вы сумели зафиксировать пока один момент: смыслопорождающая функция связана со структурой ценностей или с ценностной структурой личности. Теперь давайте посмотрим, каким образом ценностная структура может породить смысл или обнаружить его отсутствие.
Для начала разберемся в процессе движения от смысла к смыслу. В смысле всегда есть акт присоединения, снятие дистанции между собой и неким явлением, внутренним или внешним. Смысл порождается переживанием взаимной приближенности, снятием дистанции между собой и, скажем, мыслью либо между собой и объектом или субъектом. Отсутствие смысла есть невозможность преодолеть эту дистанцию. Смысл порождается присоединением чего-либо, возможностью присоединения чего-либо к своей субъективности.
Если мы говорим: я хочу того-то, значит, то, чего я хочу, – это и есть моя цель. Но поскольку человек, как правило, хочет сразу энное количество «того-то» и «того-то», то происходит так называемая конкуренция мотивов. Естественно, он вынужден строить иерархию: «Я хочу многого, но сначала я хочу вот этого, а потом займусь вот тем, а потом буду доставать вот то». Иерархия строится по необходимости. И отражением этой необходимости и является ценностная структура человека. Иерархию образуют плюс-минус ценности, плюс-минус требования, из которых формируется ценностная структура человека, и отношение к миру, опосредованное ценностной структурой, становится оценочным. А дальше начинаются уже сложные неоднозначные полифункциональные взаимоотношения между потребностью, мотивом, целью, ценностью, структурой ценностей и их иерархией, то есть начинается то, что называется «человек». Потому что человек может задерживать удовлетворение непосредственного «хочу» за счет подчинения его некой перспективе. Человек строит планы, что-то задерживает, что-то реализует. Задержка во времени, период формирования идеальной модели – это очень интересный момент для изучения. Вопрос только – зачем его изучать?
Профессиональному психологу это знание нужно, потому что оно входит в его профессию. Он собирается помогать при нарушениях самоосознаваний или еще в каких-то случаях. А если человек не собирается стать профессиональным психологом? Нужно ли ему такое знание о себе, с такой степенью подробности?
До какой степени человеку необходима рефлексия самого себя и своего устройства? Это зависит от ответа на вопрос «Для чего?». Это следующий вопрос. Чтобы ответить на вопрос «Почему не надо?», нужно ответить на другой: «А для чего это может быть надо?» Этот очень сложный вопрос порождает, как только мы в него углубляемся, огромную деятельность. Те, кто чувствует в себе потребность в самопознании, должны помнить простое правило: вмешательство наблюдателя в любую реальность – объективную или субъективную – меняет саму реальность. Это закон, о котором помнит каждый ученый: введение прибора, измеряющего некий параметр некой физической реальности, изменяет эту физическую реальность. Значит, как только вы начинаете наблюдать за миром, мир изменяется, потому что он включает в себя и вас, наблюдающего. Это нужно помнить.
Очень важно понять разницу между движением от цели к цели и движением от смысла к смыслу, движением внутри смысла. Довольно часто обнаруживается, что, пытаясь ответить на вопрос, в чем смысл его действий, человек сообщает о том, зачем он это делает. Например: «В чем смысл твоей турпоездки?» – «Увидеть то, что я хотел увидеть». Это классический пример. Человека спрашивают о смысле действия, а он начинает перечислять цели, пытается описать содержание своего действия перечислением некоторых целей и попыток их реализации.
Какое отношение это имеет к смыслу? Достигая одну и ту же цель, можно реализовывать через нее самые различные смыслы. Вся сложность в том, что смысл нельзя получить. Смысл можно только создать.
Смыслообразующая функция человека, его смыслообразующая деятельность – всегда творческая. И когда мы говорим, что главное – всегда помнить, зачем ты что-то делаешь, мы имеем в виду память о смысле, который реализуется в твоей деятельности. Когда мы пытаемся поставить вопрос, в чем смысл жизни, мы начинаем предлагать различные цели, не понимая той относительно простой вещи, что смысл, даже если он порожден не вами, а присвоен вам, как уже открытый или созданный другим человеком, требует реализации, ибо только в ней он себя обнаруживает. В этом месте скрывается причина многих недоразумений, возникающих при попытках что-либо понять про духовные традиции и духовные учения.
Реализовывать смысл можно, никуда не двигаясь. Можно поставить одну-единственную цель: реализовать смысл, и тогда стороннему наблюдателю будет виден человек, который как бы ни к чему не устремлен, никаких целей не добивается и психологически вроде бы находится на одном месте, все время делая одно и то же. Это очень важно понять. Почему? Потому что бытие в духовном учении и целевое бытие, как его принято понимать, – вещи не одинаковые. Человек в целевом бытии обычно воспринимается как устремленный, сильный человек.
Все подчиняется движению к цели. Вопрос морали начинается дальше. Все ли средства хороши для достижения цели? Какие средства нельзя применять?
В этом всегда есть некоторая натяжка. Все ограничения в выборе средств есть следствие конвенционального договора в том или ином сообществе. Путем логических размышлений прийти к пониманию, почему именно эти средства отвергаются, а эти принимаются, невозможно. Это всегда конвенция. Скажем, большинство таким образом защищает себя от меньшинства, или это конвенция во имя сохранения какой-либо идеи. Другой вопрос в том, что существуют средства, которые изменяют саму цель, ее содержание.
Мы можем осуждать человека за то, что он неразборчив в выборе средств, но явно или тайно психологически его как бы и поддерживать. Не зря бытует при всей вроде бы осудительной интонации поговорка: «Наглость – второе счастье». Не зря мы никогда не относимся индифферентно к людям, которые умеют собраться, как говорится, в кулак и двигаться к своей цели, ограничить отступление от нее. Они всегда воспринимаются нами как подвижники. Все любят и уважают Константина Эдуардовича Циолковского. Но стоит посмотреть на Циолковского глазами его семьи, и мы увидим ужасного человека, который не только мало зарабатывал, но и большую часть заработанного тратил на свои странности, в результате чего его семья всю жизнь мучилась. И так всегда: человек с целевым бытием с точки зрения большого сообщества – герой, а с точки зрения малого – очень жестокий человек. И если он добился цели, мы его оправдываем: что ж, великий человек, ему простительно.
Когда же в духовном сообществе говорится о целевом бытии, то в качестве целей имеется в виду реализация того или иного смысла, и в этом, собственно говоря, и скрыт секрет учения. Не зря говорили древние – можно прожить рядом с Буддой тысячу лет, выполнять все его указания, и ничего не изменится. Понимаете, при целевом выполнении ничего не изменится, а можно услышать одно слово, реализовать сокрытый в нем смысл, и все будет достигнуто, потому что достижение в духовных традициях есть постижение и преображение, и никогда – приобретение. Пока человек это до конца не осознал, он бродит как путник, заблудившийся в трех соснах. Целевая деятельность в духовном смысле – это деятельность по реализации смысла, по его объективизации и по трансформации объективной или субъективной реальности в соответствии с определенным смыслом. Это всегда постижение и преображение, но никогда – достижение. Об этом сказано: «Просветление есть, просветленных – нет». Реализовать такой смысл, который называется просветлением, можно, но достичь просветления – нельзя.
Преобразовать себя, свою жизнь, свое бытие в соответствии с этим постижением можно, но достичь ничего нельзя. Это и есть то самое лезвие бритвы, тот тончайший и точнейший инструмент, с помощью которого всегда можно отделить зерна от плевел и овец от козлищ. Как только возникает достижение, постижение исчезает. Если вы не будете тратить умственных усилий на осознавание этих моментов, то можете и не начинать учиться – все равно ничего не получится. В лучшем случае вы заблудитесь где-то среди экстрасенсов.
Чтобы духовность не превратилась в средство достижения повышенного уровня самооценки и индивидуального статуса, в области достижения нужно все время играть на понижение. Так учил меня мой учитель. А для того чтобы научиться различать и реализовывать смысл, нужно еще очень хорошо поработать мозгами. Воинствующее невежество никогда еще не было ключом духовности. Человек, ставший на духовный путь, должен развить свое осознавание до уровня практической философии.
Если человек интеллектуально не в состоянии отличить цель от смысла, то что же он может сделать? Если он не способен выскочить за пределы стандартных расхожих умозрительных построений, оценочных или конвенциональных способов выбора средств, на что он способен? Только показывать фокусы, чтобы ему аплодировали. И все. Я все время говорю, что нужно очень четко задать себе вопрос: «Мне нужны знания для того, чтобы усовершенствовать ту жизнь, которая имеется?» или «Мне нужны знания для того, чтобы найти другую жизнь?».
Я понимаю, что в большинстве случаев иллюзий так много, что и осознавание не поможет. Но я не хочу участвовать в таком совершенно преступном действии, как распространение версии, что духовность доступна невежественному человеку, что для нее не нужно никаких знаний и труда, что достаточно откровений, видений, сновидений и тому подобного. У вас и так вся жизнь – сновидения, значит, вы уже хорошо устроены.