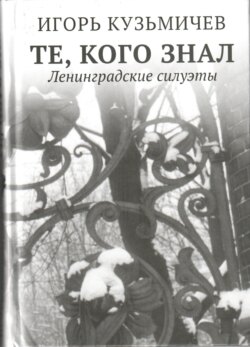Читать книгу Те, кого знал. Ленинградские силуэты - Игорь Кузьмичев - Страница 4
Тополь за окном
Олег Базунов
Семейный альбом
ОглавлениеСтарые фотографии. Конец XIX – середина XX века. Семейный альбом писателя, мало кем понятого при жизни и почти совсем забытого сегодня, спустя двадцать лет после его смерти.
Вот его любимая бабушка Мария Павловна, в девичестве Базунова, из рода известных петербургских книгоиздателей. Рано оставшись сиротой, она воспитывалась крестными родителями; в шестнадцать, по окончании гимназии, ее выдали замуж за Дмитрия Ивановича Конецкого, служившего бухгалтером на железной дороге. Дмитрий Иванович родился в Тихвине в 1830 году, был намного старше Марии Павловны, и на фотографии, сделанной на Вознесенском проспекте, он рядом с молодой женой выглядит осанисто и солидно: широкий высокий лоб, волосы на прямой пробор, густая борода, напряженный взгляд… В преклонном возрасте Дмитрий Иванович тяжело болел, был парализован и скончался в августе 1908 года.
Вот их дочери: Матрона, Ольга, Зинаида и младшая Любочка. Матрону дома звали Матюней, после театрального училища (1883) она танцевала в кордебалете Мариинки без малого два десятка лет. Там же почти три десятка лет пела в хоре окончившая консерваторию Зинаида, Зика. И младшая Любочка не миновала сцены: она была принята в миманс труппы Дягилева и вместе с Матроной побывала на гастролях в Париже, Лондоне, Берлине и Праге. Перед тем, в 1912 году, она окончила частный французский пансион Люси Ревиль (на Ново-Исаакиевской улице, 14) и отлично владела французским языком.
Писатель, о котором дальше пойдет речь, – Олег Базунов; а Любовь Дмитриевна Конецкая – его родная матушка. Именно матушкой предпочитал он ее величать, рассказывая в книгах о своем детстве. И еще вот какое обстоятельство: у Любови Дмитриевны было два сына, и оба стали писателями. В известности младшего, Виктора Конецкого, сомневаться не приходится, особенно он почитаем на флоте, его имя носит океанский танкер; издано восьмитомное собрание его сочинений, а телевидение регулярно демонстрирует популярный «Полосатый рейс», снятый по сценарию Конецкого более полувека назад.
Любовь Дмитриевна в апреле 1917 года, как сообщает Т. В. Акулова[1], вышла замуж за университетского студента юриста Виктора Андреевича Штейнберга, сына дантиста, имевшего свою вывеску на Садовой улице. Невесте «было 23 года, жениху – 24. Венчались молодые в Эстонской Исидоровской православной церкви. На венчании Любовь Дмитриевна уронила кольцо – плохая примета…». Их брак, по словам Т. В. Акуловой, «поначалу был счастливым. Веселый, быстро располагающий к себе Виктор Андреевич был и собой хорош – одни усы чего стоили. За усы и поклонение женской красоте в семействе был он прозван Мопассаном». В августе 1916-го Виктора Андреевича призвали в армию и направили санитаром в военно-полевой госпиталь. На одной из фотографий он в военной форме, невысокий, сухощавый, с цепким взглядом из-под фуражки с кокардой, и усики у него еще вовсе не «мопассановские».
После революции Виктор Андреевич работал в технической комиссии народного банка, потом служил следователем в районной прокуратуре. У них с Любовью Дмитриевной долго не было детей, и только в 1927-м родился Олег, а в 1929-м – Виктор. Казалось, ничто не мешало их счастью, но через два года брак распался. Женившись вторично, Виктор Андреевич не переставал бывать в доме на канале Круштейна (прежде и сегодня – Адмиралтейский) и заботился о детях.
Необъяснимая для совсем еще несмышленых братьев семейная драма, сумятица родительской распри («Бедный и любимый отец… Пожалуй, он был еще несчастней Любочки Конецкой…» – сокрушался впоследствии Виктор) оставила жесткий рубец в детском сознании. На фотографиях тех лет Олег и Виктор всегда вместе: гуляя на Конногвардейском бульваре, на дачной веранде, голышом на озере, в домашнем кресле в обнимку с матерью. «Ни разу на протяжении своей долгой жизни Любовь Дмитриевна, – по словам Т. В. Акуловой, – не рассказывала сыновьям о том, что пережила в те годы».
В июле 1933-го умерла Мария Павловна, любимая бабушка Олега. На одной из последних ее фотографий он уютно устроился у нее на коленях и внимательно смотрит в объектив.
А в середине 1930-х несчастья настигли и дочь Марии Павловны Ольгу, родившуюся в 1878-м и в 1896 году вышедшую замуж за Сергея Петровича Васильева, дворянина, полковника в Первую мировую войну. В 1920-е годы он работал корректором в Академии наук, в 1929-м его арестовали, но по счастливому стечению обстоятельств отпустили, в 1935-м арестовали вновь, выслали в Саратов и в 1937-м расстреляли. Тогда же осудили на десять лет лагерей Ольгу Дмитриевну, а их старшая дочь Кира, выпускница Ленинградской консерватории, добровольно поехавшая с родителями в ссылку, в заключении ослепла, сошла с ума и умерла в саратовской тюремной больнице в 1939 году.
Виктор Андреевич меж тем уверенно шагал по карьерной лестнице. С 1937 года он уже помощник прокурора Октябрьской железной дороги по надзору за следствием. В заметках «Из семейной хроники» Виктор Конецкий писал: «Увы, биография отца настолько темное дело, что мне ее уже не распутать… Молчать отец умел замечательно, даже сильно выпивши <…>. Был он революционным романтиком, а все романтики – в чем-то наивные и хорошие люди». В книгах Олега об отце не сказано, кажется, ни слова.
Растить и воспитывать в одиночку двух своевольных мальчишек Любови Дмитриевне было непросто – при ее мизерной зарплате соцслужащей да еще после коварной болезни, которая время от времени давала о себе знать. Виктор Андреевич детям помогал, навещал «когда мог и хотел», однако его визиты для Любови Дмитриевны обычно заканчивались серьезной нервной встряской. Братья тоже никак не сулили ей покоя и нередко бунтовали. Мать, вспоминал Виктор, наперекор бедности одевала их на свой вкус – в коротенькие штанишки, бархатные курточки и беретики, за что он в школе получал немало тумаков и удостоился клички Гогочка. Учебу братья, мягко говоря, не жаловали, надолго сохранив неприязнь к «школьной каторге».
Однако при очевидной бедности Любовь Дмитриевна умудрялась летом отправляться с детьми на пригородную дачу, а то и на юг. «Где-то в сороковом, – вспоминал Виктор, – мать повезла в Крым. Мисхор. Алупка. Запах нагретых солнцем незнакомых трав, колючих зарослей. Полное безразличие к морю и любовь к козам, которые бодаются и делают это довольно свирепо. Юной девушкой мать была там когда-то счастливой и влюбленной. Потому, верно, и повезла нас в такую дорогую даль. Да, через отца – ему был положен бесплатный проезд, отец работал в транспортной прокуратуре…»
И когда в июне 1941-го внезапно грянула война, они тоже были на юге, на Украине, недалеко от гоголевской Диканьки. «Около четырех часов, – вспоминал Виктор, – мать разбудила меня и брата, и мы вышли во двор, где справа были клетки со спокойно пока жующими кроликами, слева хлев со спокойно пока жующими коровами, а с запада, из-за реки Ворсклы… из за кукурузных полей, по чуть светлеющему небу, очень низко, пригибая все торжествующим ревом, шли на Харьков или Киев эскадрильи тяжелых бомбардировщиков, и мы отчетливо видели черные кресты на их крыльях…»
Так в первые же часы войны повеяло на братьев той непередаваемой смертной тревогой, которая не исчезла и когда они с матерью в толпе беженцев тащились на восток, и в случайно подвернувшемся эшелоне с детьми, следовавшем в Ленинград, и когда попали под бомбежку на полустанке Валя. В подробностях обо всем этом рассказывал потом Виктор. И о том – как ранило Олега: две маленькие бомбы взорвались метрах в двадцати, «его приподняло взрывной волной, пронесло довольно далеко – и замедленно, как в замедленном кино, швырнуло на землю». Когда Виктор с матерью к нему подбежали, «глаза у него были открыты, но шок оказался глубоким. Он был ранен осколком бомбы в левую руку между плечом и локтем. Более другого, – признался Виктор, – меня поразил чистейшей белизны кусочек кости, который отлично был виден в окружении разорванных мышц…»
Они кое-как добрались до Ленинграда. А к городу уже приближалась блокада.
Ни о войне, ни о блокаде Олег Базунов в своих книгах не вспоминал. О том, что они тогда пережили, скупо и неохотно рассказывал Виктор.
В их квартиру на канале Круштейна вместо эвакуировавшегося скрипача Мариинского театра вселили рабочего Кировского завода, он перебрался с улицы, где уже пролегла линия фронта. В семействе ра бочего было десять детей. «Они быстро умирали. Их трупики старшие складывали в коридоре квартиры…» Властям о смерти детей не сообщали, чтобы использовать на какой-то срок хлебные карточки умерших. «На рубеже сорок первого и сорок второго годов, – вспоминал Виктор, – за хлебом в булочную надо было отправляться рано утром до открытия… Света в коридоре и передней не было. На вход и выход мы пробирались, ощупывая в темноте трупы, сложенные вдоль стены. Несмотря на уличный мороз в квартире, запах разложения был и страх перед трупами сохранялся, но тусклый страх, монотонный… страх перед мразью тления…»
Царившая в городе смерть бесцеремонно вторгалась в отношения самых близких людей. Одного эпизода достаточно, чтобы почувствовать, перед каким выбором родные люди зачастую оказывались: «Декабрьские и январские морозы были ужасными, – вспоминал Конецкий. – И у брата началось воспаление легких. В тот вечер пришла Матюня. Окоченевшая, скрюченная. Тащилась откуда-то и забрела обогреться. Ей предстояло идти до улицы Декабристов, где они жили вместе с Зикой…» Мать варила какую-то кашу из чечевицы и, «понимая, что если Матюня задержится, то ей придется отдать хоть ложку варева, ее выпроводила, грубо, как-то с раздражением на то, что сама Матюня не понимает, что ей надо уходить…» Уходить от огня буржуйки, от запаха пищи. «И Матюня – этот семейный центр любви и помощи всем – ушла. Она глубоко верила в Бога, так, как нынче уже никто в современном мире не верит…» Вспоминая ужас перед тем, что делает мать, и крик брата: «Пусть Матюня останется!» – Конецкий пишет: «Но у матери были свои предположения на наш счет. Она лучше знала, сколько в каждом осталось жизни или сколько в каждом уже было смерти».
Матюня и Зика умерли через несколько дней, и описание их смерти – одна из самых пронзительных страниц в прозе Конецкого.
Любовь Дмитриевна с детьми была вывезена из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера 8 апреля 1942 года. В эвакуации они сперва жили во Фрунзе, потом в Омске. Во Фрунзе, как сообщает Т. В. Акулова, Олег «работал помощником чабана, в Омске – на 208-м военном заводе электриком, получал рабочую карточку. Там его ударило током, и рабочие закопали его в землю, чтобы спасти. В эвакуации закончил восьмилетку».
Что было дальше?
Осенью 1944 года семья вернулась домой, на канал Круштейна.
В феврале 1945-го Олега призвали в армию, и он, окончив шоферские курсы, попал в 20-й фронтовой запасной автополк – вывозили военную технику из Кенигсберга на немецких грузовиках и перегоняли ее в Ленинград. На фотографии той поры стриженный под ноль рядовой Базунов в застиранной гимнастерке уж никак не похож на бравого воина.
Осенью 1945-го, с началом учебного года, одновременно с братом Олег был зачислен в Ленинградское военноморское подготовительное училище, расположенное сравнительно недалеко от канала Круштейна, в Приютском переулке, 3. «Один блат в моей жизни был, – признавался как-то Конецкий, – отец был знаком с начальником училища Николаем Юльевичем Авраамовым и замолвил за нас с братом слово. За войну мы отупели и экзамены как положено выдержать не могли… Днем учились, а по ночам ремонтировали училище, вытаскивали бревна из Обводного канала, разгружали вагоны на железнодорожных вокзалах, готовились к парадам, ночью же ходили в баню…»
Училище, в просторечии «подгот», считалось строгим флотским заведением, имело фундаментальную библиотеку, там давали серьезное специальное образование, но неписаные законы поведения меж курсантами, по словам Конецкого, были под стать «законам бурсы». После двух лет «подгота» Олега, как и полагалось, направили в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе (на набережной Лейтенанта Шмидта), – с третьего курса гидрографического факультета он демобилизовался. То ли по состоянию здоровья, то ли по каким-то иным причинам.
С этого момента пути Виктора, посвятившего флоту всю свою жизнь, и Олега, расставшегося с флотом добровольно, разминулись. Но и короткий опыт пребывания во флотской среде был неоценим: в этой среде существуют свои, овеянные традицией, представления о чести и долге. «Точно замечено, – утверждал Конецкий, – что флот всегда отличался тем, что, будучи невыносим для людей определенного вида, выталкивая их из себя, успевает, однако, дать им нечто такое, что потом помогает людям стать заметными на другом поприще, как бы оно далеко от флота ни отстояло».
В семейном альбоме есть фотография, на которой братья в форме морских курсантов сняты вместе с отцом; он в кителе, при офицерских погонах военюриста. Все трое пристально и как-то недоверчиво смотрят куда-то в сторону, в одну точку, словно ждут ответа на какой-то объединяющий их молчаливый вопрос, не подозревая – каким будет ответ.
1
Татьяна Акулова. Материалы к биографии Виктора Конецкого // Виктор Конецкий. Лети корабль! СПб., 2003. С. 42. См. также: Благодаренье снимку… Семейный фотоальбом Виктора Конецкого. СПб., 2009.