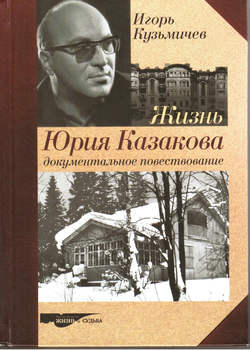Читать книгу Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование - Игорь Кузьмичев - Страница 3
Глава 1
«Самое печальное время…»
ОглавлениеЮрий Казаков родился в Москве и долго жил на Арбате. Сознание кровной причастности к этой легендарной улице с детства вселяло в него особую гордость, одаривало счастливым, победительным чувством вершинности. «Мы считали, – вспоминал Казаков арбатских мальчишек, – что мы лучшие ребята в мире! Родились не только в Москве, в столице нашей Родины, но и в „столице Москвы“ – на Арбате. Мы друг друга называли земляками».
Казаков жил в доме 30, где спокон веку находился знаменитый «Зоомагазин», а едва ли не напротив, наискосок, в доме 43, жил в детстве Булат Окуджава, элегически воспевший «арбатство, растворенное в крови» и запечатлевший в «Упраздненном театре» свой неказистый двор: «Квадрат из трех двухэтажных флигелей и главного четырехэтажного… Посредине – большой помойный ящик. Асфальт и редкая блеклая травка кое-где. Родина… Одно старое дерево неизвестного племени возле помойки, под которым сидят старые няньки. Здесь дети играют в „салочки“, в „прятки“, в „классики“, познают „нехорошие“ слова и, распахнув до предела свои жадные глазки, наблюдают, как в подворотне пьют из горлышка взрослые дяди и тети…» Детская душа рвалась во двор, где «домашние несчастья тускнели и никли»: «Там бушевали иные страсти, их грохот сотрясал землю, но это был возвышенный грохот, а не томительное, почти безнадежное домашнее увядание».
То было «до войны», но и потом, в скудные и настороженные послевоенные годы еще торжествовала на Арбате молчаливая солидарность воспетых Окуджавой переулков и дворов, постигающих науку «презрения к дурным предчувствиям». Еще был властен непререкаемый дворовый «кодекс чести». Впрочем, так было не только на Арбате. Андрей Вознесенский, обитавший в Замоскворечье, вспоминал: «4-й Щипковский переулок! О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральных жосточек, майских жуков – тогда на земле еще жили такие существа. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом „Рио-Риты“ из окон и стертой, соскальзывающей лещенковской „Муркой“, записанной на рентгенокостях. Двор был котлом, клубом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. Мы знали все…»
Юрий Казаков родился 8 августа 1927 года, восемнадцать ему исполнилось в год Победы. Булат Окуджава – такой же «дворянин арбатского двора», но на три года постарше, – уйдя в 1942-м школяром-добровольцем на фронт, успел к тому моменту повоевать, был ранен, а Андрей Вознесенский, будучи на шесть лет моложе Казакова, и после войны оставался мальчишкой, «мелюзгой двора».
Возрастная граница, разделявшая воевавших и невоевавших, пролегала где-то поблизости. Тот, кто побывал в окопах или хотя бы в военном училище, претендовал на право считать себя неизмеримо взрослее своего чуть младшего сверстника, не державшего в руках винтовку. Но все же граница эта, с годами совсем стершаяся, была условной: каждый получил от судьбы свое.
Булат Окуджава – фронтовик, а вот, скажем, Юрий Трифонов, и Юрий Казаков, и Георгий Семенов, и Андрей Вознесенский – все они родились в Москве между 1925 и 1933 годами – люди, собственно, исторически одного промежуточного поколения, видевшие Отечественную войну воочию и познавшие ее на личном, пусть полудетском опыте. Люди поколения «если не воевавшего, то хлебнувшего», как выразился Виктор Конецкий, родившийся в 1929 году в Ленинграде и там же перенесший в 1941–1942 годах роковую блокадную зиму.
Казаков с грустью вспоминал свой тесный неухоженный арбатский двор, свою убогую коммуналку. «Вы, наверное, не раз видели мой дом на Арбате, где „Зоомагазин“, – говорил он как-то в интервью. – Удивляюсь сейчас многотерпению моих соседей: каждый божий день играл я на контрабасе. К счастью, это не скрипка, звук глухой – и не жаловались. Понимали, что человек „учится музыке“. Кстати, в нашем дворе жил Рихтер со своей женой Ниной Дорлиак. И когда летом, с открытыми окнами, он играл на рояле, а она пела, я бросал все и слушал. Правда, тогда я не знал еще, что он – Рихтер…»
Послевоенная Москва, пока не тронутые бульдозером арбатские переулки, полуголодная юность, занятия музыкой…
О многом не знал Юрий Казаков, когда учился играть на контрабасе. И о том, что уготовано ему не музыкальное, а литературное поприще, тоже вряд ли догадывался. Ни по рождению, ни по домашнему воспитанию он не был интеллигентом, рос в рабочей, едва сводившей концы с концами, семье. В «Автобиографии» (1965) сообщил: «В роду нашем, насколько мне известно, не было ни одного образованного человека, хотя талантливы были многие. Таким образом, я – первый человек в нашей родне, занимающийся литературным трудом». Что скрывалось за этими словами? Горделивое смущение? В разные годы Казаков по-разному рассуждал о пользе собственного образования, но, считая себя фаталистом, в талант, дарованный ему свыше, веровал свято. Его увлечение музыкой и беспокойная тяга к сочинительству были спонтанными…
Позже, когда стал он признанным прозаиком, его художественная культура воспринималась порой как врожденная, наследственная, делались даже попытки объяснять ее «секретами» далекой казаковской родословной, – и в этом слышалось что-то от семейной легенды.
В. Турбин после смерти Казакова размышлял о том, что в Казакове всегда чувствовался неожиданный, но «подлинный, высочайшей пробы» аристократизм. «И поверь мы в учение, предполагающее прохождение нашими душами вереницы мирских воплощений, – писал В. Турбин, увлекаясь, – я увидел бы Казакова где-нибудь в XIV столетии: в предыдущем воплощении был он, вероятно, боярином русским. Из каких-нибудь северных, вологодских бояр. Его вотчина таилась в дебрях лесных, на брегах шелковистых синих озер; и дом у боярина был, конечно же, полная чаша, и в охоте знал толк боярин, и в ратных делах…»
Что и говорить, – сказочный, величавый образ!
Красивая догадка, в которой, как знать, есть, наверное, и своя доля истины, хотя более точен В. Турбин, когда упоминает о широте и артистичности натуры Казакова, о его природном достоинстве, о том, что Казаков одинаково естественно смотрелся бы «на дипломатическом приеме высшего ранга и в компании отчаянных лесорубов где-нибудь в забытом богом леспромхозе; в утонченном философском обществе и в железнодорожном вагоне, расхлябанном и замусоренном, битком набитом самым шалым народом».
Кое-какие детали казаковской родословной, судя по всему, проглядывают в рассказе «Розовые туфли», где, видимо, отложились, пусть и в трансформированном виде, семейные предания о пращурах писателя. Один из этих пращуров, странник и молельник, с лица был темен, как икона, бороду имел белую, апостольскую, глаза голубые, как «небушко утром», на половине жизни он в одночасье ослеп, но прожил до ста шестнадцати лет и помер в Великом Устюге по пути в Соловки. Другой же, донской казак, отчаянный ухарь, в 1812 году дошел с Платовым до Парижа, а вернувшись с войны, поселился в смоленской деревне, в Дорогобужском уезде и прославился там как мастер-сапожник и знаменитый по уезду скрипач, причем он сам и скрипки делал, и детей своих выучил играть на разных инструментах, – да сгубила его страсть к вину…
А вот Э. Карпачев, воспроизводя в воспоминаниях «Повесть о несбывшемся разговоре» не однажды слышанный им от Казакова устный рассказ, сообщает: один из прадедов Казакова, на самом деле, ослеп в шестьдесят лет, слепцом отправился в Иерусалим ко Гробу Господню, взяв себе в поводыри двенадцатилетнего мальчика; их пешее путешествие туда и обратно длилось семь лет, а вернувшись, прадед Казакова прожил еще долго и скончался совсем древним старцем. «Почти фантастическая небывальщина этого предания, – по словам Э. Карпачева, – всегда как-то по-новому потрясала Юрия Павловича…»
Что же до родителей Казакова, то и отец его, и мать, действительно, выходцы из крестьян Смоленской губернии. Еще в отрочестве устремились они в Москву в поисках заработка, в надежде на городскую удачу. Отец писателя, Павел Гаврилович Казаков (1901–1974), сын сапожника, очутился в столице подростком и устроился на первых порах в небольшую типографию учеником наборщика. А мать, Устинья Андреевна (1900–1984), как она сама мне рассказывала, девчонкой еще, незадолго до революции, служила в няньках по московским господским домам, потом была подсобницей на каком-то военном заводишке, отравилась там однажды газом, позже выучилась на медсестру и часто меняла места работы.
В дневнике 1958 года Казаков записал: «А во сне мне приснилось вдруг далекое-далекое, кусочек самого раннего детства, когда мама работала в амбулатории завода им. Бадаева, и я часто бегал и играл там один по вечерам. Амбулатория помещалась в мрачном здании готического стиля, там же, где были цеха розлива и внизу подвалы. Вечерами она была особенно сумрачна и страшна своими запахами, своим светом и тишиной. А пахло там сложно: сиропом, пивными дрожжами, лекарствами, асфальтом – залы этого здания были покрыты асфальтом, и он впитывал в себя многолетние лужи, – пахло йодом, кислотами и еще чем-то вроде анатомического театра, – жутко мне было бегать и лазить там одному, тогда мне было 5 лет».
Павел Гаврилович, человек добрый и общительный, мастер на все руки, наборщиком не стал, отслужил положенный срок в Красной Армии, работал много лет плотником, сантехником и в Москве быстро «пролетаризировался». А Устинья Андреевна, проведя в огромном городе всю жизнь, напротив, сохранила в себе и крестьянскую прижимистую хватку, и знание сельских обычаев, и самобытную народную речь.
Воспоминания о деревенском прошлом, о родной Смоленщине в семье не затухали. В годы детства, говорил Казаков, когда в Москве собирались вместе братья матери, тут же в их разговоре начинали проскальзывать деревенские словечки и выражения, а позднее, отправляясь летом в деревню, он ловил себя на мысли, что «все это уже видел: забыл, а тут вдруг вспомнил». Неожиданные, не правда ли, ощущения для столичного, арбатского жителя – забыл и вдруг вспомнил!
Тем не менее за этими ощущениями скрывается фундаментальное свойство личности Казакова: его, я бы сказал, глубинная память, душевная интуиция, обостренное чувство причастности к своему семейному роду, бессознательное стремление вопрошать чуть ли не доисторическое прошлое и неведомо какими путями угадывать ответы на свои нетерпеливые вопросы.
Не следует, конечно, забывать, что ощущения эти вызрели у Казакова по прошествии лет. А в детстве, – о котором он ни в беседах, ни в своих рассказах вспоминать не любил, детство, как заметил он в письме ко мне, было у него «весьма и весьма бедно событиями (если не считать войну, да войной кого удивишь?)», – в детстве его еще не пробудившееся сознание словно бы окутывала душевная дрема: было в его житейских обстоятельствах нечто сковывающее, какая-то подавленность и сирость, нечто мешавшее ему дышать полной грудью.
Начать с того, что в начале 1930-х годов Павла Гавриловича осудили на трехлетний срок высылки из Москвы, – кто-то донес, что он в рабочей компании за кружкой пива упомянул о голоде и бунте на Тамбовщине, – и судьба его была надолго предрешена, у властей он постоянно числился в «неблагонадежных», – и это не могло не сказаться на положении его семьи. Павел Гаврилович явным «врагом народа» не считался, но тень подозрения лежала на нем прочно. «За что сломали человеку жизнь (а сыну надломили)… Не писатель, не артист, не офицер, не промпартиец.
Сантехник…» – недоумевала Тамара Жирмунская, вспоминая юного Казакова, настороженного и ранимого, и его коммуналку, где ей доводилось бывать.
В пятнадцатиметровой комнате, перегороженной старой мебелью на «столовую» и «спальню», помещалось четыре человека, Устинья Андреевна воспитывала сироту-племянницу. Она рассказывала Жирмунской – какой «Юрочка музыкальный» определили еще в детском саду: «Приведу его домой – в руки балалайку… Он радио слушает и мотивы подбирает. Залихватски „цыганочку“ играл…» Позже освоил аккордеон, случалось подрабатывать на танцах. Польза была очевидной. А вот сочинительства Устинья Андреевна, по словам Т. Жирмунской, никак не одобряла, повторяла, что литература – жестокое дело, что знай она это раньше, нипочем бы не пустила сына на это поприще: «Она так и выразилась по старинке: „поприще“». В раннем детстве Казаков читал мало. Было не до того. Надо было выживать, полагаясь лишь на самих себя. Устинья Андреевна была женщиной грубоватой, напористой, с готовностью встречала любые жизненные передряги и в семье, безусловно, главенствовала.
В годы войны все у них с матерью упиралось в заботы «о хлебе, одеже», о том, как обменять карточные талоны на продукты, они откровенно голодали, соглашаясь на самую черную работу. По рассказам Устиньи Андреевны, они с сыном возили кряжи для топки бани, разгружали баржи с картошкой и капустой в осажденной Москве, чистили кирками лед на Крымском мосту… Чтобы как-то помочь семье, Казакову не терпелось поскорее обрести самостоятельность, получить конкретную профессию, определиться при деле. Словом, после восьмого класса, в 1944 году, он поступил в московский Архитектурно-строительный техникум, а в 1946-м – в Музыкальное училище имени Гнесиных.
Военное отрочество, послевоенная юность – глухая, безрадостная полоса в биографии Казакова.
Много лет спустя в письме к Эдуарду Шиму он жаловался: «А вообще-то грустно, как начнешь перебирать юность, не знаю, как у тебя, – у меня это самое печальное время. Хоть брось!..»
Спасительной отдушиной обещала стать музыка. В 1942 году Казаков учился в музыкальной школе по классу виолончели. «Но так как заниматься музыкой я начал довольно поздно (с 15 лет) и пальцы мои были уже не столь гибки, то я, – рассказывал он, – скоро понял, что виртуозом-виолончелистом мне не стать, и перешел на контрабас, потому что контрабас вообще менее „технический“ инструмент, и тут я мог рассчитывать на успех».
В училище имени Гнесиных Казаков попал в класс профессора В. В. Хоменко, с которым у него установились добрые отношения. По первому впечатлению, Казаков показался преподавателю «несколько замкнутым, очень мягким по характеру, с ласковыми глазами юношей», но потом выяснилось, что юноша этот и самолюбив, и наделен недюжинным упорством. «Эта завидная его черта, очень важная для будущего музыканта-профессионала, весьма подкупила меня», – вспоминал профессор, рассказывая, как, несмотря на бедность в семье и отсутствие дома инструмента, Юра Казаков «самозабвенно и горячо» осваивал контрабас. Разумеется, не все и не всегда у него получалось. «Часто, придя на урок с хорошо подготовленным заданием, – вспоминал В. В. Хоменко, – Юра по-детски радовался за себя и был счастлив до покраснения лица, особенно когда я оставался доволен им и хвалил его хорошую игру… Но бывали и такие моменты, когда после урока он чувствовал себя, что называется, не в своей тарелке, и тогда он погружался в молчаливое уныние и грустное отчаяние».
Музыка сослужила Казакову добрую службу, однако, как выяснилось, занятия ею не слишком способствовали его образованию и взрослению. «Когда я занимался музыкой, – признавался Казаков впоследствии, – то главным считал не культуру музыканта, а технику, то есть чем лучше ты играешь, тем больше тебе цена. А чтобы играть хорошо, надо шесть-восемь часов заниматься. Потому-то многие прекрасные музыканты инфантильны, чтобы не сказать больше… Словом, мое занятие музыкой сыграло и такую роль: в Литературный институт я поступил, литературу художественную зная на совершенно обывательском уровне…»
Что же касается детства, то, поддаваясь давнему, но не забытому, так и не изжитому до конца душевному гнету, Казаков о своем суровом, нескладном детстве распространяться – повторяю – не любил. И не отличался, как большинство его литературных сверстников, желанием вспоминать о военном лихолетье, хотя Великая Отечественная война в его сознании навсегда запечатлелась как первый грозный рубеж их общей судьбы.
…Ровесники Казакова, люди его поколения, предъявляли войне свой неоплаченный счет. Одни из них детьми узнали унижение плена и каторгу немецких арбайтслагерей, другие вынесли на себе кошмары ленинградской блокады, третьи хлебнули горя, попав в неисчислимые потоки беженцев, и даже те, кто не мыкался по военным перепутьям, а вроде бы сравнительно спокойно жил в глубоком тылу, где-нибудь в алтайской деревне или на далекой сибирской станции, не могли не слышать каждодневного дыхания фронта. Как бы по-разному ни складывались их личные биографии, чувство общей судьбы, чувство пережитой в детстве несправедливости и обиды никогда не покидало их.
Чем обернулась для них война?
Василий Шукшин:
«В войну, с самого ее начала, больше всего стали терзать нас, ребятишек, две беды: голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами… Будь она трижды проклята, эта зимушка-зима!..»
Виктор Конецкий:
«На рубеже сорок первого и сорок второго годов за хлебом в булочную надо было отправляться рано утром, до открытия. Иначе можно было остаться и без ста двадцати пяти граммов. Света в коридоре и передней не было. На вход и выход мы пробирались, ощупывая в темноте трупы, сложенные вдоль стены. Несмотря на уличный мороз в квартире, запах разложения был. И страх перед трупами сохранялся, но тусклый страх, монотонный, страх без страха перед неожиданным испугом, страх перед мразью тления…»
Анатолий Приставкин:
«Нас было в спальне одиннадцать человек. У каждого из нас на фронте был отец. И при каждой похоронке, приходившей в детдом, одиннадцать маленьких сердец замирали. Но черные листки шли в другие спальни. И мы облегченно вздыхали и начинали опять ждать отцов. Это было единственное чувство, которое не угасало всю войну…»
Виталий Семин:
«Почти все лагерные полицейские были пожилыми людьми. Они подошли к тому возрасту, за которым человека в Германии называют „опа“. Опа – дед, старик, старина, отец… Опы действовали быстро, жестоко и весело. Били не только гумой – резиновой палкой, но ногами, руками и тем, что в этот момент попадало под руку. Тогда я понял, что такое выворачивающая душу ненависть. Душа выворачивалась именно оттого, что, как сказали бы теперь, разрушалась вся система моей ориентации в этом мире. Обманывали вернейшие, определяемые самим инстинктом признаки благоразумия, снисходительности, доброты…»
Так свидетельствовали они сами, и это от их имени говорил на одном из писательских съездов Евгений Евтушенко: «Наше поколение по возрастной причине не участвовало в Великой Отечественной войне, но горечь первых отступлений, страдания под гнетом оккупации, блокадный голод, липкий хлеб эвакуации пополам с полынью и лебедой, шелест похоронок в руках наших матерей, смертельный страх потерять продуктовые карточки, спрятанные в холщовый мешочек на шее, – все это было суровой начальной школой нашего поколения. Когда нам не хватало тетрадок, мы писали диктанты на газетах, между строк сообщений Информбюро, и мы были сами похожи на эти хрупкие, неуверенные буковки между строками истории нашего народа… Война унижала нас голодом, холодом, нищетой, и в то же время война возвышала нас ощущением причастности к истории, ощущением самих себя как части великого народа, единого в своем стремлении к победе. Мы – дети Великой Отечественной войны, мы – это зеленые, еще некрепкие побеги на древке знамени Победы, водруженного над рейхстагом…»
Зеленые, еще некрепкие побеги…
Да, они рано узнали, что такое голод и холод, что такое печаль бездомья и тоска военного неуюта. Они рано увидели смерть вблизи, испытали страх перед ее тупой силой, росли они чаще всего без отцов, без требовательной мужской заботы, на всю жизнь уверовав в непререкаемую женскую опеку, в самоотверженную (иногда до деспотизма) любовь матерей. Ожесточаясь и дичая, они воспринимали войну обнаженной, ранимой душой подростков – и потому острее и трагичнее взрослых.
Не солдаты-победители, а удрученные своим бессилием дети, страдающие оттого, что судьба не позволила им распрямиться во весь рост в самую нежную пору их становления, позабыв их между строками истории. Они знали о войне свою, лишь им одним ведомую правду, они яростно ненавидели фашизм и рано или поздно должны были рассказать об этом в своих книгах. Память о войне, о своем попранном детстве позвала их в литературу.
Стоит перечитать рассказы, повести и романы Виталия Семина и Владимира Ляленкова, Виктора Голявкина и Рида Грачева, Виктора Конецкого и Глеба Горышина, Василия Шукшина и Василия Белова, Майи Ганиной и Майи Данини, Эдуарда Шима и Георгия Семенова, Михаила Рощина и Анатолия Приставкина, стоит припомнить стихи Глеба Горбовского и Евгения Евтушенко, посмотреть фильм Андрея Тарковского «Иваново детство», – и будет ясно: им выпало на долю соприкоснуться с историей в «минуты роковые»…
Казаков в ноябре 1959 года писал В. Ф. Пановой: «Я в Москве был всю войну и уверен, что война в огромном городе имеет особенный привкус, особенную страшность, потому что, когда миллионы людей катастрофически падают из нормальной жизни в ненормальную, это что-то более гнетущее, чем взрывы бомб и снарядов в поле, в лесу, по деревням, словом – война пространственная. Да, когда большой город погружается во тьму, а дети в муках сравниваются со взрослыми, это потрясает…»
Будучи крайне требователен к себе, Казаков осторожно, но все-таки примеривался к жгучему военному материалу, задумываясь как раз над участью того человека, который оказался в детстве между строками истории.
В 1962 году, отвечая на анкету журнала «Вопросы литературы», Казаков говорил: «Со страхом и надеждой я приступаю теперь к антивоенной повести. Вот, кстати, важная проблема, может быть, самая важная сейчас, и страшно, что можешь написать об этом недостаточно сильно. Как я хочу написать об этом честно и сильно!»
Тогда же, в 1962 году, он рассказывал Конецкому в письме, что повесть «очень выходит необычная – с философией, прошлым, настоящим и будущим и называется так: «Возраст Иисуса Христа». Герою теперь тридцать три года, герой этот, – признавался Казаков, – в большой мере – я. О ком же писать кроме?»
Насколько можно судить по разным авторским высказываниям и по сохранившимся в архиве писателя наброскам, сюжетной основой повести с самого начала должно было послужить сопоставление двух ночей: первая заставала героя беспомощным тринадцатилетним мальчишкой, она была «полна страхами, плачем, горем и великим мужеством»; вторая – в назойливых, повторяющихся снах – настигала его через двадцать лет и заставляла казаковского героя перебирать в памяти события своей недолгой жизни, подводить итоги: теперь перед ним будто заново, будто в каком-то озарении открывался вечный, безбрежный мир, и герой отчетливо понимал свою силу и «свою ответственность перед судьбами людей».
Действие повести начиналось душным июльским вечером 1941 года, когда на крышу арбатского дома, где-то возле Вахтанговского театра, поднимались жильцы, чтобы «дежурить всю ночь, прятаться от зенитных осколков, слушать грохот выстрелов и взрывов, тушить зажигалки и смотреть сверху на горящую Москву».
Их было четверо: Василий, простой работяга (в одном варианте – заводской токарь, в другом – местный водопроводчик), грубый, но искренний, бывалый парень; татарка Фаина, дворничиха дома, маленькая, смуглая и тонкая, безоглядно влюбленная в Василия; восемнадцатилетняя мотогонщица Лена (Вероника), известная всему Арбату, девушка с «ангельски красивым лицом», еще совсем недавно гонявшая на своем «индиан-скауте» по цирковой стене, а теперь учившаяся на курсах медсестер; и наконец, музыкант, виолончелист Дима (Элигий).
Они были очень молоды, война еще воспринималась ими как «война вообще, для всех, для других»; каждый не сомневался, что он-то уцелеет вопреки всем напастям. Они были молоды, но все-таки взрослые, а пятым с ними на крыше оказался мальчик Коля.
«Это был мальчик как мальчик, с розовыми, пламенеющими на свету ушами, с белобрысой челкой и тем неопределенным цветом светлых глаз и с их трудно постижимым, переменчивым выражением, какие постоянно встречаются у ребят его возраста – а ему было тринадцать лет. Года полтора назад он начал быстро расти, вытягиваться и был теперь уже отрочески высок, но худ, длинноног, тонкорук, до дикости, до неимоверной красноты и испарины застенчив. Он, как почти все ребята его возраста, считал себя более взрослым, чем казался остальным, и поэтому малейшее пренебрежение к нему со стороны настоящих взрослых, его еще не переломившийся детский голос, его худоба и веснушки, проступающие даже сквозь загар, делали его излишне мнительным, поминутно проваливающимся в жаркий стыд и, что хуже всего, ясно говорили всем, что он еще мальчик».
Такова расстановка героев повести в первом ее эпизоде, а сам эпизод этот: бомбежка, во время которой Коля вместе со взрослыми, надрываясь и превозмогая страх, тушил зажигалки, потом взрывной волной его выбросило с чердака на лестничную площадку – могло убить либо искалечить, он спасся чудом, – а мотогонщицу Лену скинуло с крыши. Безвольное, мертвое тело Лены на битых стеклах дымного двора, раненые на Арбате, мать Коли, обезумевшая, «всклокоченная, с мокрыми от слез очками», бросившаяся к нему с «хриплым чужим криком», поверившая было, что он убит, что «понесли сыночка», – вся эта смертельно страшная картина навсегда врезалась в Колину память, ощущение пережитого легло роковым бременем на всю его дальнейшую жизнь.
И двадцать лет спустя, когда его уже величали Николаем Петровичем, когда он жил не на Арбате, а на Юго-Западе в отдельной квартире, работал на заводе, был давно женат и его сын Петя очень напоминал того Колю, ушедшего «навсегда во тьму времен», когда по поводу своих тридцати трех он обычно слышал: «О! Возраст Иисуса Христа!» – и почему-то стыдился, понимая, что «не совершил еще ничего легендарного», – посещали казаковского Николая Петровича сны, возвращавшие его в ту июльскую ночь над Арбатом.
Страхи повторялись, опять нависала война, уже атомная, опять опускалась ночь, и надо было куда-то бежать, где-то скрыться, «потому что сейчас это произойдет». Он метался, люди в подворотнях сдавливались, как под гробовой крышкой, рвались со двора на улицу, и над городом – это даже была не Москва! – вспыхивала и «заливала все вокруг невыносимым зимним блеском» атомная бомба… Николай Петрович просыпался в своей теплой постели, видел жену, слышал посапывание сына из соседней комнаты, немного успокаивался, но сердце у него болело и бил нервный озноб.
После таких снов Николай Петрович обычно окидывал взглядом всю свою жизнь, беспорядочно думал о прошлом и о том, что случилось неделю назад, – он «будто бы поднявшись, как космонавт над землей, а она перед ним поворачивается, и он, когда надо, сразу приближается и рассматривает пристально ту или другую картину, тот или иной день. Но сперва он все-таки вспоминает ту далекую ночь на крыше, а потом пути всех, кто там был тогда. Он знает, что Т убит под Вязьмой, и В тоже убит на Карельском фронте, а Ф умерла в Ленинграде, она в августе уехала в Ленинград и умерла там».
Герой повести думал о своем погибшем отце, о тысячах безвестных солдатских могил, разбросанных «по всей великой земле», и вставал перед ним вопрос: «Чем же я отплачу им за свою жизнь, когда я все больше забываю о них, как и вообще о всех предыдущих поколениях, каким же я должен быть умным, сильным и мужественным, чтобы жить теперь, чтобы знать все о своей земле и быть верным моему отцу, моему великому рабочему, и не дать ему погибнуть в себе?..»
Он с ненавистью думал о министрах, президентах и генералах, планирующих атомные «блицкриги», воображал их так, как видел в кинохронике: с раскрытыми ртами, перед микрофонами, над картами, на маневрах, и негодовал на то, почему эти немощные и противные старики, – они почти все старики! – чью «физическую слабость скрывают мундиры с наваченными плечами и грудью», по какому праву «все эти люди, родившиеся где-то на других континентах, задолго до того, как родиться ему, не знающие ничего о его жизни, тем не менее угрожают ему смертью».
И еще он думал об ученых, обо всех этих «отцах» всяческих бомб, об этом «племени роботов», и они представлялись ему марсианами из фантастических романов, существами, чуждыми всему живому, «всем полям и лесам и тихим рекам, любви, рождению». Взыскуя правды о самом себе, казаковский герой в своем мучительном самоанализе неизбежно приходил к осознанию себя правомочной, мыслящей частицей человечества, к сознанию своей личной причастности к судьбе будущего. Как человек, «появившийся для чего-то в один прекрасный день в этом мире и обреченный уйти из него в конце концов», он не искал в жизни высшего смысла – «смысл не ему решать», однако всем своим существом чувствовал, что, «если жизнь человечества бессмысленна, значит бессмысленна и его жизнь. А если жизнь всех неисчислимых миллиардов, прошедших и грядущих, наполнена смыслом, значит и его жизнь имеет великий, таинственный смысл в цепи всех поколений».
«Мир сегодня, – заявлял Казаков в 1963 году, – не просто дни без войны. Это бесконечное развитие жизни. Поэтому и повесть свою я задумывал и писал не только как антивоенную. Мысли ее героя обращены к главному – к историческим судьбам человечества».
Повесть не далась Казакову с единого замаха, замысел ее неоднократно корректировался и уточнялся. В 1964 году Казаков сообщал «Вопросам литературы»: «Сейчас у меня наступила интереснейшая пора в работе над повестью: я должен «сделать» некоторые архивные изыскания. Хотя время, о котором я пишу, еще живо в памяти всех нас, а время это – 1941 год, но это уже одновременно и история. И вот для того, чтобы эта история была как можно более точной, я хочу порыться в архивах Великой Отечественной войны. Никогда так не боялся самого себя, своей неумелости, как сейчас, во время работы над этой повестью. Повесть эта будет называться „Две ночи“».
И все же этот магистральный замысел, рожденный воспоминаниями о войне, не нашел осуществления.
В 1979 году Казаков рассказал, что в свое время наполовину написал «повесть о мальчишке, который пережил войну, бомбежку, 1941 год», – под названием «Разлучение душ». Действие ее должно было завершаться в начале шестидесятых годов в Кракове и Закопане. Тогда, согласно какому-то астрологическому «предсказанию», якобы следовало ждать «конца света» – и писатель использовал такое обстоятельство как своеобразный прием, перенеся в повесть «ту атмосферу».
«Возраст Иисуса Христа», «Две ночи», «Разлучение душ», «Самая длинная ночь» – вариации и осколки одного незавершенного произведения. Как подтверждают оставшиеся наброски, лирический герой Казакова («в большой мере – я») войну воспринимал в ее трагическом обрамлении и считал ее истоком своей гражданской биографии.
Думается, правы те, кто связывает первопричину казаковского писательства и сам тип его художественного мировосприятия как раз с этим, столь важным для автора, замыслом. «Столкновение с войной, пережитое Казаковым, когда он увидел, как в считанное мгновение мир человеческий рухнул и его сменила жуткая картина развала, – может, это столкновение и родило в нем художника с этим особым типом сознания? – писал в 1989 году критик С. Федякин, определяя сознание Казакова как «ностальгическое». – Может, этот ужасный миг, отпечатавшись в детской памяти и возвращаясь у взрослого уже писателя апокалипсическими уже кошмарами, и родил в Казакове то ощущение самоценности каждого мгновения, прожитого человеком на земле?» Да, очень может быть.
Те, кто пережил в детстве «этот ужасный миг», кого хотя бы раз настигало непередаваемое, непреодолимое и с годами, чувство внезапной потерянности, – когда за воздушной тревогой в твой обжитой, тихий мир впервые врывается смерть и ты, беспомощный, оказываешься с ней с глазу на глаз, когда рядом с тобой вдруг погибает человек, еще минуту назад о чем-то с тобой говоривший, а тебя окатывает ледяной страх и чувство вселенского одиночества, – так вот те дети действительно знали цену мгновению на грани жизни и смерти. Никогда не забывал об этом, о том, что смерть всегда рядом, а жизнь всегда висит на волоске, и Казаков.
Ломкое сознание тринадцатилетнего московского мальчишки, едва-едва пробудившись, испытало тогда напор поистине зловещей силы. Сопротивление этому напору и та нравственная высота, с которой, по зрелом размышлении, казаковский рассказчик оглядывал и судил самого себя с присущим ему максимализмом, должны были позволить, по мысли писателя, не подчиняясь всецело быту, вывести повествование на уровень высокой бытийности, не исключая библейской символики.
Эпиграфом к повести не случайно должны были послужить слова Иоанна Дамаскина: «Сосуд раздрася безгласен, мертвен, недвижим, таков живот наш есть: цвет и дым, и роса утренняя; воистину придите ибо узрите во гробех ясно где суть. Очеса и зрак плотский, все уведоша, яко трава, все погребишися. Велий плач и рыдание, велие воздыхание и нужда, разлучение душ, ада погибель, привременный живот, сень непостоянная, сон прелестный…»
Однако поиски писателя в этом направлении не осуществились, масштабный замысел не укладывался в уготованную ему форму, и о военном детстве мы у Казакова так почти ничего и не прочтем.
Разве лишь в рассказе «Зависть» (1965), где явно присутствуют мотивы неоконченной повести, герой, находясь на горном польском курорте, и впрямь услышал, что «какими-то йогами, какими-то умниками, мудрецами с Востока был предсказан конец света» (поляки всё не верили этому мистическому предсказанию и всё вспоминали пепел Освенцима и Варшавы), и под впечатлением этих слухов как бы исповедовался перед самим собой: «А я опять ушел, но уже дальше, в ту первую свою московскую ночь, когда я стоял на крыше под бомбежкой. Я увидел опять убитых и раненых и заваленные кусками стен улицы. Я увидел октябрь в Москве – баррикады, жирные туши аэростатов по бульварам, редкие, отчаянно громыхающие битком набитые трамваи. Пепел летел по улицам, временами где-то рвались снаряды. Листовки, как снег с неба, и в листовках обещание сладкой жизни. И мы на загородных полях, за Потылихой, ранние морозы, закаменевшая земля, неубранные вилки капусты, морковь, которую выковыривали палками. Противотанковые рогатки всюду, железобетонные колпаки, амбразуры в подвалах, патрули – полупустой город. Замерзающие дома, мрущие старухи, холод в квартирах, железные печки и всю зиму потом темнота, коптилки, лопнувшие трубы водопровода и бледные грязные лица. И все эти годы изнурительная работа грузчиком – дрова, уголь, рулоны бумаги, кирпич, потом слесарные мастерские, потом снег на крышах… Телогрейка, старые штаны, разбитые сапоги. И постоянный голод. Как это говорил тогда Василий на крыше? А, вот как: „Люблю повеселиться, в особенности пожрать!“ – все мы тогда любили повеселиться, да веселья не было. Я смотрел в те годы картину „Серенада солнечной долины“. Я смотрел на экран, как на тот свет, мне не верилось, что люди так могут жить где-нибудь. Потому что каждый раз после кино я шел домой в свою темную грязную конуру…»
В этих горьких воспоминаниях велика, без сомнения, доля авторской исповеди: страдающая память, невосполнимая утрата чего-то радостного и светлого, недоуменное чувство допущенной исторической несправедливости питают ее. И вопрос – как и почему такое стало возможно? – конечно же не мог не возникать перед Казаковым, как и перед каждым, кто испытал подобное в детстве.
Через двадцать лет после окончания войны, в мае 1965 года, Казаков, в очередной раз пытаясь ответить себе на этот вопрос, писал Конецкому из Малеевки: «И спраздновал я тут 9 мая лучше всех, потому что был один… Потому что, когда ты один, есть возможность подумать… Ведь все-таки мы существа мыслящие в некотором роде. И сидел я один на один с пол-литром «московской», изготовленной в пресветлом граде Калуге, и думал о фашизме. Не о фашистах, которые жгли, стреляли, тащили женщин к себе в постель, пили, сходили с ума, потом сами стрелялись, которые были потом убиты и разбиты и которые еще сейчас многие живы во всех частях света, – нет, я думал о самом высшем фашизме, о средоточии его, о человеке, который, достигнув власти, все подчиняет себе. Это не бесчисленные серо-зеленые солдаты шли на нас, это он их гнал, угрожая расстрелом. Это не генералы и штурмбанфюреры творили зло – зло творил он, потому что, дорвавшись до власти, он обожествил себя и стал над нацией, над человечеством. Ничто не делалось помимо его воли, и никто ничего не мог решить за него. Как бы ни были крупны остальные фашисты, они могли в лучшем случае советовать ему, соглашаться с ним, подсказывать ему и исполнять его волю. И чем лучше они советовали и исполняли, тем все более возвышались в его глазах и в собственных. Они даже становились наконец более фашистами, чем сам он, но все равно он был главный. Но все-таки не он был главное зло, а самое главное зло была система. Та система, при которой он мог зародиться, этот человек, этот вождь, диктатор, фюрер, мог подняться и существовать вопреки всему, во веки веков, пока он сам жив, потому что никаких демократий, никаких ограничителей при этой системе уже не было, и он не мог быть смещен…»
Те же размышления, – имевшие, безусловно, и отечественный подтекст, касавшиеся не только германского «фюрера», но вызывавшие в памяти собственного «вождя и диктатора», – содержатся и в набросках повести «Разлучение душ». Следует подчеркнуть, что в своей ненависти к фашизму Казаков был последователен и тверд. Участвуя в сборнике «Писатели высказывают свое отношение к войне во Вьетнаме» (Издательство Питер Оуэн, Лондон, 1967), он писал так: «Когда в далекой стране одна половина народа подстрекает другую, а сотни тысяч молодых американцев пересекают океан, чтобы убивать и быть убитыми, когда напалм и всевозможные бомбы сбрасываются на деревни из бамбука и вместо того, чтобы закатать рукава и взяться за работу, чтобы сделать жизнь на земле лучше, молодые американцы стреляют, вешают и жгут, когда они по приказу своего правительства творят то же самое, что немцы творили на нашей земле и на земле Европы всего лишь немногим больше чем двадцать лет назад, – тогда президент и его советники лгут, лгут пасторы, напрасно призывая благословенье божье, молясь о победе американского оружия. И генералы, журналисты и политические деятели лгут, превознося „подлинную демократию“ своей страны, потому что когда демократия творит зло, она перестает быть демократией».
В биографии казаковского лирического героя трагический опыт детства и юности всегда подразумевался. Но если литературные сверстники Казакова в своих книгах спешили излить не стихавшую в душе боль войны, то он долго держал эту боль в себе, предвидя, может быть, что ему еще придется задуматься над загадкой и возмездием детства, придется вернуться к вечной проблеме «разлучения душ» – в последних рассказах «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал» – и тогда уж выплеснуть застарелую боль наружу.
Об этих автобиографических рассказах речь впереди. Здесь же хотелось бы напомнить короткий эпизод из рассказа «Во сне ты горько плакал», неожиданно приоткрывающий завесу над тем, почему, помимо прочих причин, обратился Казаков со временем к писательству.
Я имею в виду проводы отца, относящиеся, как говорил мне сам Казаков, к 1933 году. Тогда-то, провожая отца, шестилетний Юра (с его собственных слов) испугался овчарки и начал заикаться. А через тридцать лет на вопрос: что заставило его взяться за перо? – ответил: «Я стал писателем, потому что был – заикой. Заикался я очень сильно и еще больше этого стеснялся, дико страдал. И потому особенно хотел высказать на бумаге все, что накопилось…»
Почему он стал писателем? Как рано поверил своему призванию?
Откроем юношеский дневник 1949–1953 годов, где звучит мучительная мысль об отце. 29 июля 1951 года: «Сегодня приехал из Солги. Гостил у отца. Тем сейчас находится мама. С легкой душой оставил я Солгу. Не очень-то понравилось мне там. Но вот приехал в Москву, и что-то тяжело на душе… Очень плохо складывается жизнь. Отца вижу два-три раза в год. Мама тоже часто и надолго уезжает к нему». 6 октября 1951 года: «Вот скоро три месяца, как мама живет с папой в Солге. А я тут один. Отца я вообще не вижу годами. Как плохо устроена жизнь!..» 17 ноября 1951 года: «Сегодня уехал отец в Шарью. Очень как-то тяжело от этого и пусто на сердце… Да, вот жил с нами папа, и мы частенько ссорились по поводу моей безработицы. А вот уехал – и грустно. Ведь я его год не увижу теперь. А может… и совсем. Очень тяжелая судьба у моего папы, очень тяжелая, и я его жалею всем сердцем, но помочь, к сожалению, не могу».
И рядом записи о своем писательстве. 6 февраля 1950: «Найти себя в творчестве, ощутить пульс жизни своей – в этом вся задача». 26 сентября 1951: «Я все-таки понемножку сейчас разрешаюсь от молчания и начинаю пописывать… Пишу тяжело, по многу раз исправляя написанное, но все же пишу…» 14 октября 1951: «Сегодня снова получил отрицательные отзывы о моей новой пьесе. Снова и снова злоба и отчаяние охватывают меня… Но все равно я буду писать. Я чувствую, что могу написать и напишу нечто очень яркое, свежее и талантливое. Пусть мне отказывают. Пусть! Но победа будет за мной…»
В наброске «Автобиографии» (1965), объясняя, что послужило для него первотолчком к писательству, Казаков говорил: «Я не помню сейчас, почему меня в одно прекрасное время потянуло вдруг к литературе. В свое время я окончил Музыкальное училище в Москве, года три играл в симфонических и джазовых оркестрах, но уже где-то между 1953 и 1954 годами стал все чаще подумывать о себе как о будущем писателе. Скорее всего, это случилось потому, что я, как, наверное, и каждый молодой человек, мечтал тогда о славе, об известности и т. п., а моя служба в оркестрах, конечно, никакой особенной славы мне не обещала. И вот я, помню, стал тяготиться своей безвестностью и стал попеременно мечтать о двух новых профессиях – о профессии дирижера симфонического оркестра и о профессии писателя или, на худой конец, журналиста. Я страстно хотел увидеть свою фамилию напечатанной в афише, в газете или в журнале».
Биография Казакова, начиная с детства, ничем, пожалуй, не примечательна, скорее заурядна. Сам он всегда отдавал себе в этом ясный отчет и по-своему даже настаивал на том, что жизнь, насыщенная неординарными событиями и приключениями, вовсе не обязательна для писателя. Поверхностной хронике писательского пути он противопоставлял самодостаточность «внутренней биографии». «Человек с богатой внутренней биографией, – утверждал Казаков, – может возвыситься до выражения эпохи в своем творчестве, прожив в то же время жизнь, бедную внешними событиями. Таков был, например, А. Блок».
Во взгляде на внутреннюю и внешнюю стороны человеческой жизни, – касалось ли это его героев или его самого, – Казаков всегда придерживался той точки зрения, что внутренние мотивы и побуждения человека в первую очередь достойны внимания того, кто захочет, как выражался особо чтимый Казаковым Лермонтов, «отгадать чужое сердце». «Во всяком сердце, во всякой жизни, – писал Лермонтов, – пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, а они-то самые важные и есть, они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам».
Подобный взгляд был издавна свойствен русской литературе. Друг Лермонтова В. Ф. Одоевский, полагая, что «нет ничего интересней второй жизни человека», а она лишь иногда прорывается наружу, «оставаясь всегда скрытой, как некая тайна», заметил: «Материалы для жизни художника одни: его произведения. Будь он музыкант, стихотворец, живописец – в них найдете его дух, его характер, его физиономию, в них найдете даже те происшествия, которые ускользнули от метрического пера историков…»
И молодой Герцен, памятуя о кровной взаимосвязанности внутренней жизни писателя и его художественных созданий, утверждал: «Я решительно хочу в каждом сочинении моем видеть отдельную часть души моей. Пусть их совокупность будет иероглифическая биография моя… Пусть впечатления, которым я подвергался, выражаются отдельными повестями, где все вымысел, но основа – истина».
И уже в XX веке Пришвин подхватывал: «Метод писания, выработанный мной, можно выразить так: я ищу в жизни видимой отражения или соответствия непонятной и неведомой жизни моей собственной души».
Короче говоря, внутреннюю, духовную биографию, поэтическую личность и, что называется, догмат веры Казакова следует извлекать прежде всего из его рассказов. Он сам подталкивал именно к такому восприятию его творчества. Между прочим, слово «творчество» Казаков не любил, – наверное, еще и потому, что не отделял себя от своих произведений, считая себя органической их ипостасью. Автобиографизм в литературе Казаков трактовал как непременное условие художественности. «Произведения всех авторов автобиографичны, – заявлял он, – автобиографичны в том смысле, что все, чем их произведения наполнены, – события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т. д. – когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен был пережить сам».
Так что и в рассказах Казакова – может быть, «все вымысел, но основа – истина». В них закономерно присутствуют «его дух, его характер, его физиономия», в них запечатлена «жизнь души» писателя, его «иероглифическая биография».
Видимо, по причине мощного, но сдерживаемого художественного темперамента, обладая напряженно-чутким слухом и остро осязая предметную, вещную плоть мира, Казаков неслучайно усмотрел свой писательский удел именно в психологическом рассказе. Трагический лирик по натуре, он быстро постиг поэтические ресурсы такого рассказа и возможности его отточенной формы.
Еще в ноябре 1959 года Казаков писал Виктору Конецкому – не без усмешки, но все же отчетливо понимая значимость своих слов, – о том, что задумал он «нечто грандиозное». «Задумал я, – писал Казаков, – не более, не менее, как возродить и оживить жанр русского рассказа – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Задача гордая и занимательная. Рассказ наш был когда-то силен необычайно – до того, что прошиб даже самонадеянных западников. А теперь мы льстиво и робко думаем о всяких Сароянах, Колдуэллах, Хемингуэях и т. д. Позор на наши головы!.. Давай напряжем наши умишки и силишки и докажем протухшему Запад у, что такое советская Русь!»
Было бы ошибкой посчитать эти слова за проявление молодого зазнайства, а тем паче неуважения к именитым иностранным прозаикам. Когда в июле 1961 года застрелился Хемингуэй, Казаков откликнулся: «Мы гордились им так, будто он был наш, русский писатель. Мысль о том, что Хемингуэй живет, охотится, плавает, пишет по тысяче прекрасных слов в день, радовала нас, как радует мысль о существовании где-то близкого, родного человека…»
Казаков с неподдельным интересом и доверием относился к зарубежным писателям, усердно усваивал их опыт, литературу считал самовыражением человечества – в этом нет никаких сомнений. А любопытно другое: этот дух соревнования, эта жажда равенства с признанными авторитетами, ощущение своего полноправного участия во всемирном литературном процессе.
В 1979 году, рассуждая о своей долголетней приверженности рассказу, Казаков говорил: «Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть импрессионистически – мгновенно и точно. Наверное, поэтому я и не мог уйти от рассказа. Беда ли то, счастье ли: мазок – и миг уподоблен вечности, приравнен к жизни». И при этом он как бы сетовал: «А вот с романом я пока терплю фиаско. Наверное, роман, который, в силу своего жанра, пишется не так скупо и плотно, как рассказ, а гораздо жиже, – не для меня… так, видно, и суждено умереть рассказчиком…»
Думается, никакого фиаско с романом Казаков, собственно, не терпел, конкретного романа он, по-моему, никогда всерьез не замышлял и не писал, правда любил время от времени о романе и романистах порассуждать. Паустовскому в 1961 году признался, что «всегда страшно завидовал» романистам, и советовался, – может быть, стоит перешерстить «Северный дневник», прослоить его рассказами, получится «увесистая книга листов на 15»: «Все мои рассказы и записки будут в этом романе как бы главами, частями. А почему бы и не роман?! Речь в нем будет вертеться все вокруг одного и того же: вокруг Белого моря, рыбаков, времен года… Кроме того везде будет присутствовать личность автора…» Паустовского он просил: «Вы, пожалуйста, напишите мне – будет это романом или нет, все это собрание очерков и рассказов».
Мысли о романе (но не конкретные планы) возникали у Казакова и позже. Т. М. Судник в 2002 году вспоминала: «Ему хотелось попробовать писать роман – он почувствовал вкус к этому жанру, когда работал над переводом трилогии казахского писателя А. Нурпеисова: ему нравилось, что у него есть работа «в пяльцах» (как говорил Пушкин), что роман «дисциплинирует». Он тогда постоянно размышлял о сопоставлении романа и рассказа, говорил, что задуманный надолго роман – благоприятная почва, на которой вырастают рассказы. Но так и остался рыцарем рассказа…»
На вопрос: что больше дисциплинирует и почему – роман или рассказ? – Казаков для себя ответил на практике. Романа как такового он не писал, но попытка взглянуть на все написанное, как на «роман», на некое целое – примечательна, и потому воспринять казаковские рассказы в их единстве, как некое подобие романа, как суверенное художественное полотно, отражающее «развитие и повторение тайных тем в явной судьбе» (В. Набоков), как личную «летопись впечатлений» – вполне уместно.
В. Шукшин однажды обмолвился: «Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом, когда роман дописан и автор умер». Это схвачено верно, хотя всякий «роман рассказчика», разумеется, гипотетичен. В его «сюжете» нет направленного сквозного действия, кроме разве что движения отраженного в нем времени. Но и в этом романе, при всей его условности, в этой книге жизни неизбежна цельность авторского миропонимания и есть любимые писателем герои, несущие от рассказа к рассказу, будто от главы к главе, врученную им нравственную эстафету. Автор в таком романе может перебирать и словно бы примеривать к себе варианты непрожитых судеб и, без сомнения, является в нем центральной фигурой, независимо от того, какие он изыскивает возможности для самовыражения.
Высветить прихотливую канву казаковского «романа», передать его художественный колорит и эмоциональную атмосферу, обозначить вершины духовной эволюции его лирического героя, прояснив тем самым «иероглифическую биографию» писателя, – и неимоверно трудно, и заманчиво.
Казаков как-то заметил, что каждый писатель, имеющий смелость причислить себя к настоящей литературе, занят всю жизнь одним и тем же кругом проблем. Этот подсказанный талантом и обусловленный конкретным душевным опытом круг проблем и определяет содержание и внутренние связи в том своеобразном романе, который в итоге всех своих многолетних усилий создает рассказчик. Применительно к себе Казаков эти корневые проблемы сформулировал так: «Счастье и его природа, страдания и преодоление их, нравственный долг перед народом, любовь, осмысление самого себя, отношение к труду, живучесть грязных инстинктов…»
Среди названных проблем «осмысление самого себя» – проблема стержневая. Каждый человек, родившись, «застает» историю в определенный ее момент, и с этого момента берет начало его биография, равно как и судьба его поколения. Каждому поколению дается свой старт, и писатель, пытающийся понять свое время и самого себя, не может не задумываться над исторической ролью своего поколения, печать которого и он, и его многоликие герои так или иначе несут на себе, – любой из них, при всей его индивидуальности, есть еще все-таки и как бы иносказание автора о самом себе. Случается, что герой, не будучи прямым лирическим двойником автора, лишь отчасти соответствуя ему своим душевным складом, способен, именно в силу приблизительного сходства, выразить своими чувствами и поступками то их «тайное направление», которое автору особенно близко и созвучно.
Истоком казаковского «романа» (военное детство все-таки осталось за его рамками), исходной точкой в развитии казаковского лирического героя можно посчитать рассказ «Голубое и зеленое» (1956), написанный от лица московского школьника, а затем студента 1940-х годов. Сам писатель характеризовал этот рассказ как «исповедь городского инфантильного юноши» и внутренних соприкосновений со своим мятущимся героем не скрывал.
Действие «Голубого и зеленого» развертывается в послевоенной Москве, на Арбате. Время это безошибочно угадывается – и в подробностях быта, и в том неуловимом настроении тревоги, горечи и надежды, которое, всегда сопутствуя молодости, и тогда, в тяжелую послепобедную пору, особенно давало о себе знать. Интонация повествования здесь с самого начала доверчиво откровенная: перед нами, действительно, искренняя, наивная исповедь совсем юного человека, раздумывающего, как сложится в будущем его жизнь.
Открывается рассказ трогательной нотой: десятиклассник Алеша знакомится летом на арбатском дворе с девушкой Лилей, они отправляются в кино, на другой день гуляют по Тверскому бульвару, и между ними – им по шестнадцать лет! – вспыхивает любовь, первая, беспокойная и лучезарная… Алеша не ведает, чем она для него обернется, и вглядывается, вглядывается в себя, пытаясь понять, что же это с ним приключилось?
Чем же пленяет этот бесхитростный, по-школьному сентиментальный герой, изображенный с несомненной теплотой и симпатией? Каков он, этот арбатский Алеша, не сразу освободившийся от вязкой власти детства?
Ну, прежде всего, он до неловкости застенчив, в любую минуту способен усомниться в себе. Непреодолимая стеснительность отличает его поведение и манеру держаться. Он, допустим, любит джаз: не танцевать под джаз, танцевать Алеша еще не умеет, – он любит слушать джаз, и тут же готов уступить: «Некоторые не любят, но я люблю. Не знаю, может быть, это плохо». Будучи душевно мягок, Алеша, как он ни старается выглядеть сильным и самостоятельным, не в состоянии скрыть своих сомнений и своей удручающей растерянности. Он жалуется, что нелегко быть молодым, а ему так хочется волнующей, бурной жизни: «Хочется писать стихи, чтобы вся страна знала их наизусть. Или сочинить героическую симфонию и выйти потом к оркестру – бледному, во фраке, с волосами, падающими на лоб…»
Романтические грезы городского честолюбивого мальчишки! Но так ли уж они легковесны? Слегка иронизируя над своим героем, над его заемными, книжными словами, автор в глубине души сочувствует его возвышенным чаяниям. Алеша – как сама юность – весь соткан из противоречий. Мысленно он готовится к ответственным поступкам, но трезво соотнести честолюбивые планы с действительностью еще не умеет. Он вдруг увлекается плаванием, хочет стать «чемпионом СССР, а потом и мира», всем стилям, за стремительность, предпочитает кроль, но вечерами любит тихо помечтать. Порывистость, взрывная энергия, ищущая достойного применения, отличают Алешу не меньше, чем склонность к самоанализу и созерцанию.
«Есть зимой короткая минута, – размышляет Алеша, – когда снег на крышах и небо делаются темно-голубыми в сумерках, даже лиловыми. Я стою у окна, смотрю в открытую форточку на лиловый снег, дышу нежным морозным воздухом, и мне почему-то грезятся далекие путешествия, неизвестные страны, горы… Я голодаю, обрастаю рыжей бородой, меня печет солнце или до костей прохватывает мороз, я даже гибну, но открываю еще одну тайну природы. Вот жизнь! Если бы мне попасть в экспедицию!..» В экспедицию Алешу, конечно, не берут, он не прочь поступить в какой-нибудь институт, стать инженером или учителем, но при этом он думает с укоризной, что в его лице «люди потеряют великого путешественника».
Взыскательным к себе, категоричным в помыслах идеалистом предстает перед нами Алеша на пороге сердечного потрясения, уготованного ему в рассказе, – сомневающийся, чуткий к прекрасному, не распознавший еще своего призвания московский школьник, поверивший в бесконечно счастливую любовь. Примелькавшийся персонаж «молодой прозы» конца 1950-х годов. Однако подкупает в этом рассказе подчеркнутая авторская причастность к его судьбе, – та откровенная причастность, когда создается впечатление, будто тонкая тень грустного личного воспоминания ложится на страницы.
И детали, и пейзажи, и вечера, и сумерки, и рассветы – о чем говорил, как помним, Казаков, – здесь поданы с такой подлинностью чувства, что их жизненный первоисточник не вызывает сомнений. И нежный морозный воздух, и лиловые московские сумерки, и зимний запах в пригородном поселке, запах березовых почек и снега, и этот снег на платформе, что «блестел, как соль», – вся гамма лирических подробностей вселяет в нас саднящее ощущение чистоты и холода, испуга и отваги, внезапной беззащитной радости и томительного сердечного переживания…
Казаков частенько сопрягал переломные моменты в жизни героев, родственных ему душевным складом, с любовными драмами. В таком положении оказался и Алеша, который поначалу даже не находил названия тому платоническому чувству, какое возникло у него к Лиле. Как это они – «совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые?». Его чувство к Лиле идеально, бескорыстно, светло, это как бы и не страсть, не любовь к женщине, а освобождение от одиночества, радость от сознания, что нашелся на земле единственный человек, которому можно без утайки излить свои сокровенные горести и надежды – и он тебе откликнется и тебя поймет!
И как же чудесно преобразился, какими удивительными красками засиял, засверкал мир, когда Алеша глянул на него сквозь волшебную призму своего и зыбкого, и упорного чувства!
Многоцветный и мерцающий, он заворожил Алешу, обжег блеском обнажившейся красоты. Первое, что тронуло Алешу, когда он встретился с Лилей в арбатском дворе, – ее глубокий грудной голос и «горячая маленькая рука», белеющая в темноте. «Какая необыкновенная, нежная рука!» – с восторгом подумал он, и слово «нежность» с того момента заняло прочное место в Алешином (и авторском) лексиконе. Стоя на дне глубокого темного двора, он увидел окна: голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые, услышал джаз и, не зная, как заговорить с Лилей, весь отдался во власть «необыкновенного ритма и серебряного звука трубы».
Впоследствии Казаков говорил, что в этом рассказе задался целью воссоздать «ясность мира, увиденного впервые глазами подростка», и потому использовал здесь «слово светлое, цветовое», отчетливо передающее эту ясность, эту непосредственность наивно-романтического взгляда на все окружающее – и на город, и на природу, и на людей.
Лирический герой Казакова романтик по натуре. Потому и Алеша из «Голубого и зеленого» в стремлении к совершенству, к безоблачному счастью не может согласовать идеальные мечтания с будничной реальностью, не может этой грозной для него реальности не опасаться. Когда его любовь к Лиле взмывала и набирала силу, ему – ох, как! – не терпелось доказать и себе и всем вокруг, что он такой великой любви достоин; но симптоматично, что Алешино чувство к Лиле от него словно бы и не зависело, оно будто вселилось в него по чьему-то наущению, и он, осознавая себя в этом нежданном чувстве, не переставая изумляться настигшему его счастью, не переставал вместе с тем и тревожиться, – как бы какое-нибудь недоразумение, что-нибудь роковое не нарушило их необыкновенных отношений.
И вот, пребывая на вершине счастья, Алеша сперва не замечает, а «только чувствует с болью, что наступает что-то новое» у них с Лилей, и тут уж, как ни странно, ничего нельзя поправить… Алеша потрясен! Он не видит за собой никакой вины, и все-таки совершается невероятное: Лиля (напоминавшая Алеше серовскую «Девочку с персиками», которую так любил сам Казаков), такая родная и так ему необходимая, неумолимо от него отдаляется. И в их непонятной распре, как и в том, что они однажды встретились, заключена некая неразгаданная тайна.
Когда же через год Лиля выходит замуж, страдающий Алеша успешно учится в институте. Он выполнил норму первого разряда по плаванию. «Кроль – самый стремительный стиль, – по привычке рассуждает Алеша, но добавляет: – Впрочем, это не важно». И верно, это не важно, потому что Алеша убеждается: даже если бы он стал «героем, гением, человеком, которым будет гордиться страна», – все равно ничего бы не изменилось, у любви непредсказуемая логика и своя жесткая правда.
В финале рассказа Алеша заканчивает институт. Кстати, какой – неизвестно, да это и не имеет значения. Ни поэтом, ни музыкантом, ни путешественником Алеша не стал, зато он теперь взрослый человек, занятой, активный, самостоятельный. От былой его стеснительности не осталось и следа. Он не знает и не хочет знать, где теперь Лиля, отправившаяся с мужем куда-то на Север, но изредка она ему снится, и тогда он вновь чувствует себя юным, вновь переживает горечь поражения, – непрошеные сны выбивают Алешу из налаженной колеи, а ему так нравится теперь быть уверенным в себе и утром просыпаться веселым…
В рассказе «Голубое и зеленое» героя от автора отделяет на первых страницах возрастная дистанция приблизительно в десять лет. Когда Алеша безотчетно по разным поводам повторяет примелькавшуюся фразу: «Не знаю…» – в настойчивости этого лейтмотива просматривается определенное авторское намерение. Автор словно хочет подчеркнуть, что ему, в отличие от его страдающего героя, не только известен исход этой любовной истории и те поучительные уроки, какие Алеше суждено извлечь из случившегося, – он, автор, теперь вообще о многом знает, за минувшие годы он приобрел изрядный жизненный опыт и многое переоценил и в своем герое и в самом себе.
Потребность в подобной переоценке – ключ к замыслу «Голубого и зеленого». В финале наивная исповедь Алеши оборачивается горьким, но трезвым воспоминанием, – это воспоминание продолжает временами томить и героя и самого писателя, но оба они, помудрев, приходят к согласному выводу: «Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым, маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир».
Конечно же, было бы упрощением полностью отождествлять героя-рассказчика в «Голубом и зеленом» с самим писателем и толковать эту юношескую исповедь как прямое авторское признание. Тем не менее, прочерчивая кардиограмму переживаний своего юного героя, следуя памяти сердца, Казаков художественно воскрешает в этом рассказе эмоциональную и отчасти житейскую атмосферу собственной юности.
Автора и его героя, его лирического спутника роднит многое: и романтическая поэтичность натуры, и порывистость, схожесть темпераментов, и присущая обоим затаенная детскость, «органическая тяга к целомудрию» (Т. Жирмунская), которую потом тщательно камуфлировало время. И дело здесь не просто в совпадении тех или иных внешних примет обстановки, не только в том, что Алеша унаследовал от автора любовь к Москве и Арбату, его пристрастие к джазу, грезы о путешествиях, интерес к охоте, – многое из того, о чем мечтал Алеша, автор как раз и осуществил, – дело в психологической основе самого этого характера, полнозначные очертания которого не раз проступят в казаковском лирическом герое.
Плюс ко всему нужно добавить: в «Голубом и зеленом» таилось что-то захватывающе-необъяснимое, вызывавшее незамедлительный читательский восторг. Как рассказывает Д. Шеваров, на одном из вечеров памяти Казакова критик Юрий Болдырев вспоминал: «Я учился в университете, был очень активным читателем всех журналов, любил литературу, и однажды взял свежий номер журнала и прочел „Голубое и зеленое“, и со мной было нечто вроде шока. Ничего подобного в тогдашней литературе я не знал. И я прекрасно помню, как я с этим номером журнала помчался к своему старшему товарищу и ворвался к нему буквально крича, что вот появилось что-то совершенно необыкновенное!..» Помнится, и я, когда впервые прочел «Голубое и зеленое», пребывал в похожем состоянии. Заряд лирического переживания, изобразительная магия рассказа были настолько сильны, что, действительно, тут же хотелось с кем-то разделить свою сокрушительную радость.
Рассказ воспринимался как музыка. Глеб Горышин потом очень точно назвал «Голубое и зеленое» «рассказом-прелюдией» и писал: «Юра был музыкален, и потому его проза не умещается в смысл высказанного словами, не покрывается правилами композиции, сюжета, текста или подтекста. В ней есть еще другая композиция – музыкальная, композиторская…»
Уже в этом рассказе, исполненном светлой печали, пронзительно дала о себе знать та музыкально-смысловая доминанта, та мерцающая мелодия, которая варьировалась в других рассказах – то сгущаясь до тоски, отчаяния, скорби, то взмывая на, казалось бы, недостижимые высоты мгновенного счастья. Оттого-то, наверное, и голос Казакова был так безошибочно узнаваем – по неповторимой, влекуще-меланхолической тональности.
В рассказах Казакова никогда не смолкал «звон путеводной ноты» (В. Набоков). Т. М. Судник объясняла: «Музыка в рассказах Казакова и музыка его рассказов – очень глубокая тема. Он постоянно слушал музыку. Иногда ему снилась незнакомая симфоническая музыка, и он жалел, что не смог записать ее. В дневнике студенческих лет он писал о любимом Рахманинове: „В его фортепианных произведениях нет аккордов, пассажей, отдельных нот, которые было бы неудобно, неловко сыграть, амплитуда его вещей проста, изящна, легка“, – и тут же о литературе: „В настоящей поэзии не должно быть неудобных, корявых слов, выпадающих из общей тональности“. У него был абсолютный слух в том, что называют музыкой слова».
Музыка вдохновляла Казакова. «Помню, – продолжает Тамара Михайловна, – как мы специально ездили в Музей Бахрушина в надежде найти среди редких записей романс Шумана на стихи Гейне „Во сне я горько плакал“, причем в исполнении Шаляпина. Название рассказа Юрия Павловича – парафраз этой строки, и навеян рассказ не столько стихами Гейне из книги „Лирическое интермеццо“, сколько любимым романсом…»
Ну, об этом, последнем казаковском рассказе, речь пойдет в свой черед.