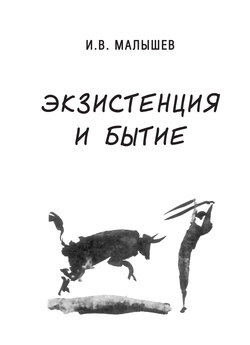Читать книгу Экзистенция и бытие - Игорь Малышев - Страница 4
Экзистенциальный фактор бытия и сознания
Возможна ли истина в гуманитарных науках?
ОглавлениеСомнение в достижении истины в гуманитарных науках возникает и по теоретическим, и по эмпирическим основаниям.
Теоретический аргумент в пользу отрицания такой возможности состоит в том, что в науках о человеке (истории, политологии, психологии, этике, эстетике, искусствоведении) действует двойная мотивация: познавательная и экзистенциальная. Экзистенциальный опыт, то есть опыт субъективно мотивированной деятельности личности в конкретных социальных условиях, с одной стороны, стимулирует познавательную активность ученого, направляя ее на наиболее актуальную с точки зрения этого опыта проблематику человеческого бытия. С другой же стороны, тем самым он деформирует результаты познания, так как это приводит к абсолютизации той или иной грани многогранной природы человека. Эмпирически об этом свидетельствует множественность направлений в современной философии, эстетике и искусствоведении, каждому из которых соответствует особая проблематика, особый предмет познания.
Фрейдистская эстетика, например, концентрируется на изучении взаимодействия бессознательного и сознательного в процессе и результатах художественного творчества. Согласно З. Фрейду сущность человека определяется его бессознательными побуждениями, среди которых он придавал особое значение «либидо». Сублимация либидо, точнее, детской сексуальности, по его мнению играет определяющую роль в творчестве художника (8). Гипертрофия роли сексуальности, тем более детской, (ясная уже ближайшим последователям Фрейда) коренится в особенностях экзистенциального опыта автора этой теории. Согласно данным его биографов в 1882 году, когда З. Фрейду исполнилось 26 лет, состоялась его помолвка с Мартой Бернайс. Однако свадьба оттягивалась, к тому же появилась возможность стажироваться в Сальпетриерской клинике в Париже, где он и прожил до 1886 года (10). Рискнем предположить, что именно неудовлетворенность сексуального влечения к своей невесте (а добрачные связи в его среде были не приемлемы) и была сублимирована Фрейдом в теоретической форме. Что привело к преувеличению значения «либидо». Конечно, то, что фрейдизм стал одним из влиятельных направлений философии и эстетики XX века, свидетельствует о том, что действовал и коллективный экзистенциальный опыт. Это было разочарование европейской интеллигенции в «рацио», в позитивистском сциентизме XIX века, порожденное катастрофами мировых войн XX века.
Но и при совпадении исследуемой проблематики (допустим, конкретной эпохи и даже отдельных событий в истории общества) результаты познания и оценки существенно различаются в трудах представителей различных научных школ. Что также является следствием их принадлежности к различным коллективным субъектам экзистенциального уровня бытия. Субкультура таких субъектов, то есть объединений личностей, обладающих общностью социальных мотивов деятельности, определяет ценностные установки, эмоциональное мироотношение и даже «предпонимание» (по Г. Гадамеру) действительности у его членов. А это неизбежно сказывается на результатах конкретных познавательных актов.
Наиболее наглядно экзистенциальная детерминация гуманитарного познания предстает при смене господствующих субкультур, что в конечном счете является следствием смены господствующих социально-экономических групп, классов общества. Пришедшая к власти социально-экономическая группа обеспечивает своим сторонникам в среде гуманитариев материальные и моральные преимущества. С другой стороны, выражение оппозиционного мировоззрения чревато соответствующим «издержками», а в тоталитарных режимах и риском для жизни. В этой ситуации каждый ученый делает свой экзистенциальный выбор. Для некоторых гуманитариев он не представляет проблемы, так как они были сторонниками ныне господствующего класса и до революции. Но для многих – это выбор между «старым» и «новым» мировоззрением. Который, как правило, решается в пользу приспособления к изменившимся обстоятельствам. Так складывается новый коллективный субъект гуманитарного познания, что влечет за собой и смену господствующих научных концепций.
Пережитая Россией капиталистическая контрреволюция 90-х годов XX века, повлекла за собой радикальное «переписывание» истории. Аналогичная операция была осуществлена и после революции 1917 года. В результате, к примеру, XIX век представал то как процесс развития революционного движения, то как история правления царей-благодетелей, а революция 17 года как историческая катастрофа России, осуществленная на деньги немецкого кайзера. Как после этого утверждать, что история есть наука, способная постичь объективную истину, а не «политика, обращенная в прошлое»?!
Или, вроде бы удаленная от политики, проблема прекрасного в эстетике. В период Античности были сформулированы несколько теоретических концепций прекрасного: прекрасное как благо (Гомер и др.), как совершенство (Пифагор и др.), как совершенное благо (Сократ), как красота формы (софисты), как единство совершенного блага и красоты (Цицерон). Казалось бы, наиболее адекватная природе прекрасного концепция должна была победить и утвердиться в последующей истории науки. Но это могло быть в том случае, если бы эстетику двигало только познание истины. Реально же каждая из последующих эпох актуализировала то одну, то другую из перечисленных концепций в зависимости от особенностей социокультурных, экзистенциальных ситуаций. В результате, исторический процесс познания прекрасного (и это общая черта гуманитарного знания) приобретает «полифонический» характер. То есть характер параллельного развития нескольких традиций, когда ни одна из них не отмирает совсем, а вновь и вновь возникает, когда складывается соответствующая экзистенциальная ситуация.
Не будем множить примеры. Очевидна субъективно-экзистенциальная составляющая содержания любой гуманитарной науки. Что неоднократно отмечалось, хотя и по-разному аргументировалось, в истории гносеологии (2; 5). Поэтому следует согласиться с Г. Гадамером (2), что гуманитарию остается лишь осознать субъективность своей исследовательской точки зрения, не скрывать ее, а наоборот открыто ее декларировать. Такое осознание отнюдь не ведет к преодолению субъективности. Если же в результате особого акта самокритики ученый преодолевает ограниченность экзистенциальной позиции своей теории, то это означает лишь то, что он переходит на другую, столь же субъективную.
В качестве примера укажем на интеллектуальную судьбу К. Маркса и Ф. Энгельса. Они начинали как младогегельянцы, принадлежа к левому крылу последователей Г. Гегеля. Затем в «Немецкой идеологии» подвергли эту мировоззренческую (как они считали, мелкобуржуазную) позицию критике, солидаризировались с революционным пролетарским движением и сформулировали основы своей философии (5). Преодолев немецкую идеологию как ложное сознание, К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что смогли выйти на уровень подлинной науки об обществе. Однако последующие полтора столетия исторического развития выявили иллюзорность многих положений их теории. Что было неизбежным следствием и конкретных социальных условий (раннего капитализма) возникновения их теории, и психологически понятного комплекса «нетерпения», свойственного революционерам. Поэтому они (а особенно их последователи – большевики ленинцы) недооценили адаптивные возможности капиталистических производственных отношений и наоборот переоценили революционные возможности пролетариата, имея ввиду наемных работников преимущественно физического труда.