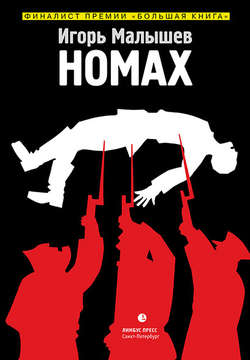Читать книгу Номах. Искры большого пожара - Игорь Малышев - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Сенин
ОглавлениеНад тёмной Москвой трещат морозы. Звёзды, злые и острые, будто иголки, звенят над древним городом, отражаются в стеклах промёрзших квартир, мерцают на трамвайных рельсах.
Голод и холод сжали Москву в тиски.
Сенин сидит перед оперуполномоченным ВЧК Аграновичем. Лицо чекиста сухо, кожа на лысой голове натянута, выпирают углы костей. Чекист курит папиросу за папиросой. Глаза его красны от застарелой бессонницы и табачного дыма.
– … Позвольте закурить? – спрашивает Сенин.
– Нет, – коротко отвечает Агранович. – Я хочу, чтобы вы поняли товарищ Сенин. Ваша сегодняшняя драка – чепуха. Подумаешь, подгулявшему спекулянту глаз подбили. Моя бы воля, я бы его вообще пристрелил. Дело не в нём.
– А в чём же?
Сергей откидывается на спинку стула, кладёт ногу на ногу. Чекист долго смотрит на подрагивающий изящный ботинок на сенинской ноге.
– Дело в вас, – Агранович затягивается глубоко и часто, будто душит исключительно табачным дымом. – В вас. С вами что-то происходит и мы хотим понять, что.
– И что же, по – вашему, со мной происходит?
– Мне кажется, вы больше не наш. И слова «мать моя Родина, я большевик» уже не о вас.
– А о ком? О вас, что ли?
– Вот видите. И тут хамите. А ведь это подвалы ЧК. Здесь хамить оперуполномоченному, что смертный приговор себе подписать.
Сенин бросил быстрый взгляд на стены и своды красного кирпича.
– Я вас не боюсь, – говорит он. – И ещё я не вполне понимаю, к чему вы клоните.
Агранович внимательно рассматривает поэта сквозь завесу папиросного дыма.
Сенину кажется, что он видит, как пульсируют густо красные жилки в глазах оперуполномоченного.
– То есть, вот совсем не понимаете? – наконец заговорил чекист. – Хорошо. Ваша последняя поэма. «Страна негодяев».
– Да. И что?
– Там вы с откровенной неприязнью пишите о человеке с фамилией Чекистов и по всем статьям напоминающего товарища Троцкого…
– У меня прекрасные отношения со Львом Давыдовичем, – оборвал его Сенин, чувствуя нарастающую нервозность. – Прекрасные.
Опер утомлённо кивнул и охотно согласился:
– Мы в курсе ваших взаимоотношений. Но вы выставляете его в откровенно негативном свете.
– Лев Давыдович, в отличие от вас, человек здравомыслящий и поймёт, в каком свете я его выставляю.
Пальцы Аграновича выстукивали по столешнице неторопливый ритм.
– Несомненно поймёт. Несомненно.
Он, прищурив глаза, изучал теряющего терпение поэта.
– Дело опять же не в этом. Нас критикуют многие. И друзья, и, уж тем более, враги. Но у вас в этой поэме есть персонаж, к которому вы относитесь с откровенной симпатией. Махно. Это же анаграмма на тему Номаха, так?
Сенин, не мигая, хоть дым и ел глаза, смотрел на чекиста.
– А ведь он с некоторых пор для нас враг. Не меньший, чем Деникин или немцы. Только гораздо более страшный, поскольку присвоил наш лозунг «землю – крестьянам». Россия страна крестьянская, и Номах пользуется у крестьян полным и безоговорочным успехом. Если говорить начистоту, то как противник, он для нас опасней того же Деникина и тех же немцев. За ними народ не пойдёт, это ясно, как дважды два. За Номахом идут, он свой и лозунги у него правильные. Но двум медведям, пусть даже и под одним лозунгом, в одной берлоге не ужиться. Вы меня понимаете? Остаться должен один.
Агранович достал папиросу, прикурил от предыдущей. Потёр лоб, словно бы вспоминая, о чём говорил только что.
– И тут вы с вашим Махно. Положительным образом анархиста, а по сути, бандита Номаха. Вот у нас и возникает абсолютно логичный вопрос: с кем вы, товарищ Сенин? Кто вам нужен?
Сенин, чтобы скрыть замешательство, отряхнул штанину.
– Вы мне сейчас зачем эти расстрельные вопросы задаёте?
– Бог с вами, обычные вопросы.
– Вы же понимаете, что в случае неправильного ответа, мне очень легко потом встать в обнимку с одной из ваших стенок?
– Не преувеличивайте.
– Я не преувеличиваю. Я знаю, отчего у вас во дворе с утра до ночи автомобильный мотор вхолостую колотит.
– Вы сейчас слышите мотор? Нет? Вот и прекратите повторять старушечьи сплетни, – строго сказал Агранович. – Так зачем вам этот положительный Махно, столь похожий на всем известного Номаха?
– Если я скажу вам правду, вы гарантируете, что я выйду отсюда без дырки в башке?
– Гарантирую. Потому что если вы исчезните, то завтра Лев Давыдович спросит, где мой любимый поэт Сенин? Устроит следствие, выйдет на меня. А я не хочу, как вы выразились, обниматься с этими стенками.
– Хорошо. Тогда я объяснюсь. То, что сейчас творится в России по отношению к крестьянству, террор и уничтожение. Селяне всегда были и будут основой России, и уничтожать их – значит рубить сук, на котором сидишь. Номах – не враг большевикам. Он крик крестьянства о помощи. Услышьте крестьян и уже завтра Номах станет бо́льшим коммунистом, чем все вы вместе взятые. Но пока вам безразлична крестьянская Русь, пока вы видите в ней только корову, которую можно бить и доить, а если надо, то и зарезать, он будет вашим врагом. Диктатура пролетариата – это произвол по отношению к селу. Установите диктатуру рабочих и крестьян и завтра вы получите многомиллионную, единую, твёрдую, как алмаз, Россию, всецело принадлежащую вам. И никаких восстаний с вилами и косами, никаких мятежей. Номах станет первым большевиком после Ленина, увидите.
Агранович внимательно выслушал его, удавил в переполненной стеклянной пепельнице папиросу.
– Крестьянство – было, есть и будет мелкобуржуазной стихией, для которой бог – собственность. Строить коммунизм на этакой платформе, всё равно что переходить трясину на цыпочках. Гарантированный провал. Я понимаю вас, я, возможно, даже в чём-то понимаю Номаха. Но! Я никогда не соглашусь ни с вами, ни с ним.
– Видимо, на этом мы и остановимся? – спросил Сенин после паузы.
Агранович кивнул.
– Я свободен?
– Да как вам сказать?.. Во всяком случае, сейчас можете идти домой.
Поэт встал.
– Бортко! – крикнул оперуполномоченный. – Проводи на выход.
Он кивком головы указал вошедшему бойцу на Сергея.
Тот вышел, не попрощавшись.
Бортко проводил его до дверей райотдела.
– Может, здесь подождёте? – вполне добродушно предложил боец. – Ночь на дворе. Время известное. Не убьют, так разденут.
– Тебе-то что за забота? – нервно отозвался Сергей. – Убьют так убьют.
– Да как же? Человек всё-таки.
– Дай закурить, если такой добрый.
Они вышли наружу, закурили.
– Видели, темень какая? Куда идти? – повторил солдат. – Посидели бы в коридоре на стульчике. И, как рассветёт, домой бы пошли. Далеко живёте?
– На Тверском.
Тот присвистнул.
– Ближний свет.
Сенин докурил, растоптал окурок.
Посмотрел на уцелевшую искру.
– По всему видать, что хороший ты человек, Бортко. А вот работу себе нашёл поганую.
Он зашагал по тёмному, как могила, вымерзшему городу, и снег, то скрипел, то визжал под его ногами.
Чёрные туши павших и неубранных лошадей лежали на пустых улицах, напоминая в темноте валуны-останцы.
Звук шагов пугал крыс и кошек и они бесшумными тенями разбегались от трупов.
– Адище! Это же адище! – говорил себе Сенин, оглядываясь по сторонам и кутаясь в щегольское не по погоде тонкое пальто. – Иду, как Дант, какой.
Он вышел на широкий проспект, позёмка швырнула ему в лицо горсть колкого, словно битое стекло, снега.
– В аду нельзя жить! Нельзя жить здесь, среди этих Аграновичей, которые играют моей жизнью, как кошка с мышью. Нельзя жить с этими бесчисленными Бортко, которые служат дьяволу, оставаясь при этом людьми.
Меж домов мелькнули тени, взвизгнул и затих снег.
Сенин сжал челюсти и кулаки и прибавил шагу.
– Чёрт… И вправду, не убьют, так разденут. А по такой погоде полчаса без пальто, это верное воспаление лёгких и та же смерть.
Стёкла окон светились чёрным глянцем. Звёзды остриями штыков целили ему в грудь. Скулил-заходился снег под ногами.
Хлопнула где-то поблизости подъездная дверь. Сердце выдало перебой.
Дома нависали над проспектом живой нестерпимой тяжестью. Давила тьма спереди и сзади. Деревья стояли вымороченными призраками.
– Дойду. Назло этому аду и всем его чертям дойду.
Он на ходу помахал руками, разогревая коченеющее тело.
– Меня так просто не возьмёшь, – прошептал он, обстукивая себе грудь и бока, и оттирая потерявшие чувствительность уши и щёки. – Рязанские, ребята хватские. Махно им, видишь ли, не нравится. Вам много кто не нравится. Вам, кроме себя, вообще никто не нравится. А Махно… Номах…
Сергей, забыв вдруг разом о морозе и об опасностях ночной Москвы, задумался:
– Номах… Номах…
Он шёл и повторял про себя это имя, продолжая хлопать себя по плечам…
Его ещё несколько раз допрашивали в ЧК. Иногда Агранович, иногда другие.
А когда пришла весна, Сенин собрал в чемоданчик одежду и еду на дорогу, зашил в подкладку деньги за последнюю изданную книгу и сел в поезд до Ростова, от которого было рукой подать до Украины…