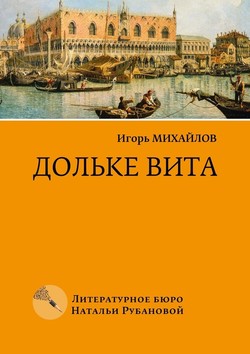Читать книгу Дольке вита - Игорь Михайлович Михайлов - Страница 8
Италия
Каменные скрижали Асколи
ОглавлениеВ одном из дальних кварталов, убежавших на край города, за витриной, похожей на увеличительную линзу старого экрана телевизора, аккуратная, словно фарфоровая куколка, бабушка в бледно-голубом платье вышивает крестом. Белые салфетки, как облака небесный свод, занавесили ее салон, и она не обращает ни на кого внимания, самозабвенно и неспешно предаваясь своему любимому делу, как и ее мать, и бабушка. Из года в год она плетет нити судьбы, и ничего не меняется в этом городе ста башен. Кроме времен года…
Неизменному ходу вещей, видимо, потворствует и замок кондотьеров Малатеста, словно вытесанный из скалы, из цельного камня, травертино. Из травертино (беловато-пепельный, похожий на мел, но тверже) раньше строили замки и города, а теперь художник Джулиано Джулиани, живущий на горном плато Сан-Марко, парящем над городом, делает удивительно легкие и пластичные композиции. Его отец работал на каменоломне, а сын стал скульптором. История города слоеная, как пицца, началась с фундамента, а продолжилась в листах белой бумаги, страницах, каменных скрижалях, которые завещал этому краю Бог, водя резцом Джулиано! Несокрушимая крепость его стен, словно залог сохранности такой уютной маленькой жизни в Асколи Пичено – городке провинции Марке. Жизнь обывателя в обрамлении исторических декораций. Немногословная перекличка эпох и стилей. Романский окликает средневековье и цветочные виньетки Возрождения. Бабушка, словно парка, прядет нить судьбы. Дороги напоминают римские акведуки. Развалины римского театра в окрестностях – о том, кто в доме хозяин. Пиченцы – итальянские древляне, бежавшие римского владычества.
Замок Малатеста крепко на века врос в историю и превратился в открытку: подстриженные газоны, автостоянка. Такая же, видимо, древняя, как и стены, возле которых все поколения знаменитых кондотьеров осаживали на полном ходу свои феррари. Словно ящерица на солнцепеке, извивается возле его стен сварливая Тронто. Бурливая и чрезвычайно говорливая, словно старушка-соседка из коммунальной квартиры, как пить дать, процентщица, которая затеяла ссору из-за ершика. Однако трудно себе представить, что кто-то может позволить себе такую роскошь – затеять свару весной, когда холмы Марке покрываются зеленым ковром.
Жизнь в Асколи – сонная череда улочек, кафешек, магазинчиков, лавочек и неуклонное следование традициям: утренняя газета, чашечка эспрессо, воскресная месса, ужин в кругу друзей.
Старый романский мостик Чекко, серый или поседевший от старины, словно переброшенный наспех из этого времени в прошлое, соединяет глубокий овраг, заросший ивняком, жасмином и какой-то вьющейся колючкой. Весь этот ярко-зеленый салат цепляется за отвесную стену замка, пытаясь вскарабкаться наверх, к свету и солнцу. Природа в вечном споре с крепостными стенами и культурными слоями: что главнее?
Когда озираешь разлинованные окрестности Асколи, поделенное на клеточки пространство полей и огородов, вымеренное, как в аптеке, бледно-зеленоватые виноградники, фисташковые оливы и желтые вспышки цветущего дрока, кофейного цвета пашню, то, кажется, что это природа. Но в городе, где столь же тщательно продумана каждая деталь интерьера – мраморные портики, грифельные оконечности башен, кирпичная кладка крепостной стены, чередующиеся, словно музыкальные интервалы, дорические колонны церквей с кокетливыми завитками, упитанные статуи святых и тени, кажется, забравшие у старины бархатистую тяжесть гобелена, или гардины, черные, палевые, синие, серые, тоньше папиросной бумаги, то нет никакого сомнения – творение рук человеческих!
Замок Малатеста смотрит на мир из-под ввалившихся, словно глаза старика, который забыл, сколько ему лет, бойниц с бесконечной печалью. Сколько веков промчалось прочь мимо и сколько сгинут еще потом – не важно. Его неприступность, покрытая музейной патиной, как старинный рояль, на котором уже никто не играет. Листья бросают жирную тяжелую тень на струящийся шелк бледно-лазурной глади. И когда солнце скрывается за тучное, словно рождественский боров, облако, ручеек покрывается изумрудной испариной, словно запотевшая бутылка воды. Ну, а когда диск античного дискобола выкатывается из-за плоской крыши, на ручей словно наброшена маскировочная сетка. На окраине испокон веков прочно обосновался обыватель, ремесленник.
В одном из магазинчиков, который торгует какой-то то ли сантехникой, то ли елочными украшениями, из полумрака навстречу покупателю и его визави, а, может, всего лишь тени, которая настолько густа, что может быть самостоятельным персонажем, выходит радушный хозяин:
– Вас двое или вы сами по себе (иными словами – один клиент или два)?
Узнав, что клиентов двое, он радуется, как ребенок. Хочется в благодарность за его радушие купить у него какой-нибудь ненужный вантуз.
Вытертая подошвами и веками каменная мостовая, петляя, ведет в исторический центр, где Народная площадь, словно драгоценная шкатулка из камня. Крышку забыли закрыть, и можно сунуть нос, если он у вас, как у Пиноккио, вовнутрь. Здесь все чинно и аккуратно расставлено по своим местам, как в магазине у сантехника: в углу романский собор Святого Франциска, по бокам галереи с колоннами и зубчатыми гребешками, ласточкин хвост, или папская тиара – большой привет кремлевской стене.
Траттории, брусчатка, официанты, взмахивающие белыми скатертями, словно голуби подкрылками. Все условия для того, чтобы неторопливо раствориться в толпе и почувствовать себя своим подобно отцу Павлу Флоренскому, оказавшемуся в стане святых в церкви на Пьяццо Аррино. Или не чужим этим старинным стенам, башням, стрельчатым сводам, изогнувшим мост, словно лениво потянувшаяся кошка спину, торжественным вратам с барельефом герба, двух-трехэтажным домишкам, жмущимся друг к дружке, как слепые из пьесы Метерлинка, чтобы не сгинуть во тьме веков.
В одном из маленьких двориков с барельефом святого и огородом на небольших каменных балкончиках, возникает из ниоткуда ощущение, что время материально. Его можно пощупать ладонью, его шершавая поверхность, словно застывшая лава. Оно сложено из причудливых узоров и плавных, певучих, текущих из прошлого, словно продолжающихся в пространстве, линий, которые сливаются с собственной и чужой тенью.
Травертино – интровертино… Город, вырывающийся из привычной двухмерности не без усилий вертикальной перспективы мостов и оврагов, башен и колоколен и густых, словно сажа, теней, несмотря на тяжеловесную основательность камня, легок и воздушен, как ажурная ограда парка. Папа Джулиано работал, не покладая рук, натруженных мозолистых рабочих рук, чтобы его сын высек ажурные искры поэзии из окаменевшего соляного столпа.
Асколи – ампир, закованный в рыцарские латы. Росчерк гусиного перышка, светлый проблеск во мгле чьих-то воспоминаний.
Внося свою посильную лепту в городскую несуетность, я попираю, насколько это возможно, своими стопами брусчатку и улыбаюсь своему отражению в витрине магазина, в которой застыл, одержимый бесстыдством, голый манекен блондинки или итальянки. Некрасивой, но брутальной.
Из сонного покоя городского обывателя вырывают цепкими лапами новости. В окрестностях города нашли труп молодой женщины. Весь город встал на уши: убийцу упорно искали и, кажется, не нашли. Зато я вошел в круг подозреваемых вместе со всеми на равных. Хотя в убийстве подозревали какого-нибудь разомлевшего и одуревшего от привычного уклада жизни мужа, коротконогого и покрытого шерстяным одеялом с пяток до бровей Джованни. Но и у меня 9 мая полицейские на улице, пристально вглядевшись в мой славянский профиль, спросили паспорт. А потом долго куда-то звонили, что-то такое выясняли насчет моего темного прошлого, о чем я и сам вряд ли догадываюсь. Но, в конце концов, с явным сожалением паспорт все же вернули. Но из порочного круга подозреваемых я так и не вырвался.
Черт возьми, приятно чувствовать себя своим в этом небольшом, древнем, аккуратно ухоженном, словно маленький садик во внутреннем дворике, культурном пространстве. Городе ста башен, из которых остались только четыре аккорда. А остальные девяносто шесть – они, словно в тени у светлых, как клавиши. Невидимые глазу, но надрывно звучащие в пространстве, словно пустой рукав, будто октава, распятая пальцами. На входе в бесплатный, видимо, муниципальный туалет, который со шлангом старательно вылизывал часа два седой старичок с чрезвычайно артистическими бакенбардами, причем с таким увлечением, с каким тенор в театре поет выходную арию Вертера, меня спросили:
– Албанезе?
К немалому разочарованию туалетного привратника, я оказался не албанцем. Хотя, чем черт не шутит?! Надобность вызывать полицию отпала. Но за это старый скряга потребовал с меня плату, хотя на входе черным по белому было написано «оферта». Пришлось бросить в банку, на дне которой томилось два одиноких цента, гривенник. У меня было 50 центов, и он хотел, чтобы я его осчастливил на всю сумму. Но старому пиченцу перепало лишь 10 центов.
А потом я откушал кофею и отправился восвояси разглядывать «пикейные жилеты» старичков в вязаных безрукавках и бейсболках, которые занимают свои посты на выступах стен собора, словно кариатиды, часов в 10 утра, а сдают, но весьма неохотно его ночным химерам в 18.00. Старики смотрят на проходящую мимо молодежь, пеструю и шумную толпу и вспоминают времена, когда сами были молодыми. И точно также веселились и любовались своими полными, раздобревшими на макаронах, пицце и кальцони, подругами.
С тех пор ничего не изменилось. Все те же декорации: Народная площадь, церковь святого Франциска. Просто они с теми стариками, которые когда-то очень давно провожали их завистливыми взглядами, поменялись местами…