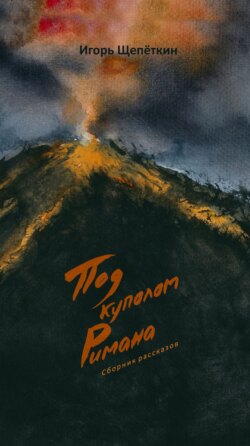Читать книгу Под куполом Римана - Игорь Щепёткин - Страница 4
На Старой Ачинской
ОглавлениеЯ выучил алфавит и немного читаю по слогам,
а ты уже знаешь другого мира код.
Прошлым летом я оказался в этом мире случайно
во время стихии. Умытый солёным потом,
выбрался на берег после кораблекрушения.
Агония предков осталась в моей памяти.
Боль прошла.
Начиная от разбитого корабля,
решил измерить длину побережья и попал в мир фракталов.
Я шёл через их заросли и сломал один отросток.
Из обломка-культи пошла кровь. Это было убийство.
Картина мира мгновенно изменилась,
и я увидел женщин и дикие пляски.
Потом было тепло твоих рук. Я обнимал твоё тело,
наслаждаясь танцем, и думал о любви.
Мистика ли это или магическая завеса, плотная в одном
месте и совершенно прозрачная в другом?
Многократно отражённый огонь солнца освещает дорогу
Я иду, вдыхая унисекс-ароматы.
С чего начать? Всё равно, в саду или в огороде, в овраге или во рву Миланской крепости, у водозаборной или водоразборной колонки с заледеневшими потёками (не помню, чтобы эти наледи когда-либо посыпались песком) на перекрёстке Старо-Ачинской улицы и Школьного переулка. Добавлю, что однажды, когда соседские ребята наливали воду, из её Г-образного «хобота» в ведро выплеснулась несчастная рыбка – очевидно, вода в колонку поступала прямо из реки.
Мой дед набирает два ведра ледяной воды и несёт их на поскрипывающем коромысле. Путь неблизкий, а потом ещё дед по лестнице поднимается на второй этаж деревянного дома. Там, в сенях нашего жилища, есть бочка для питьевой воды. Здесь же, возле кадки с квашеной капустой и кованого полупустого сундука, распространяющего застарелый запах нафталина, зимой хранятся дрова. В прихожей (она же кухня) у порога за косяком висит рукомойник, под ним – помойное ведро. Центр кухни занимает печь, а по периметру – стол, кровать и самодельная лавка. На лавке тоже можно спать. Над кухонным столом – картина Крамского «Неизвестная».
Печь и дверной проём отделяют кухню от единственной жилой комнаты. Прямо за печью – кровать, а вдоль смежной стены стоят шифоньер и ещё одна койка. На противоположной стороне – два окна и между ними комод, но правое окно заложено кирпичом, заштукатурено и побелено. Наконец, по левую сторону от входа в комнату возвышается резной шкаф. Посередине помещения – стол. В углу висит большая икона. В этом доме в окружении бабы Фени и деда Ивана пройдёт моё детство с того момента, как меня в маленькой цинковой ванне привезли из соседнего города, где я родился, и лет до семи (в детский сад я никогда не ходил), пока окончательно не перееду в квартиру родителей в новом микрорайоне.
На второй этаж дома, туда, где находится наша квартира, ведёт довольно крутая лестница в один пролёт, с перилами, изъеденными червоточиной. Сколько на ней ступеней? Точного ответа на этот вопрос нет, хотя я уже могу считать. Мне кажется, не менее тринадцати. Используя лопату и топорик, дед тщательно чистит лестницу от снега и льда, чтобы легче было по ней подниматься, неся дрова или вёдра с водой. На его руках – тёплые варежки из колючей овечьей шерсти. Перед подъёмом он снимает вёдра с коромысла и дальше несёт их в руках, иначе первое ведро будет задевать ступени.
Наверху – небольшая лестничная площадка. Справа от нашего порога есть ещё одна дверь, в другую квартиру. Её хозяева уехали навсегда, поэтому дверь заколотили. Наверняка и печь там разворочена железным ломом, то же произойдёт и с нашей печью, когда настанет время покидать этот дом. Так что наше ближайшее соседство за стенкой – это промёрзшее и неизученное пространство, где, наверное, трудно дышать. Хорошее место для привидений. На этой же площадке натянуты верёвки, на которых сушится бельё. Над верёвками – лаз на чердак, а ещё выше перевёрнутым сердечком темнеет слуховое оконце. Оно выходит во двор, где лежат плиты на земле и теснится другой дом, в котором живут Катковы и Окамовы.
Соседи напротив могут видеть вывешенные на бельевых верёвках знаки: белая простыня – измена оловянных солдатиков, юбка – недостаток молока, мужские штаны – недостаток яиц. Когда нужно вызвать доктора Куркину, на широкие перила открытой лестничной площадки ставят мой горшок. У Катковых есть единственный на всю нашу улицу телефон. Его номер 50–15. Они звонят и просят кого надо.
С лестничной площадки я люблю пускать мыльные пузыри и бумажных голубей. Самые лучшие из них долетают до середины двора. Летом вдоль деревянных столбов, поддерживающих этот лестничный пролёт, густо разрастается хмель. Под пролётом в глубине навеса обнаруживаются входы в каморки наших соседей – к Буланцевым и Вьюговым.
Наш дом по адресу Старо-Ачинская, 11 и весь наш двор, вернее, его развалины, давно снесены. Но они продолжают жить в воображении моём и, возможно, других обитавших здесь людей, если, конечно, те ещё способны что-то помнить. Дом – живое существо со своей душой. Где поселяется эта душа, когда дом умирает? Иногда я вижу сон, будто стою перед высокими воротами в наш двор, но калитка крепко заперта. Доступа нет нигде, и я не знаю, как мне войти в этот покой тепла и света и услышать детства разговор. Может, попробовать написать вирши, которые откроют вход?
Сломать железных строчек строй,
Уйти от образа любимой,
Пойти заброшенной тропой,
Где запах ветки тополиной.
Там радужные пузыри
Парят под лестницей высокой.
Там письма носят мизгири,
Лишь постучишь – стоят с ответом.
Там, в солнечном сплетенье ив,
Летит бумажная эскадра,
А плотик спичечный, как «Ра»,
Плывёт по ручейку бесстрашно.
С последним словом калитка сама бесшумно открывается…
В марте начинает таять снег. Талая вода с улицы просачивается под запертые ворота и течёт через весь двор. Мой дедушка или кто-то из соседей прокапывает ручейку длинную канавку – до самого оврага. Интересно пустить какую-нибудь щепочку от ворот и проследить за ней на всём пути ручейка, иногда помогая этому маленькому кораблику, если он где-то застревает.
Постепенно, проталинка за проталинкой, двор освобождается от снега. Соседская девочка Таня Окамова, срывая первые цветки одуванчика и мать-и-мачехи, плетёт венок. Я беру его в руки, и жёлтая бахрома цветков медленно увядает.
Как-то я пошёл с дедом на Белое озеро за керосином. Там, на бесконечном берегу, есть похожий на гараж киоск цвета запёкшейся крови. В нём продают москательные товары, а рядом на маленькой скамейке сгорбился чистильщик обуви с набором разноцветного гуталина. Зачем дед хотел купить керосин, я не знаю, ведь у нас есть электричество. Видно, он боялся остаться без освещения, потому хранил керосиновую лампу. Помню, как один раз дед зажигал её, когда дома не было света.
Лампочки в нашем доме часто перегорают. Когда возвращается мой папа, его просят заменить лампочку или наладить электроплитку. Он работает на заводе и может сам скрутить спираль для плитки из нихромовой проволоки и положить где нужно асбест для изоляции. Мне ужасно интересно наблюдать, как он ремонтирует. Вот новая лампочка загорается, и это вызывает восхищение у бабушки с дедом. Ещё бы! Когда-то им приходилось жечь лучину. Посмотрите на историческое фото «Лампочка Ильича». Эта сцена очень похожа на то, что периодически творится в нашей квартире.
Каждый раз после еды дед и бабушка щепотью крестятся перед иконой, прикреплённой под самым потолком. На ней изображён босой старец с бородой. В левой руке он держит глобус, а перстами правой строго указывает, как будто грозит за невыученный урок географии. Мне нечего волноваться – моя география пока вмещается в наш двор и близлежащие улицы. Я как-то спросил у бабы с дедом, кто такой Бог и где он живёт. На что мне ответили, что так грех говорить. Это новое для меня слово. Сейчас бы я сказал, что мне же нечего греха таить…
Смеркается, и мой дед приносит из сеней дрова, складывает поленья ступенчатой пирамидой в печи, открывает поддувало и разжигает новый огонь. Потом прикуривает от ярко вспыхнувшей щепочки и жадно вбирает в лёгкие дым. Сидя на маленькой самодельной скамеечке, он неспешно потягивает свою самокрутку, пока окурок не начинает жечь пальцы.
Прислонясь к дверному косяку, я сижу на лавке и бессмысленным взором смотрю на живое пламя в печи. Наконец мы укладываемся спать. С потолочной балки на изогнутой проводке свисает одна большая стосвечовая лампочка под оранжевым, но уже изрядно выцветшим кисейным абажуром. Дед в голубых кальсонах и поношенной байковой рубахе тянется к выключателю и говорит: «Ну, за-жмуряйся!». Я юркаю под одеяло в запах чистого постельного белья, и свет гаснет. Некоторое время ещё слышно благословляющее потрескивание поленьев. Потом всё погружается в сон.
Зимой по утрам в доме холодно. Вот кто-то открывает в сенях дверь, и в комнату проникает лёгкое студёное облако.
Я лежу в кровати под ватным одеялом, ожидая, пока дед снова не затопит печь и комната не прогреется.
Мой двор на Ачинской живёт
в моём больном воображении.
Вот дед по лестнице несёт
вязанку дров на всесожжение.
Тем временем его внучок
играет в карты с бабой Линой.
Мой дед войдёт и на крючок
закроет дверь в сенях холодных.
Затопим печь, чай вскипятим
и выпьем мы его с малиной.
Дед часто уезжает в деревню охотиться. До войны он был профессиональным охотником и сдавал государству пушнину. Но сейчас я ещё не знаю об этом, так как даже не могу понять, что такое государство. С охоты он приносит глухаря, зайца или иную дичь. Для ловли зайцев дед ставит в лесу петли всё из той же нихромовой проволоки. Заяц попадает в петлю и леденеет на морозе.
Один раз дед принёс окоченевшего зайца и пристроил его под новогодней ёлкой. Заяц там красовался рядом с Дедом Морозом, пока не оттаял, потом исчез. Видно, ёлка на самом деле была рождественской. В другой раз дед добыл незамёрзшего зайца, подвесил его за передние лапы на кухне к потолку и стал потрошить. Это занятие отвлекло мою бабушку от мирских забот, и она брезгливо убежала из дома. А я остался, и мне было очень интересно. Дед вытаскивал внутренности, одни бросал в ведро, а другие – в большую чашку. Густые капли крови падали с рёбер зайца в таз, как зёрна граната.
После еды трубчатые кости зайца мы не выбрасываем. Дед делает из них манки на рябчиков. Умело пропиливает напильником треугольную дырочку в косточке и вставляет кусочек воска. На охоте дед свистит в такой манок, рябчики к нему слетаются со всего леса, и он их убивает. Манящая сила зайца действует, пока манок не теряется в густой траве.
На лице у деда медленно растёт жёсткая щетина, и я люблю её трогать. Раз в две недели он её сбривает. Это целый ритуал, который я хорошо изучил. Сначала дед берёт какую-то зелёную пасту и смазывает ею широкий ремень. Потом извлекает опасную бритву из картонных ножен (он прячет бритвы сверху на шифоньере, чтобы я не мог их достать) и долго водит ею плашмя по туго натянутому ремню, иногда проверяя остроту. Когда бритва наточена, кухонным ножом он срезает с хозяйственного мыла тонкие стружки в старую металлическую чашку (эта чашка у него используется, может быть, даже со времён мировой войны), добавляет туда воду, густо всё вспенивает помазком и покрывает лицо пеной. Наконец, искоса глядя в осколок зеркала неправильной формы и ловко орудуя лезвием, дед сбривает щетину, и сквозь оставшуюся пену кое-где проступает кровь. После бритья он залепляет порезы кусочками газеты и в таком виде снуёт по комнате, хитро улыбаясь и испуская бодрящий запах тройного одеколона.
Наш двор отгорожен от улицы высокими деревянными воротами с калиткой. Из калитки на уровне моих плеч свисает огромная железная чека. Чтобы войти, мне нужно взять это холодное кольцо обеими руками и, повернув его, со всей силы толкнуть калитку. Ворота же всё время закрыты. Их открывают разве что, когда привозят на зиму дрова. Как-то я участвовал в рубке дров, вернее, сам не рубил – мне было ещё мало лет, но, стоя на прогалине, ломал ветки у срубленных берёз на веники для бани. Сарай пристроен в конце крутого спуска, и машина не может к нему подъехать, поэтому дрова выгружают в верхней части двора, около погреба, пропахшего креозотом (этот запах напоминает о существовании неподалёку железнодорожных путей). Потом дедушка и папа рубят берёзовые чурки на поленья и сносят их в сарай и сени на хранение до зимы.
Сарай расположен как раз напротив дверей в квартиру Окамовых. К лету последняя поленница дров в сарае исчезает, и в нём можно играть и даже кидать в стены ножичек. Здесь приятно пахнет старыми опилками и берестой. В солнечный день пространство сарая (вы сказали «рая» или мне послышалось?) разрезается пучками света, которые мерцающими хрупкими веерами проникают сквозь щели. В сарае хранится чёрный ящик патефона и пластинки на 78 оборотов. Чтобы завести патефон, нужно несколько раз провернуть его рычаг, тогда диск с пластинкой начнёт вращаться.
В один из летних дней, разбирая в тени всякий хлам, я заинтересовался пластинкой с гербом Организации Объединённых Наций. К сожалению, игла на звукоснимателе была сломана. Мы с соседской девочкой Таней Окамовой просили её родителей поставить новую иглу, но они не откликнулись на нашу просьбу. Видимо, им было неинтересно слушать старые пластинки или они просто откладывали счастье на будущее. Но мы всё равно ставили и продолжаем ставить пластинки и просто крутим их и крутим, и патефон играет как новый.