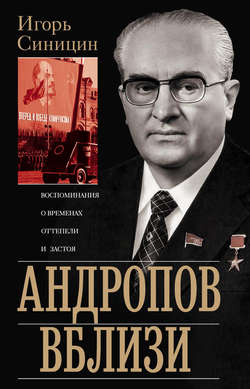Читать книгу Андропов вблизи. Воспоминания о временах оттепели и застоя - Игорь Синицин - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Куда летел ржавый паровоз?
ОглавлениеПосле сделанного Андроповым предложения, не скрою, я пребывал в несколько отрешенном от жизни состоянии. Прошел Первомай, отзвонили в тостах за столом бокалы на профессиональном празднике – Дне печати 5 мая, который сообща отмечали в академии все аспиранты-журналисты. Друзья по-прежнему обменивались мнениями по поводу удачного или неудачного распределения выпускников. Спрашивали и меня о том, где мне назначено трудиться, но я и сам ничего не знал. Уверенности в том, что я пройду все фильтры и барьеры для работы в аппарате, отнюдь не было. Поэтому только отшучивался – на наш век чернил хватит!
Наконец, 11 мая вечером мне позвонил домой адъютант Юрия Владимировича Евгений Иванович Калгин. Без долгих предисловий он задал вопрос: «Игорь Елисеевич, можете завтра выйти на работу? Решение состоялось…»
В душе что-то екнуло, и я ответил, что могу.
Калгин спросил еще, во сколько я хотел бы приехать в здание на площади Дзержинского? Я выяснил у него, что Юрий Владимирович приезжает к девяти утра, а мне, ответил я Жене, хотелось бы прибыть за полчаса до него.
– Тогда машина номер такой-то будет ждать у вашего дома в семь пятьдесят. Она доставит к первому подъезду. Там я вас встречу…
В половине девятого утра я входил в первый подъезд. Этот парадный вход в КГБ находится в самом центре единого здания, выходившего тогда на площадь Дзержинского двумя разными фасадами. Одна половина принадлежала дому, построенному в конце XIX века на Лубянской площади для страхового общества «Россия». В 70-х годах XX века он оставался еще в первоначальном купеческом образе и был грязно-серого цвета. Это здание и заняла ЧК в 1918 году. Встык к фасаду старинного здания был пристроен на целый квартал огромный новый дом сталинской архитектуры, спроектированный для МВД академиком Алексеем Щусевым. Он был возведен очень быстро пленными немцами в конце 40-х годов, после Победы над Германией. Я видел, как росла эта стройка в послевоенные годы, когда частенько проходил мимо нее в Политехнический музей, где у нас иногда проводились школьные занятия по физике и химии. Разумеется, у меня тогда и в самых фантастических снах не возникало диких предположений, что через двадцать пять лет в этом здании один из больших кабинетов с видом на площадь станет моим рабочим местом почти на шесть лет.
Большой новый дом тянулся от старинного здания страхового общества «Россия» до Фуркасовского переулка и смотрел длинной стороной на Мясницкую улицу. Все три стороны его фасада были радостного желтого цвета, как у соцветий одуванчика. Это здание перекрыло собой ту часть Малой Лубянской улицы, которая идет параллельно Сретенке и выходит на Лубянскую площадь к водоразборному фонтану. Вместо фонтана в центре площади встал в 1958 году «железный Феликс» – памятник первому председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому.
Первый подъезд, к которому 12 мая 1973 года доставил меня автомобиль, находился на стыке двух разных фасадов, и вид из него открывался прямо на бронзовую спину статуи Дзержинского. В 80-х годах XX века унылый серый фасад бывшего общества «Россия» был приведен в архитектурное соответствие и цветовое единообразие с творением великого русского архитектора Щусева. Не знаю, были ли расстреляны эти несчастные военнопленные-строители после завершения своей работы, чтобы не унесли они когда-нибудь в свою Германию поэтажные планы новой штаб-квартиры МГБ и МВД, ее подвалов. Во всяком случае, в те страшные годы даже своих невинных граждан обитатели дома страхового общества «Россия» в массовом порядке объявляли шпионами и отправляли в концлагеря при стройках секретных атомных предприятий.
Как обладателей особых секретов, по завершении строек атомных и других подобных объектов их вместе с солдатами и младшими офицерами строительных батальонов Советской армии – свободными гражданами, также участвовавшими в строительстве, – без суда отправляли десятками тысяч в самые глухие, тупиковые зоны ГУЛАГа на Колыме. Лишь немногие вышли оттуда живыми…
Разумеется, все эти тяжелые страницы нашей истории стали открываться мне, как и всей стране, только в годы гласности, особенно после провала путча ГКЧП. До того, даже работая в этом здании, было опасно интересоваться его мрачной историей.
…В то самое первое мое утро на Лубянке один из двух прапорщиков, стоявших внутри первого подъезда, помог мне отворить тяжеленнейшую дубовую дверь с декоративными решетками из литой бронзы. В каждой из двух створок двери было по оконцу, затянутому зеленым репсом. Через эти оконца прапорщики могли наблюдать, кто подъехал к зданию. Каких-либо дополнительных дверей или стальных подвижных решеток, страхующих блокирование входа на случай чрезвычайных ситуаций или действий рвущейся в здание толпы, не было. После того, что показывалось в иностранных детективных фильмах о захудалых резидентурах и логовах Джеймсов Бондов, такая непредусмотрительность удивляла. В высоком мраморном зале, куда спускалась широкая дворцовая лестница с красной ковровой дорожкой, я сначала не заметил Калгина. Он сам приблизился ко мне из дальнего угла метрах в двадцати от меня.
После взаимного приветствия Женя сказал с еле заметной улыбкой: «А теперь начнем нашу экскурсию!»
Для начала он объяснил, что проходить через первый подъезд, расположенный в центре фасада здания на тогдашней площади Дзержинского, имеют право, кроме председателя и его заместителей, только четверо – начальник секретариата КГБ Павел Павлович Лаптев, помощник Юрия Владимировича по комитету Евгений Дмитриевич Карпещенко, помощник по политбюро, то есть я, и бывший главный помощник Андропова и начальник его секретариата Владимир Александрович Крючков. Крючков теперь был первым заместителем начальника внешней разведки Мортина, и все ждали, что он скоро займет место своего шефа, специально «подсаженный» для этого Андроповым в ПГУ. Разумеется, добавил Калгин, если к Юрию Владимировичу на прием приезжают члены ЦК, министры, послы и директора институтов Академии наук, то встречают их также в первом подъезде.
Справа от парадной лестницы оказалась дверь в лифт, сохранившийся, наверное, с времен страхового общества. Во всяком случае, кабина лифта была очень старого образца из художественного кованого железа, отделана внутри красным деревом и золоченой бронзой, огромным зеркалом и с красным бархатным диванчиком под ним. Мы поднялись в этом антикварном ящике на третий этаж, вышли из лифта налево и пошли в глубь здания сталинской архитектуры.
Мы прошли через длинный узкий зал с несколькими рядами стульев. Справа от нас оставалась глухая деревянная, из дубовых панелей, стена, длиной метров в тридцать.
Показывая на эту стену, Калгин пояснил:
– За ней – зал, где проходят заседания коллегии КГБ…
В конце стены и ковровой дорожки, идущей по малому залу, была дверь. Она выводила на просторную лестничную площадку у угловых помещений здания. За дверью, в большом пятиугольном вестибюле, было всего три двери, и под углом в девяносто градусов начинался длинный коридор, идущий в сторону Фуркасовского переулка. Здесь стоял пост, ограничивающий вход в особую зону, из которой мы только что вышли. Прапорщик, рядом с которым была тумбочка с телефоном, отдал честь. Калгин повернул сразу направо, открыл ключом из большой связки высокую двустворчатую дверь, за ней вторую – внутреннюю.
Мы попали в просторный кабинет с двумя огромными окнами на площадь Дзержинского. Комната была обшита, как и стена зала коллегии, дубовыми панелями. По правой ее стене, в центре, заставленная большим книжным шкафом и диваном, находилась также высокая, но одностворчатая дверь, которая вела, по всей видимости, в зал коллегии. В самом углу, недалеко от дивана, полускрытая портьерой от кабинета, белела фарфором раковина умывальника и квадратное зеркало над ней. Рядом стоял обычный шкаф, куда можно было повесить верхнюю одежду.
Калгин рассказал, что за дверью, в нынешнем зале коллегии, в 1950–1953 годах располагался кабинет Берии, тогда заместителя председателя Совета министров СССР. Он уже не был официальным шефом госбезопасности, но в силу особых функций, связанных с созданием под его руководством советской атомной бомбы, сохранял определенное влияние в МГБ, МВД и внешней разведке. Помещение, где мы находились, было его комнатой отдыха.
Выходит, вспомнил я семейную историю, именно за этой дверью Берия в 1952 году грубо отчитывал моего отца, бывшего резидентом в Берлине. Его срочно вывезли из Германии на личном самолете Берии за крупный спор с другом Лаврентия Павловича Кобуловым и по кляузе влиятельного гэбэшного генерала К.
Суть спора была в следующем. Летом 1950 года отец приехал резидентом в Берлин, получив в Москве для связи в Германии десятки агентов, бывших немецких офицеров, находившихся в наших лагерях для военнопленных. Однако большинство этих якобы завербованных агентов, вернувшись в Германию, отказывались впредь сотрудничать с советской разведкой без объяснения причин. Некоторые из немецких офицеров прямо говорили о том, что согласились на вербовку только ради того, чтобы скорее вернуться домой и не быть наказанными в СССР как военные преступники.
Во время войны именно люди К., и он лично, работали в лагерях военнопленных. Именно они навербовали сотни «мертвых душ» якобы советских агентов, то есть, говоря на современном жаргоне, вместо работы «гнали туфту». Разоблачение этой «липы», о которой гордо отчитывался и получал ордена генерал К., могло стоить ему в сталинские времена не только карьеры, но и свободы. Общее руководство деятельностью К. в лагерях военнопленных осуществлял друг и приближенный Берии Кобулов. Резидент осмелился покритиковать в 1952 году и Кобулова. Но в основном досталось за негодную работу главному вербовщику – К.
Богдан Кобулов был настолько близким другом и соратником Берии, что его расстреляли в 1953 году вместе с чекистом № 1. В 1952 году Б. Кобулов был фактически личным наместником Лаврентия Берии в Восточной Европе. Формально он возглавлял в Берлине советское отделение ведомства ГУСИМ3 – Главного управления советского имущества за границей. Это учреждение ведало всем трофейным имуществом – движимым и недвижимым, станками, изобретениями и чертежами, активами и финансами, – полученным СССР после Победы над Германией не только на ее территории, но и в странах, союзных с ней, – в Австрии, Венгрии, Финляндии, Румынии. Во времена Хрущева ГУСИМЗ было ликвидировано, а его активы были благополучно разбазарены по дешевке. Милым «социалистическим братьям» бесплатно перепадали жирные куски бывшей немецкой собственности, принадлежавшей осужденным Нюрнбергским военным трибуналом так называемым преступным организациям гитлеровской Германии – вермахту, СС, СА, абверу и т. п., законные имущественные права на которую перешли к СССР. Так, в финской столице Хельсинки представительство Совинформбюро помещалось в шестикомнатной квартире роскошного дома на набережной Финского залива, в аристократическом районе. Во время войны и до нее в ней проживал какой-то майор то ли вермахта, то ли абвера. После победы квартира перешла в собственность СССР.
До начала 60-х годов там квартировало хельсинкское представительство Советского информбюро. Но затем из Москвы пришел грозный приказ: передать это помещение бесплатно на баланс «бедного» посольства Болгарии в Финляндии. И передали! А сами стали арендовать за бешеную цену офис меньшей площади на другой улице. Такая щедрость и «доброта», как обычно, исходили от тогдашнего вождя – «нашего дорогого Никиты Сергеевича»…
Кобулов и генерал К. были крайне амбициозными личностями. А внутри спецслужбы кое-кто предпочитал сводить свои счеты с неугодными коллегами при помощи доносов и анонимных писем. Такие методы были довольно распространены. Я могу это утверждать потому, что и меня чаша сия также не миновала. Андропов получил среди прочих доносов на своих сотрудников от своих же работников донос и на меня. Но об этом в свое время.
К. занимался во внешней разведке НКВД работой с нелегальных позиций в Германии еще с довоенных времен. В разных очерках и книгах по истории НКВД и КГБ его фигуру теперь героизируют, хотя, по мнению некоторых старых разведчиков, именно он должен был бы нести серьезную ответственность также за провал «Красной капеллы» и агента из верхов гестапо – Брайтенбаха, то есть практически всей действовавшей в начале войны в Германии и Европе сети советской нелегальной разведки. Даже сама смерть генерала К. была загадочной. В 1961 году он был вызван из Берлина, где находился в длительной служебной командировке в качестве начальника Управления КГБ в Карлсхорсте, пригороде германской столицы. Но вызывал его не КГБ, а секретариат ЦК КПСС для какой-то серьезной беседы. После этой беседы, в подавленном состоянии, генерал отправился на корты «Динамо», где заранее договорился сыграть в теннис со своим другом и покровителем, бывшим председателем КГБ Серовым. В 1961 году Иван Серов еще оставался генералом армии, но уже был переведен Хрущевым на пост начальника ГРУ.
Якобы в самом начале игры К. умер на корте. Официальное заключение гласило: «разрыв сердечной аорты». Какие вопросы были закрыты этой неожиданной смертью генерала-теннисиста в расцвете сил? Кому она была выгодна?..
Итак, моим рабочим кабинетом стала комната, по соседству с которой Берия за два десятилетия до этого истошно орал на моего отца: «Как ты посмел открыть свой рот на моего друга Кобулова! Как ты вообще смеешь перечить начальству?! С подвалами познакомиться хочешь?!» Заместитель председателя Совета министров СССР стучал при этом кулаком по столу и грозно сверкал стекляшками пенсне. С криком «Вон отсюда!» Берия выгнал отца из кабинета, но, очевидно, забыл дать прямое распоряжение об увольнении и репрессии. Да он и не командовал тогда Комитетом информации, куда входила в те годы внешняя разведка. Приказ об увольнении резидента в Берлине подготовил и подписал у высшего начальства КИ генерал К. Отец после этого полгода лежал на кровати целыми днями и смотрел в потолок, а мы ждали по ночам, когда за ним придут. Но Берии уже тогда, за год до лета 1953-го, было, видимо не до какого-то строптивого резидентишки. Друзья из ПГУ устроили отца в начале 1953-го «под крышу» «Интуриста»…
Разумеется, за два десятилетия после этого инцидента и кабинет Берии, и его комната отдыха изменились, но, видимо, не случайно я ощущал тяжелую энергетику этих помещений. Зала коллегии я еще не видел, но мой кабинет был обставлен достаточно по-спартански.
Слева в углу стоял огромный старинный двустворчатый сейф, в человеческий рост и метра два в ширину. Он остался еще с купеческих времен страхового общества «Россия» и пережил многих владельцев из ЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД – МГБ– КГБ, тоже занимавшихся специфическим страхованием – советской Системы. Только «страховки» они выплачивали не десятками и сотнями тысяч царских рублей, а миллионами человеческих жизней.
В центре комнаты, ближе к левой стене, находился большой полированный, светлого дерева письменный стол с перпендикулярно приставленным к нему почти таким же столом – для совещаний, и десяток массивных стульев. У письменного стола – мягкий, на пружинящей подвеске и колесиках, удобный рабочий стул. Между окнами блестел экран телевизора «Рубин».
По левой стороне рабочего стола, ближе к окну, виднелся приставной стол, весь уставленный телефонными аппаратами. Калгин принялся мне объяснять назначение каждого из них.
– Вот этот высокий аппарат цвета слоновой кости, с золотым гербом СССР вместо диска – кремлевская АТС, в просторечии – «кремлевка», – говорил Женя. – А это – справочник к нему, в котором по алфавиту перечислены все лица, у которых установлен такой же аппарат, и они имеют право связываться по нему хоть с самим Брежневым!..
И Калгин передал мне что-то вроде записной книжки темно-вишневого цвета, внутри которой на пружинках, чтобы можно было быстро заменять листы с новыми фамилиями, было меньше сотни страниц. Затем он продолжил свою лекцию о связи и показал на другой такой же слоновой кости, с гербом, но стандартного образца телефонный аппарат.
– Это – ВЧ-связь, или «вертушка», – сказал он. – По нему можно связаться с любой точкой СССР, где есть такой же аппарат, и со столицами социалистических стран, а также городами в них, где есть советские генеральные консульства или расположены штабы советских зарубежных групп войск… Однако не прямо, а сделав заказ у телефонисток. Но самый главный для вас – вот этот, серого цвета, с красной крышкой вместо наборного диска, – говорил Женя. – Это – прямой аппарат к телефонному пульту Юрия Владимировича. Если поднимаете трубку, то в кабинете председателя раздается звонок и мигает лампочка рядом с вашим именем. Минуя секретарей, председатель сам снимает его трубку. Если этот ваш телефон зазвонил, то бросайте все разговоры и бумаги – вас напрямую вызывает шеф… Остальные аппараты, – показал Калгин на целый ряд разноцветных телефонов, – это аппарат оперативной связи КГБ со всеми территориальными органами и погранвойсками, внутренний четырехзначный коммутатор и два городских телефона – один с известным всем началом номера с цифр 224… а другой – обычный городской. По «кремлевке», оперсвязи и ВЧ можно говорить вполне в открытую, они защищены от подслушивания, а по остальным телефонам необходимо соблюдать конспирацию, поскольку от подслушивания они не защищены…
Я тогда поверил Калгину на слово относительно невозможности прослушивания «кремлевки», ВЧ и оперсвязи, хотя, как выяснилось значительно позже, зря. Подчиненный самому председателю, в КГБ существовал тогда так называемый 12-й отдел. Этот отдел возглавлял Юрий Сергеевич Плеханов, одно из самых доверенных лиц Андропова. Когда Юрий Владимирович работал секретарем ЦК, Плеханов был у него секретарем, то есть самым осведомленным из помощников. Теперь Юрий Сергеевич возглавлял отдел, занимавшийся подслушиванием не только обычных, подозреваемых в уголовщине абонентов, санкцию по которым давала Генеральная прокуратура. Тогда можно было предположить, а в 1991 году, после путча ГКЧП, окончательно стало ясно, что внутри 12-го отдела существовало специальное подразделение, которое подслушивало и «кремлевки», и ВЧ, причем самых высоких персон, включая членов политбюро, секретарей ЦК, членов ЦК, министров и прочих кремлевских вельмож. Я не удивился бы, если оказалось, что подслушивали и Брежнева… А уж его семью – вне всякого сомнения. Как писала в 1991 году, после краха путча ГКЧП, московская свободная пресса, 12-й отдел в это время возглавлял генерал Евгений Иванович Калгин.
Что касается советских высокопоставленных объектов подслушивания, то никто из них никогда и не сомневался, что все телефонные контакты номенклатуры тщательно фиксировались. А затем они изучались не только на предмет содержания в них «умысла» против Первого, но и того, кто с кем «дружит» и кучкуется и не опасно ли это станет в будущем.
Чтение детективных романов замечательных западных писателей Фредерика Форсайта, Тома Клэнси, Джона Ле Карре и других, которые сами служили в эффективных разведках мира, привело меня к уверенности, что не только советские спецслужбы занимались грязным делом подслушивания. Распространено было это по всему земному шару. Например, в скандалах после гибели принцессы Дианы открылось, что британские спецслужбы прослушивают Букингемский дворец и членов королевской семьи. Очень часто самые тесные союзники или сателлиты нагло подслушивали друг друга. С такой практикой я сам столкнулся в конце 80-х годов в ГДР, будучи там заведующим бюро АПН. По делам мне часто приходилось звонить в советский Дом советской науки и культуры, расположенный в самом центре Восточного Берлина, на Фридрихштрассе. И всегда было удивительно, что после набора номера абонента в этом советском учреждении раздавались сначала обычные гудки вызова, но буквально за две секунды до того, как человек на другом конце провода подходил к телефонному аппарату и снимал трубку, раздавался короткий специфический сигнал. Однажды я спросил в шутку директора Дома дружбы космонавта Валерия Быковского, не записывают ли они все входящие звонки.
– Не мы, но записывают! – совершенно серьезно ответил он. – В том числе и наши внутренние телефонные и иные разговоры!..
– И кто же такой храбрый? – поинтересовался я.
– Недавно один из наших сотрудников как-то случайно попал из подвала нашего дома в коридоры под соседним, немецким жилым корпусом… – рассказал мне Валерий. – Он открыл там какую-то красную подвальную дверь, за которой оказался огромный зал телефонной прослушки. За длинными рядами столов сидело множество молодых и пожилых женщин в наушниках, а перед каждой из них в несколько этажей громоздились катушечные магнитофоны. Кстати, наши дорогие союзники – немцы слушали оттуда наверняка здания советского посольства и торгпредства, жилые дома для советских дипломатов и персонала советских учреждений, расположенные буквально в трехстах метрах от Дома советской науки и культуры. Штази очень хотела знать, о чем говорят дипломаты и другие советские функционеры со своими абонентами…
Классик мировой шпионской литературы Джон Ле Карре, в прошлом крупный британской разведчик, дал в своем романе «Секретный пилигрим» («The Secret Pilgrim») восхитительную картинку из жизни самых засекреченных сотрудниц спецслужб. Она типична для всех профессионалов таких дел.
«Из многих призваний, составляющих сверхмир разведки, ни одно не требует такой абсолютной преданности, как преданность сестринской общины слухачек. Мужчины для этого не годятся. Когда речь идет о чужих судьбах, только женщины способны на такую страстную отдачу. Обреченные трудиться в подвалах без окон, среди массы серых проводов и нагромождений магнитофонов стационарного образца, они занимают часть преисподней, населенную невидимками, жизнь которых им известна лучше, чем жизнь близких друзей и родственников. Они никогда не видят своих подопечных, никогда с ними не встречаются, никогда не прикасаются к ним и не спят с ними. Но эти тайные любовницы испытывают на себе всю силу их личностей. Благодаря микрофонам или телефонам они слышат, как те уговаривают друг друга, рыдают, едят, курят, спорят и совокупляются. Они слышат, как те, готовя пищу, рыгают, храпят и волнуются. Они терпеливо выслушивают их детей, родственников и нянек, так же как сносят их телевизионные пристрастия. А в наши дни они уже ездят с ними в машинах, сопровождают по магазинам, сидят в кафе и у игровых автоматов. Они – тайные участники нашего дела» [2].
Кстати, пастырь этой сестринской общины в СССР андроповских времен Юрий Сергеевич Плеханов был во времена ГКЧП уже начальником 9-го управления, то есть шефом охраны генсека и высшего руководства. Видимо, он занимал этот пост при Горбачеве в силу своей прошлой, подслушанной «осведомленности» о личных и служебных секретах, переплетениях дружеских связей всей тогдашней советской элиты. Все это было интересно знать и Крючкову, тогдашнему прямому начальнику Плеханова, и Горбачеву, которого обслуживал, в том числе и «наушнической» информацией, начальник «девятки». Да и сам председатель КГБ Крючков, не сомневаюсь, широко пользовался прослушкой в своих придворных интригах…
Калгин передал мне связку ключей и перечислил:
– Этот от двери, этот – от второй двери, эти два – от сейфа… Этот маленький, очень сложной формы, – от специального замка, который надевается на замочную скважину сейфа, и его никто не сможет открыть… Сконструировал его старый великий медвежатник на основе своего полувекового опыта. «Экспертная комиссия», которая принимала его изобретение на практике, состояла из самых квалифицированных специалистов КГБ и собранных со всего Советского Союза домушников и медвежатников экстра-класса. Время у каждого из «членов комиссии» было не ограничено. Но ни один из них ничего не мог поделать с этим замком…
Как-то мне посчастливилось увидеть «изобретателя». Его творение надо было смазать, но разрешалось делать это только при мне. Он оказался маленьким, сухоньким и сгорбленным старичком, руки которого серебрились из-за десятилетиями въедавшихся в них молекул металла. Старик давно был на свободе и в штате Оперативно-технического управления КГБ. На вид ему было лет восемьдесят, но глаза его ярко блестели, как у молодых, творчески работающих людей…
Калгин продолжал меня наставлять премудростям работы с сейфом. Он выделил на связке ключей металлический кружок, похожий на медаль.
– Это – латунная печать с личным номером, – сказал он, – которая вдавливается в пластилин на дощечке с двумя шнурками при опечатывании сейфа… – Он показал мне, как это делается. – Вечером, перед уходом с работы, сейф следует опечатать, а утром обязательно проверить номер и сохранность печати…
Стрелки на больших настенных часах приблизились к девяти.
– А теперь пойдемте в кабинет Юрия Владимировича, он будет представлять вас своим заместителям… Совещание с ними назначено на девять пятнадцать, – завершил первую часть экскурсии Калгин.
Самостоятельно заперев двери первого собственного кабинета, я последовал за Калгиным по коридору в обратном направлении, мимо зала коллегии, в противоположный угол здания. Там располагался кабинет Андропова, его приемная с дежурными офицерами и кабинет начальника секретариата Лаптева.
В приемной стояла высокая стойка, за которой у пульта с сотней телефонных переключателей сидел дежурный офицер. Было видно, что председатель напрямую связан с огромным количеством кагэбэшных и пограничных начальников.
Напротив распахнутой двери кабинета Андропова была дверь начальника секретариата. Лаптев выходил как раз из кабинета Юрия Владимировича, он заносил туда перед приездом шефа первые кожаные папки с самыми срочными документами. В течение всего дня он носил их охапками. Начальник секретариата оказался довольно щуплым человеком маленького роста, узкоплечим, но с непропорционально большим задом, отросшим, видимо, от четверть-векового непрерывного сидения в аппарате. Его голова была продолговата и покрыта довольно редкими темными волосами, небрежно зачесанными на правую сторону. Глаза смотрели настороженно, даже когда любезная улыбка открывала два больших передних верхних резца, как у зайца. Он часто улыбался, но глаза его всегда смотрели холодно и испытующе.
Теперь он внимательно оглядел меня с головы до ног, поздоровался и протянул руку для знакомства. Ладонь у него была какая-то вялая и холодная. Выглядел он не только усталым, но и больным – под глазами явственно выделялись черные мешки.
Тренькнул звонок телефонного аппарата из первого подъезда. «Председатель в здании!» – сообщил прапорщик от двери дежурному офицеру приемной.
Ровно в девять вошел в сопровождении «прикрепленного», то есть охранника, Юрий Владимирович. Председатель первым коротко поздоровался со всеми и, проходя в кабинет, бросил мне:
– Заходи вместе с зампредами!
Буквально через минуту в приемную стали собираться заместители председателя. Видимо, каждый получил сообщение от прапорщиков из парадного подъезда о прибытии Андропова. Первым вошел высокого роста, полный, идущий широко расставленными ногами, лысеющий блондин в штатском с добродушной улыбкой.
– Цвигун… – сообщил он мне, знакомясь. Я уже слышал, что он был одним из двух первых заместителей Андропова.
Следом вошел маленького росточка, с большой загорелой бритой головой, по которой разбежались мелкие веснушки и коричневые старческие пятна, с двумя глубокими морщинами по сторонам крупного носа генерал-полковник, со многими рядами орденских ленточек на мундире.
Он с интересом посмотрел на меня, но не подошел, а остался стоять близко к двери кабинета Андропова.
– Это Георгий Карпович Цинев, глава военной контрразведки… – шепотом сообщил мне Калгин и добавил: – Они с Леонидом Ильичом женаты на родных сестрах, то есть свояки…
Стали подходить и другие зампреды. Калгин шепотом называл их мне:
– Малыгин Ардалион Николаевич – зампред по хозяйству… Чебриков Виктор Михайлович – борьба с идеологическими диверсиями… Пирожков Владимир Петрович – зам по кадрам… Емохонов Николай Павлович – все технические подразделения…
У дежурного офицера раздался звонок серого аппарата с красной крышкой вместо диска, стоявший поверх пульта. Он мгновенно схватил трубку, выслушал два слова и сказал присутствующим:
– Юрий Владимирович просит заходить…
Первым вошел маленький Цинев, за ним, словно в кинокомедии, – громоздкий и высокорослый Цвигун, затем Чебриков, Пирожков, Емохонов, Малыгин. Таким образом сразу обозначилась иерархия среди зампредов.
Андропов сидел за своим письменным столом в глубине кабинета у стены, за которой, как я понял, находилась его комната отдыха, столь запомнившаяся мне две недели тому назад.
Зампреды встали по ранжиру у длинного стола для совещаний, стоявшего у окон. Я встал у стула в дальнем от председателя конце стола.
Юрий Владимирович положил в папку бумагу, которую держал в руках, и оставил ее на письменном столе. Выйдя из-за него, он скомандовал по-военному: «Прошу садиться!» Затем он направился ко мне, держа что-то красное в ладони.
– Для начала представляю вам своего нового помощника… – я так и остался стоять, – Синицина Игоря Елисеевича. Игорь Елисеевич будет вести мои дела по политбюро, он является сотрудником аппарата ЦК КПСС… Прошу любить и жаловать!.. Вручаю тебе, Игорь Елисеевич, служебное удостоверение!
Он сказал это торжественно и, словно орден, протянул маленькую красную книжечку из сафьяна.
– Спасибо! – ответил я спокойно потому, что на фоне всех сегодняшних переживаний церемония не произвела на меня особого впечатления.
Добродушно поглядев на меня, зам по кадрам Пирожков пошутил:
– Оказывается, не только мы посылаем своих людей «под крышу»… Теперь и под нашу «крышу» Центральный комитет прислал своего человека…
Все заулыбались.
– Воистину так… – поддержал Юрий Владимирович шутку, а потом дружелюбно сказал мне: – Игорь Елисеевич, зайди теперь к Пал Палычу, он введет тебя в курс дела…
Не успев как следует разглядеть кабинет Андропова, известный теперь многим по хроникально-документальным фильмам, я направился в комнату напротив. Единственное, что бросилось тогда в глаза в кабинете председателя, – огромная карта сбоку от углового камина, вделанная в нишу и закрытая от посторонних взоров полотняной шторкой. Глубина ниши была такова, что в ней могло быть скрыто много различных карт.
Рабочая комната Лаптева была довольно большая – метров сорок. Одну стену за письменным столом в глубине ее занимала огромная карта СССР. На правой стене – карта мира среднего размера. К письменному столу, за которым восседал Пал Палыч, был приставлен стол для совещаний. Места за ним по одну сторону занимали неизвестные мне люди в штатском. Лаптев представил их. Это оказались заместители начальника секретариата полковник Георгий Кириллович Ковтун, полковник Федор Михайлович Панферов, помощник Юрия Владимировича по КГБ Евгений Дмитриевич Карпещенко, еще несколько человек. Во главе стола для совещаний, напротив Карпещенко, было оставлено свободное место. Я понял, что это для меня. Каждый из присутствующих кратко поведал о том, какие функции он выполняет.
Два молодых офицера оказались дежурными работниками группы «Особая папка». Группа размещалась в крепко охраняемых и блокированных помещениях секретариата, в особой зоне на третьем этаже. Круглые сутки в ней дежурило несколько офицеров. Оказалось, что все документы ЦК КПСС с грифом «совершенно секретно», проходящие через меня на стол Юрия Владимировича, подлежат хранению именно в этом подразделении. В моем сейфе они могли оставаться не более суток. Только бумажки с надписью «секретно» и «для служебного пользования» могли лежать сколько угодно.
Лаптев сообщил мне по поручению Андропова, что я буду получать кроме цековских документов и записок в политбюро и ЦК из разных ведомств также важнейшие шифровки послов для сведения, анализа и использования в материалах, которые будут готовиться мной для Юрия Владимировича к заседаниям политбюро.
– Но телеграмм резидентов и других исходящих и входящих документов КГБ вам даваться не будет… – елейным тоном, словно ожидая протеста с моей стороны, вымолвил Пал Палыч. – Так решил Юрий Владимирович…
– Меньше знаешь – крепче спишь, – ответил я начальнику секретариата старой пословицей и понял, что мне не следует совать нос в дела КГБ без специального на то приглашения. Реальность тут же опровергла теорию о малом знании. В кабинет Лаптева, постучавшись, вошел молодой офицер в лейтенантских погонах на мундире, с коричневым кожаным портфелем в руках.
– Извините, мне сказал дежурный, что товарищ Синицин у вас… – пояснил он.
– Игорь Елисеевич, это к вам фельдъегерская служба с документами, – кивнул на меня офицеру Пал Палыч.
Офицер подошел к столу, раскрыл свой портфель, достал оттуда два очень больших красных конверта, поверху которых стояло: «политбюро ЦК КПСС», а чуть ниже, мелким шрифтом: «совершенно секретно». На лицевой части под всеми этими строчками, в центре конвертов, крупным типографским шрифтом красовалось имя адресата – «Тов. Андропову Ю. В.».
Я проверил, как мне тут же показал Лаптев, сохранность больших сургучных печатей на обратной, заклеиваемой стороне конвертов, оторвал белые бланки расписок, подклеенных к той же стороне, проставил дату, время получения и свою подпись. Офицер аккуратно сложил расписки в портфель, повернулся кругом и вышел.
– Если что не ясно, – любезно сказал мне начальник секретариата, – приходите, советуйтесь…
– Спасибо, – поблагодарил я его и отправился в свой кабинет вскрывать конверты и начинать работу.
Едва я уселся за стол и приготовился разрезать боковины конвертов очень длинными канцелярскими ножницами, заботливо приготовленными кем-то у письменного прибора, в дверь постучали. Вошел один из двух офицеров группы «Особая папка» и принес несколько сафьяновых папок разного цвета. В верхнем правом углу каждой из них золотом было вытиснено два страшных слова: «совершенно секретно».
На некоторых папках в центре красовалось крупными буквами: «Для доклада», «Голосования по политбюро», «К заседаниям политбюро». Офицер объяснил мне, в какие папки класть различные документы, которые будут приносить фельдъегеря. Кстати, в одном из только что принесенных конвертов, который я успел открыть после прихода офицера, оказалось постановление политбюро с грифом «совершенно секретно» и с красным штампиком сверху: «особая папка». Подписано оно было Брежневым. В этом документе говорилось примерно следующее: «Выделить компартии Италии 1 200 000 долларов. Передачу средств поручить Комитету государственной безопасности при СМ СССР».
До этого, работая в Совинформбюро и АПН, я слышал, что помощь братским партиям оказывалась и в других формах. Это была, например, завышенная по сравнению с действующей в конкретной стране плата за типографские услуги и бумагу при печатании наших изданий и других пропагандистских материалов, заключение с фирмами компартий экспортных контрактов по демпинговым ценам на советские товары и покупка через них потребительских промышленных продуктов – по завышенным ценам. Коммерческие посредники, разумеется, рекрутировались из видных функционеров, близких к руководству компартий. Они регистрировались в торговых палатах своих стран как «купцы», «предприниматели» и осуществляли свои «сделки» с официальными внешнеторговыми организациями СССР. В таких экспортно-импортных случаях советские представители действовали по указаниям партийных чиновников из ЦК КПСС. Частенько «коммерсанты»-посредники из братских партий неплохо лично наживались на поставках из СССР и в Советский Союз, пронося мимо партийной кассы в собственный карман часть прибыли. Так, один из моих знакомых шведских коммунистов стал миллионером на подобных операциях. Начал он с того, что из Советского Союза получил за гроши несколько драгоценных породистых лошадей…
За шесть лет моей работы у Андропова документы из «особой папки», об оказании прямой финансовой помощи компартиям, приходили с определенной регулярностью. Суммы были только разные, в зависимости от численности партии или дислокации ее на стратегическом поле внутри «империализма». Помнится мне, что самые крупные дотации получали кроме итальянской французская, британская, ряд латиноамериканских партий. Удивляло, что объем помощи оставался неизменным, даже когда эти партии стали критиковать Москву и склоняться к еврокоммунизму… Разумеется, я тогда не подсчитывал общую сумму «выдач» КПСС братским партиям. Но когда в 1991–1992 годах эта тема прозвучала в демократической российской печати, мой опыт подсказал, что чисто финансовая помощь международного отдела ЦК на Старой площади компартиям составляла не менее двух десятков миллионов долларов в год…
…Я выложил эту первую в моей жизни бумагу политбюро перед молодым офицером. Он показал, в какую папку для визы Юрия Владимировича кладутся такие документы. Володя, который сразу вызвал у меня симпатию, проявил знание и другого предмета.
– Игорь Елисеевич, обратите внимание на разворот вашего удостоверения личности, – показал он на маленькую красную книжечку, лежавшую еще на столе, поскольку я только что предъявлял ее прапорщику, стоявшему у дверей из коридора в вестибюль.
Я раскрыл книжечку, и Володя М. показал мне на маленький овал, выдавленный на лаке, покрывавшем текст, и на пятиугольник такого же размера – около сантиметра в диаметре. В овале стояло «Общий отдел ЦК КПСС», а в пятиугольнике – цифра 3.
– Эти значки, – пояснил офицер, – дают вам право прохода во все здания ЦК КПСС и даже на пятый этаж первого подъезда, где находятся кабинеты Брежнева и Суслова… По ходу дела я буду давать вам пояснения по всем бумагам ЦК…
Офицер ушел. Я сломал сургучные печати на втором конверте, ножницами вскрыл и его. Там оказались проект какого-то «постановления ЦК КПСС, Совета министров СССР, Президиума Верховного Совета СССР и ВЦСПС» и пояснительная записка к нему для очередного заседания политбюро в ближайший четверг. За почти шестилетний срок работы в этом кабинете таких конвертов прошло через мои руки несколько тысяч. Сначала я относился к ним с большим почтением неофита. Но, сознаюсь, года через три-четыре у меня начинало сводить скулы от многозначительной пустоты, многословия и скуки почти каждого документа, приходящего из ЦК. К сожалению, у меня не хватило силы ума, а может быть, и человеческой смелости, чтобы сразу осмыслить на этой основе все ускоряющийся развал Системы. Фактор зомбирования ослабевал, но все-таки оставался до 1990 года. Я просто плыл по течению, но семена разочарования в символах марксистско-ленинской веры, безгрешности и прозорливости партии и ее вождей, ведущих нас к коммунизму, видимо, именно тогда и начали пускать ростки у меня в душе. Чем больше я знакомился с механизмом работы аппарата ЦК, тем более убеждался, что коэффициент полезного действия верхушки партии и ее самого руководящего звена – политбюро ниже, чем КПД старого паровоза.
Все мое поколение – от октябрят до убеленных сединами ветеранов, за исключением, разумеется, миллионов узников ГУЛАГа, – по всем праздникам и массовкам обожало исполнять песню «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка…». Но после краха ГКЧП и последовавшего за этим бурного потока информации о лжи и многих грязных закулисных делах Системы, ее вождей, мне, как и большой части современников, стало окончательно ясно, что наш паровоз серии «ЦК КПСС» оказался изрядно ржавым, политым кровью и ведущим весь состав – 15 союзных Советских Социалистических Республик – СССР – не вперед, к коммунизму, а назад – к станции под названием «Крах».
Политическое бюро – политбюро, ПБ – венчало пирамиду правящей партии – КПСС. Этот высший партийный орган возник впервые в октябре 1917 года в столице России Петрограде, где Центральный комитет из двух десятков функционеров маленькой заговорщицкой партии большевиков, насчитывавшей в общей сложности чуть больше 80 тысяч членов, по инициативе Феликса Дзержинского принял решение захватить власть. В политбюро были включены Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, Троцкий, Сокольников и Бубнов. Однако ПБ в исполнении этого решения участия не принимало. Руководил переворотом фактически Военно-революционный комитет Петроградского Совета, в который входили лишь некоторые члены политбюро. Формально политическое бюро было избрано из состава Центрального Комитета на VIII съезде большевистской партии. С 1919 по 1985 год в политбюро входило всего, сменяясь от съезда к съезду, около ста человек.
Одновременно с ним для ведения конкретной организационной работы в Центральном Комитете было создано Оргбюро, которое функционировало параллельно с ПБ. Но Сталин очень быстро превратил политбюро в своего рода «группу поддержки» из своих самых верных друзей и сторонников, а сам орган – в высшую инстанцию правящей партии. Тех же членов ПБ, кто начинал вызывать его подозрения в неверности, расстреливали или убивали. Таковых было за сталинскую историю политбюро тринадцать человек. После смерти Сталина его ближайшими соратниками – Хрущевым, Маленковым, Молотовым, Булганиным – из президиума партии, как после XIX съезда стало называться ПБ, физически, то есть путем расстрела, был «исключен» из высшего органа КПСС только один опасный для партийной верхушки деятель, не добитый самим вождем, – маршал госбезопасности Лаврентий Берия. Со времен Хрущева неугодных политиков высшего ранга изгоняли либо в послы, либо на пенсию.
Звание члена политбюро было наивысшим в КПСС, после главной партийной должности – генерального секретаря. Партийную зарплату члены ПБ не получали, она выплачивалась им по месту основной работы, где они трудились в качестве глав ветвей власти или влиятельнейших крупнейших ведомств, а также на должностях секретарей ЦК КПСС и важнейших региональных партийных органов. Но их прочее материальное обеспечение было на самом высоком в СССР уровне. Члены политбюро при избрании сразу приобретали статус «охраняемых» лиц, коих в государстве было не более двух с половиной десятков. Для их охраны, материального, медицинского, дачного, курортного, транспортного и всякого иного обеспечения функционировало особо закрытое 9-е управление КГБ со своим собственным бюджетом.
В послесталинские времена в политбюро входили уже не дружки диктатора, а выбранные узким кругом руководителей партии и государства высшие чиновники и функционеры. Центральный Комитет КПСС после каждого съезда избирал в состав политбюро по должности главу Правительства СССР, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, ведущих секретарей ЦК КПСС, главу Комитета партийного контроля, первых секретарей ЦК Компартии Украины, Московской и Ленинградской партийных организаций. В 1973 году одновременно были избраны членами политбюро по рекомендации Брежнева и Суслова главы трех важнейших ведомств: КГБ – Андропов, Министерства обороны – маршал Гречко, Министерства иностранных дел – Громыко. До Андропова единственным первым чекистом, удостоенным при Сталине избрания в ПБ, был глава советских спецслужб Лаврентий Берия.
Без санкции политбюро никакие важнейшие решения, в том числе кадровые, в СССР не принимались и не утверждались – будь то Совмин, Верховный Совет, партия и профсоюзы. Тем самым сохранялась видимость коллегиальности на самом высшем уровне.
Наряду с политбюро, собиравшимся на заседания, как правило, один раз в неделю – по четвергам, функционировал постоянно, с дореволюционных времен, еще один – рабочий орган Центрального комитета партии – секретариат. Вначале это был чисто технический штаб, главной задачей которого было ведение текущих дел организационного и исполнительского характера, ведение переписки с местными партийными организациями. В марте 1919 года секретариат состоял из ответственного секретаря и пяти технических сотрудников.
Через год, к X съезду большевистской партии, число работников секретариата превысило шесть сотен постоянных работников. Идя к власти в партии и государстве, один из внешне сереньких и малозаметных на трибунах рабочих секретарей – Иосиф Сталин – быстро захватил руководящие позиции в секретариате, продвигал на должности секретарей ЦК своих друзей и сторонников. В результате он стал генеральным секретарем ЦК и получил еще больше рычагов власти в партийном аппарате. Он и все последующие генсеки ведали всеми вопросами, а остальные секретари – в зависимости от воли генерального – получали в свое кураторство какой-то участок работы – идеологию, партийно-организационную работу, оборону, промышленность, сельское хозяйство, связь с партиями стран социалистического содружества, «братские» партии мирового коммунистического и освободительного движения…
В партийном секретариате во все десятилетия складывалась своя иерархия. Несколько секретарей являлись одновременно членами политбюро. Они были, так сказать, первого сорта, но и среди них были более равные, чем остальные, в силу того, что стояли ближе к генеральному, являясь его личными друзьями и старыми соратниками. Другие секретари считаются в наивысшей номенклатуре деятелями второго сорта. Они не относятся к категории охраняемых, им подают не самые шикарные и громоздкие автомобили марки ЗИЛ, которые народ прозвал «членовозами», а чуть менее комфортабельные и не столь оснащенные радиотелефонами и другой связью, семиместные автомобили полумассовой сборки Горьковского автозавода на Волге – «чайки». В отличие от членов политбюро, которые за свое «членство» заработной платы не получали, секретари ЦК КПСС получали, как и все сотрудники аппарата ЦК КПСС, заработную плату. Она составляла в 70-х годах 600 рублей в месяц. Из фондов 9-го управления КГБ секретари ЦК получали ежемесячно продуктов питания на сумму 250 рублей. Все остальные блага в виде роскошных персональных подмосковных капитальных дач с котельными, канализацией, холодным и горячим водоснабжением, с хозяйственными территориями в виде огородов, скотных дворов, фруктовых и ягодных садов, медицинского и санаторного обслуживания, летнего и осеннего отдыха на черноморских, кавказских, волжских и других государственных дачах секретари и члены политбюро получали одинаково щедро. Все оплачивалось как Управлением делами ЦК, так и «девяткой».
Через самую верхушку партии – ее Центральный комитет – ежегодно проходили сотни тысяч страниц документов, которые на словах формулировали якобы какие-то решения и новые подходы, призывали «углубить» и «усилить», а на деле практически никем не выполнялись. «Застой» потому и оставался застоем, что «наверху» никто, никогда и никого не спрашивал о невыполненных решениях и постановлениях. Ошибки, недобросовестность, вранье и ложь, недисциплинированность и даже преступления замалчивались, скрывались для того, чтобы не нарушалась «стабильность» в обществе и покой престарелых вождей.
В руководящих указаниях инстанции, как высокомерно назывался в СССР аппарат ЦК КПСС, поражала пустота директивного словечка «надо!». Оно буквально переполняло все партийные документы, речи вождей, передовицы газет, решения конференций и собраний. Но как «надо», в какой срок «надо», каким образом организовать и какому ведомству из многих поручить исполнение этого «надо», каким образом финансировать, кому за что отвечать, выполняя это «надо», – оставалось расплывчатым и неконкретным.
Принимались, например, постановления о возведении в Ростовской области завода Атоммаш, предприятия, которое должно было выпускать уникальное и громоздкое оборудование для строительства атомных электростанций. Но инженерные проекты были с дефектами, финансировались они недостаточно, не встраивались в систему народного хозяйства, а потому шли через пень-колоду. Через несколько лет после начала гигантской стройки вдруг оказывалось, что она спроектирована на тектонических разломах, в зоне землетрясений. По бетонным стенам этого завода-гиганта уже в начале 80-х годов поползли трещины. На заседании политбюро, которым руководил тогда Юрий Владимирович Андропов, разразился грандиозный скандал, который показал новому генсеку полную недееспособность и безответственность и старцев из высшего органа партии, и их сверстников из Совета министров СССР.
Открывалась комсомольская стройка Байкало-Амурской магистрали, но не выполнялись решения о ее финансировании и снабжении строительными материалами, тяжелыми рельсами, которых металлургические заводы выпускали недостаточно даже для планового ремонта существующих железнодорожных магистралей. Один из важных нерешенных вопросов, остающийся актуальным до сегодняшнего дня, – автоматическая посадка пассажирских самолетов в крупнейших аэропортах Советского Союза в условиях плохой видимости во время туманов и в прочих нелетных погодных условиях. В записке, представленной «Аэрофлотом» к соответствующему заседанию политбюро в середине 70-х годов, сообщалось, что в США и Западной Европе подобные системы работают и хорошо себя зарекомендовали. У нас тогда тоже были аналогичные комплексы приборов для военных аэродромов. Однако Министерство обороны не хотело рассекречивать эти произведения военной промышленности. К тому же стоили они очень дорого, и политбюро не пожелало санкционировать высокие расходы ради безопасности и комфорта гражданских пассажиров.
Политбюро принимало десятки хозяйственных «решений ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС». Над каждым из них трудились как пчелки сотни сотрудников аппарата ЦК, перекидывая друг другу справки, проекты решений и постановлений. Аппаратчики привычно выхолащивали из первоначальных предложений специалистов промышленности, ученых и экономистов – как бы чего не вышло – все живое, острое, действительно могущее продвинуть решение данной проблемы вперед. Но жизненной, реальной оценки ситуации в экономике, на основе которой только и можно было принимать решения, партийные функционеры всех рангов боялись как огня. Они страшились вызвать неудовольствие острой постановкой вопроса у какого-либо секретаря ЦК или члена политбюро, особенно заинтересованного в принятии данного проекта. Повторяю – в принятии… А там хоть трава не расти!..
Что касается советских пятилеток и других помпезных экономических планов, то они практически никогда не выполнялись на сто процентов. Долгожитель на высших государственных должностях, председатель Госплана Байбаков, уже после горбачевской перестройки признавался в одной из телепередач о своем друге и начальнике, председателе Совета министров СССР Алексее Косыгине, что он, докладывая шефу различные плановые показатели, регулярно врал ему, завышая различные цифры, а Косыгин не замечал обмана.
В Советском Союзе лгали регулярно «наверх», своим партийным и государственным начальникам, от самых малых до самых больших хозяйственных руководителей. Председатели колхозов и директора фабрик привирали в отчетах, завышая количество произведенной продукции, райкомы, обкомы и республики сводили в стройные таблицы фальсифицированные цифры, передавали их в Госплан, Совмин и ЦК КПСС, получая «сверху» дождь орденов и медалей якобы за выполненные и перевыполненные планы и «исторические решения» партии.
Поэтому в красных конвертах, которые приходили ко мне на стол с офицерами фельдъегерской службы, находились зализанные, обкатанные, банальные бумажки, консервирующие развал народного хозяйства, его милитаризацию – словом, все то, что теперь емко характеризуется словом «застой». Принимаемые политбюро «постановления» и «решения» по «обкатанным» аппаратом ЦК КПСС документам двигали страну не вперед, а толкали назад, иногда и в сторону сталинизма. Поэтому лавры создателей этого болота по-честному должны разделить между собой не только Брежнев, Суслов, Кириленко и другие члены политбюро, но и весь многочисленный аппарат ЦК КПСС.
Ежедневно на мой стол ложилась масса документов ПБ, присылаемых так называемым опросом на голосование Андропову. Это были рутинные бумажки о кадровых назначениях на высшие должности в СССР, входящие в так называемую номенклатуру политбюро. Круг этих людей был не очень велик. Военачальники, в чине от генерал-полковника, министры и их заместители, послы и советники-посланники, заведующие отделами аппарата ЦК КПСС и их заместители, первые лица в общественных организациях, секретари обкомов, председатели областных и крупных городских Советов депутатов трудящихся – всего, как я думаю, менее десяти тысяч человек. Это и был самый верхний слой номенклатуры. Но главное состояло в том, что еще до голосования членов политбюро все вопросы об этих кандидатурах уже были решены келейно Брежневым, Черненко, Сусловым, Андроповым и Устиновым. Голосование по ПБ сохраняло только видимость «партийной демократии» в принятии решений.
Регулярно приходили листы «голосований» о материальном обеспечении отправляемых на пенсию государственных деятелей, вдов, детей и других близких родственников умерших высоких персон. Кому какую пенсию назначить, сохранить ли право на «столовую лечебного питания», то есть «авоську», какую поликлинику 4-го Главного управления при Минздраве СССР из трех существующих оставить, какую дачу и в каком поселке предоставлять, сколько дать часов пользования в месяц государственной автомашиной – обсуждалось на уровне политбюро. Бытовые проблемы, которые могли решить завхозы ЦК или Совмина, должны были освятить своими подписями члены высшего ареопага партии. Тем самым мелкие хозяйственные дела превращались в политические рычаги, напоминающие возможным строптивцам и критиканам, кто именно раздает блага и привилегии.
Следующий, более низкий слой составляла «номенклатура секретариата ЦК». Таковых было, видимо, десятки тысяч чиновников и управленцев. Голосование об их назначениях, отставках и пенсиях проводили «за повесткой дня» заседаний секретариата секретари ЦК.
Со своими относительно «свежими» журналистскими мозгами и некоторой «западной», социал-демократической закваской, которую вынес из многолетней работы в Скандинавии, я пытался как-то противостоять валу серых и пустых документов, готовя для Андропова свои комментарии к вопросам повесток дня заседаний политбюро. Что из этого вышло, я расскажу чуть ниже. Но в 70-х и даже 80-х годах, повторяю, я искренно верил в то, что Систему можно подправить разумными реформами сверху.
…С самого начала я настроился на самый суровый и продолжительный режим рабочего времени. Действительность оправдала мои ожидания, поскольку рабочий день Юрия Владимировича продолжался с девяти утра до полдесятого вечера или еще позже – по будням. По субботам он трудился с одиннадцати утра до шести вечера. Андропов приезжал на работу также и в воскресенье, с двенадцати до четырех, но в этот день он не занимался бумагами политбюро. Однако кто-то из нас – начальник секретариата Лаптев или я – все-таки должен был находиться на рабочем месте, если вдруг и в воскресенье шефу потребуется какой-либо документ из «особой папки» политбюро. Но самые продолжительные рабочие дни складывались у меня во вторник и среду, переходя иногда и в рабочие ночи.
Дело в том, что обычно во вторник, после регулярного заседания секретариата, приходила повестка дня заседания политбюро, назначаемого, как правило, на четверг, на шестнадцать часов. В повестку дня входило 12–14 вопросов самого различного свойства – экономических, военных, внешнеторговых, внешнеполитических и других. К большинству пунктов заранее присылались из Общего отдела ЦК проекты постановлений, записки, приложения к запискам. Их можно было обрабатывать в течение нескольких дней, вычленяя главное из толстенных записок и проектов постановлений, готовя комментарии и контрсправки, если они требовались. Но документы к двум-трем вопросам повестки дня, как правило самым острым и актуальным, поступали только в тот же вторник, что и сама повестка. Для подготовки дополнительных справок по этим темам, если мне казалось это нужным, комментариев с моими сомнениями, предложениями и аргументами оставались только ночь со вторника на среду, среда и ночь со среды на четверг, поскольку сафьяновая папка красного цвета, в тон конвертам из ЦК, с широкой золотой надписью «политбюро», должна была быть положена на письменный стол в кабинете Юрия Владимировича не позже девяти часов утра в четверг.
Еще в годы неформальных встреч с Андроповым я понял кое-что о стиле его работы. Он был таков, что, если ты что-то критикуешь, или высказываешь сомнение, или отвергаешь, Юрий Владимирович обязательно задавал вполне конкретный вопрос: «А что ты предлагаешь?» Он принимал чужие соображения только после острой дискуссии, с тщательным взвешиванием всех за и против, а иногда отвергал, видя дальше и глубже своих помощников и сотрудников. При этом он объяснял им ход своей мысли.
Другим редчайшим качеством руководителя столь крупного калибра, каким был он, являлась его неизменная корректность. Он никогда и никого не унижал в глаза и не отзывался худо за глаза. Даже в узком кругу он никогда не говорил гадостей о самых дурацких выступлениях, предложениях или поступках других деятелей, даже явных его противников. Выражения типа «Что этот чудак городит?!» или «Что за чушь несет старый маразматик?!», распространенные в начальственных кругах о персонах равных или более высоких, были для него совершенно исключены.
В политбюро был, в частности, полный антипод Андропова в этом отношении – Андрей Павлович Кириленко. Он исполнял функции секретаря ЦК и был в крайне напряженных отношениях с Сусловым. Так вот, Кириленко в своих разговорах и с подчиненными, и на заседаниях секретариата и политбюро слова не мог сказать, чтобы не переложить его матерной лексикой. Всех людей, вступавших с ним в контакт, Кириленко называл каким-то особенно грубым тоном на «ты». В числе немногих он был на «ты» и с Брежневым.
Андропов терпеть не мог мата. Хотя он и быстро переходил с подчиненными на «ты», но делал это по-дружески. Слово «ты» в его устах звучало сигналом доброго отношения. Но если он вдруг переходил на «вы», это означало высшую степень неодобрения им поведения данного персонажа, служило своего рода ругательным словом.
Однажды такое случилось и со мной, года через три после начала моей работы у него. Пришла записка А. А. Громыко «О возможности установления дипломатических отношений с Израилем». По своему содержанию она была сенсационна. Советская пропаганда ожесточенно ругала тогда сионизм, Государство Израиль – как бастион сионизма. В Советской стране, победившей европейский фашизм, скрытно тлел антисемитизм на бытовом и государственном уровне. В противовес еврейскому государству на Ближнем Востоке средства массовой информации СССР восхваляли арабских, ливанских и палестинских боевиков. Ведомства Устинова и Андропова по своим хитрым каналам поставляли, выполняя специальные решения политбюро, оружие и спецтехнику на Ближний Восток противникам Израиля.
Дипломатические отношения Москвы с Тель-Авивом были давно разорваны…
И вот теперь эта записка, разосланная суровым Андреем Андреевичем Громыко членам политбюро, явно с санкции самого Брежнева, поскольку исходила из общего отдела ЦК КПСС. В документе осторожно ставился вопрос о необходимости восстановления дипломатических отношений и других официальных контактов с Израилем.
Оформлена она была нарочито просто – без гирлянды подписей с согласованиями в комитетах, министерствах и ведомствах. Если обычно на такого рода документах стояли красные штампики «срочно» или «весьма срочно», «совершенно секретно» или «особой важности», то эта бумага пришла с самой низкой ступенькой конспирации общего отдела на Старой площади – грифом «секретно». Я подчеркнул в этом трехстраничном документе красным карандашом самое важное, вложил его в красную папку «Политбюро» и отнес в кабинет Юрия Владимировича, на его рабочий стол.
После отъезда Андропова вечером домой я взял с его стола эту папку и не увидел на записке Громыко росписи Юрия Владимировича, которую он ставил, прочитывая любой документ. До моей папки «Политбюро», видимо, не дошла очередь, решил я. На следующее утро я вновь положил папку с запиской Громыко на стол шефа и вечером вновь получил ее нечитаную. В те дни у Юрия Владимировича сплошной чередой шли совещания, во время которых я мог вторгаться в его кабинет только с чрезвычайно срочными бумагами, имеющими штамп «срочно». На третий день история повторилась, и визы Юрия Владимировича на записке Громыко вновь не оказалось. Виноваты были опять сплошные и напряженные совещания у шефа. Зная это, на четвертый день я оставил с утра этот документ в своем сейфе вместе с папкой, в которую мне надо было вложить еще пару свежеприбывших бумаг.
Около полудня раздалась трель прямого телефона от Андропова.
– Игорь, есть у тебя записка Громыко? – спросил шеф.
– Есть… – ответил я.
Я не понял, что означала пауза, которую сделал Юрий Владимирович. Но вдруг он совершенно ледяным голосом приказал:
– Будьте любезны, принесите ее мне!
Никогда – ни до, ни после этого – я не слышал от него такого тона. Признаюсь, я струхнул и почти бегом отправился через весь длинный коридор в кабинет председателя. Юрий Владимирович сухо и холодно спросил меня:
– Почему вы солите у себя в сейфе очень срочный документ?! Мне звонит Леонид Ильич, спрашивает мое мнение о нем, а он, оказывается, болтается у вас!
– Юрий Владимирович! Эта записка лежала три дня на вашем столе в папке «политбюро», а у вас шли непрерывные совещания! – попытался я оправдаться.
– А почему вы не обратили моего внимания на срочность документа?! – уже не таким ледяным тоном продолжал допытываться шеф.
– Потому что на нем нет грифа «срочно», – показал я Андропову на ту часть бумаги, где должен был стоять такой штампик.
– Ну, хорошо… – почти миролюбиво сказал Юрий Владимирович, прочитав первые строки записки, из которых вовсе не вытекало, что она была действительно столь срочной.
Видимо, Юрий Владимирович сам перепугался простого вопроса Брежнева и, с присущим ему пиететом к генсеку, столь грубо отреагировал в мой адрес. Но чувство справедливости, которым он обладал, заставило его простить свой страх перед Брежневым и мой – перед ним и снова перейти на «ты».
– Ладно, иди работай и не допускай больше таких ляпов! – совсем нормальным тоном сказал Юрий Владимирович и углубился в содержание записки. Вечером я получил ее обратно, испещренную его чернильными пометками поверх моих подчеркиваний. В принципе Андропов был того же мнения, что и Громыко, – Советскому Союзу следовало бы выходить из самоизоляции от Израиля, постепенно расширять с ним контакты, восстанавливать дипломатические отношения. Но «ястребы» в политбюро и ЦК КПСС стремились блокировать такое развитие. Они настаивали на усилении антиизраильской пропаганды, увеличении помощи арабам и ужесточении кампании борьбы с сионизмом в СССР. Брежнев, Громыко и Андропов были вынуждены прислушиваться к Суслову, Подгорному и другим сталинистам в политбюро. Как вопрос повестки дня заседания ПБ эта тема не ставилась, но перед одной из ближайших встреч членов ПБ записка Громыко оживленно обсуждалась, но, как я понял, без принятия какого-либо определенного решения.
…В первую же неделю моей работы Андропов спросил меня:
– А ты представлялся уже своему начальнику по Общему отделу ЦК – Константину Устиновичу Черненко?
Я ответил, что подумывал сделать визит к формальному начальнику всех помощников членов политбюро и секретарей ЦК на следующей неделе.
– Поторопись! – сказал Юрий Владимирович. – Чем дольше ты будешь тянуть с этим делом, тем меньшее уважение к нему ты покажешь в конечном итоге… Я бы советовал тебе поехать уже сегодня!
Вернувшись в свой кабинет, я тут же позвонил по «кремлевке» Черненко и получил его согласие прибыть к нему в течение ближайшего часа. Минут через десять я уже входил в первый подъезд здания на Старой площади. Штампики в моем удостоверении сработали безотказно, и еще через пять минут я очутился в приемной, где были две двери и сидели две секретарши. Одна из них работала с Константином Устиновичем, а другая – у его первого заместителя – Клавдия Михайловича Боголюбова, дверь кабинета которого была напротив двери к Черненко.
Секретарь Константина Устиновича скрылась за дверью к шефу, тут же вышла и пригласила меня к заведующему общим отделом ЦК КПСС. Я еще тогда не знал всей мощи и влияния этого отдела и самого Черненко на все партийные дела. В моем представлении общий отдел, по аналогии с такими же отделами в других учреждениях, рисовался просто большой канцелярией, где работники получают документы из подразделений собственного учреждения и других организаций. Затем перебирают бумаги и кладут их с одной стороны стола на другую, чтобы отнести их адресату. Мне тогда еще не было ясно, что ЦК правящей партии не мог функционировать без жесткого бюрократизма. Никто, нигде и ничто в аппарате не решал без бумажки. Так бумажки и ходили – в ЦК, внутри ЦК, из ЦК… Главным регулятором этой лавины бумаг был Черненко.
Более того, он управлял процессом влияния генсека на других членов руководства через этот круговорот бумажек. От него зависело, быстро или медленно будут ходить «нужные» Брежневу документы, приторможено или даже совсем остановлено решение «ненужных» генсеку вопросов. И пока Брежнев оставался капитаном судна под названием «КПСС», Черненко «рулил» на капитанском мостике – в Общем отделе. Он также заведовал двумя главными архивами страны и партии – архивом политбюро, так называемым шестым сектором, и архивом секретариата, или седьмым сектором. Только Черненко знал фонды этих архивов и мог в любое время запрашивать из них описи дел и любые бумаги. Надо ли говорить, что в этих двух секторах Общего отдела концентрировались все секреты партии. Открытого доступа туда не имели ни секретари, ни члены политбюро ЦК. Таким образом, все, что они могли запросить из этих архивов, в том числе и компромат друг на друга для доноса генсеку, обязательно проходило через руки Черненко и с его санкции. Ему всегда было легко уклониться от любого запроса, заявив, что он должен согласовать просьбу с Брежневым… Но все это я понял лишь с годами работы у Юрия Владимировича. Что касается секретариата КГБ, выполнявшего в ведомстве функции Общего отдела, то роль его начальника, П. П. Лаптева, только внешне была похожа на черненковскую. Лаптев не мог ограничивать Андропова в количестве документов, которые ежедневно он прочитывал. Андропов в рабочий день поглощал и переваривал по 400–600 машинописных страниц и принимал по ним ответственнейшие решения. Весь этот колоссальный поток документов практически шел только через Лаптева и от меня. Я не помню дня, когда Лаптев был в отпуске или на больничной койке. Даже в те редкие недели, когда у Юрия Владимировича бывали отпуска или профилактика в кремлевской больнице, Пал Палыч всегда сидел на своем посту. Его рабочая нагрузка была чудовищна. Неудивительно, что он постоянно выглядел усталым и больным. Мне было немногим легче. Когда Андропов два раза в год по две недели – весной и зимой – находился на медицинской профилактике в Центральной кунцевской больнице или главной «кремлевке» на улице Калинина, как и все престарелые члены политбюро, спецкурьер Галкин возил ему на подпись только «самые, самые» важные бумаги. Фельдъегеря приезжали ко мне в эти дни значительно реже и доставляли только такие документы ЦК, которые могли без спешки отлеживаться в моем сейфе хоть неделями. В такие короткие периоды можно было уезжать вечером домой около восьми часов, а в иные дни и позволить себе сходить с женой в театр.
Лаптева Андропов привел с собой в КГБ из аппарата ЦК КПСС, где Пал Палыч работал в отделе по связям с социалистическими странами. Он владел албанским языком, служил до аппарата ЦК по дипломатическому ведомству и был хорошо осведомлен о партийных интригах в СССР и социалистических странах. Память у него на документы, проходившие через него, была почти такая же феноменальная, как и у Андропова…
Итак, еще не обстрелянным в партийных кознях я прибыл представляться в их эпицентр. Я вошел в кабинет заведующего общим отделом ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко, правой руки, глаз и ушей Брежнева. Первое, что увидел, – большой полукруглый письменный стол, занимавший четверть довольно просторной комнаты. Он был совершенно свободен от бумаг. За ним сидел человек с бело-седыми волосами, которые казались еще белее, поскольку скуластое лицо его было смуглым. Тонкий, немного крючковатый нос, темные, с небольшой монгольско-азиатской раскосинкой глаза, довольно тонкие бледные губы были неподвижны. Не вставая и не улыбаясь радушно, как это делал всегда Андропов, встречая посетителя независимо от его ранга, Черненко коротко ответил на мое приветствие и предложил садиться за маленький столик, приставленный к его большому столу. Человек он был малоразговорчивый, какой-то инертный. Несколько фраз, которые он сказал, сводились только к одному: «Надо хорошенько помогать Юрию Владимировичу!» На прощание Черненко порекомендовал зайти сейчас же к его первому заму, Клавдию Михайловичу Боголюбову. Он даже позвонил ему по прямому телефону, хотя Боголюбов сидел через комнату от него, указав принять меня.
Боголюбов оказался внешне полной противоположностью Черненко. Это был живой, чуть полноватый человек, с наголо бритой загорелой головой. Он улыбался, предложил стандартный цековский чай с сушками. Сушки он грыз смачно, крепкими белыми зубами. Внешне и по напористой манере разговора он напоминал Хрущева. Клавдий Михайлович знал, что я еще не окончил академию и предстоит защита диссертации. В этой связи он перевел разговор на творчество, похвалился своими успехами на ниве теории оргпартработы и участием почти во всех книгах Политиздата по этой тематике. На прощание он подарил с дарственной авторской надписью только что вышедший из печати сборник статей об оргпартработе, где он был составителем и автором предисловия. В целом у меня осталось от посещения общего отдела впечатление, что ничего особенного в нем не происходит.
Между тем общий отдел, как я понял со временем, оказался главной пружиной в разветвленном механизме аппарата ЦК КПСС. Он был политическим подразделением наряду с секретариатом ЦК. Может быть, даже более влиятельным, чем секретариат. Внутри общего отдела существовал особо доверенный первый сектор. Именно в функции первого сектора входила адресовка и рассылка самых конфиденциальных документов партии. Вообще на каждом документе секретариата и политбюро с левой стороны, чуть дальше линии, по которой пробивает бумаги дырокол, вертикально стояла напечатанная мелким типографским шрифтом цитата из Ленина, в которой отец большевистской демократии приказывал сделать секретным и строго конфиденциальным любой партийный документ, строжайшим образом соблюдать конспирацию…
Находился первый сектор не в здании ЦК КПСС на Старой площади, а в Кремле. Те несколько окон под куполом с государственным флагом, видневшиеся за Кремлевской стеной с Красной площади, всю ночь ярко светились. В сталинские времена редкие ночные прохожие, пересекавшие площадь, глядя на эти окна, считали, что там работает сам вождь. За этими окнами действительно шла круглосуточная работа.
Именно там размещался первый сектор. Он занимался рассылкой по списку, даваемому каждый раз Константином Устиновичем, всех самых важных документов партии. В первый сектор они и возвращались с пометками и подчеркиваниями членов политбюро и секретарей ЦК, из которых столь опытный в интригах функционер, как Черненко, легко мог составить себе представление и о ходе мыслей адресатов, и об их настроении вообще. Результаты своего анализа Константин Устинович обязательно доносил Брежневу.
Вообще игра настроений у подчиненных привлекала большое внимание работников секретариатов, в том числе и секретариата Андропова. Когда кто-либо из посетителей Юрия Владимировича выходил из его кабинета, настроение и выражение лица точно фиксировались офицерами приемной, которые доносили об этом начальнику секретариата. Сам Пал Палыч, если посетитель затем заходил в его кабинет, также внимательно анализировал состояние души «подозреваемого». Он хитро ставил вопросы, выясняя по горячим следам отношение визитера к Юрию Владимировичу. Видимо, к вечеру, когда Юрий Владимирович передавал ему, уезжая, бумаги со своего стола, Лаптев информировал председателя о том, кто и с каким настроением уходил от главы КГБ.
Но вернемся к первому сектору. Под командованием бой-бабы лет пятидесяти, бывшей в молодости, видимо, писаной красавицей, Марии Васильевны Соколовой здесь трудилось в три смены несколько десятков женщин. Насколько я был осведомлен, во всем секторе был только один мужчина, Виктор Галкин, с которым вскорости мне пришлось познакомиться. Его обязанностью было объезжать членов политбюро по их служебным кабинетам и давать им на ознакомление в его присутствии столь секретные документы политбюро, что они писались только в одном экземпляре, причем некоторые – от руки, или с рукописными вставками самого важного в них или цифр. Такими были, например, бумаги о состоянии золотого запаса и валютных резервов страны, их движении, о важнейших оборонных исследованиях и испытаниях новейшего оружия. Всякий раз о выезде Галкина к нам с вопросом о том, будет ли Юрий Владимирович на месте, звонила по «кремлевке» Мария Васильевна. Минут через пятнадцать появлялся и сам спецкурьер первого сектора с тонкой кожаной папочкой на застежке-молнии. Если было холодное время года, он оставлял верхнюю одежду в моем шкафу, и мы вместе шли в приемную Юрия Владимировича.
Галкин терпеливо ждал в приемной в том случае, когда у Юрия Владимировича в момент его приезда проходило совещание или он с кем-то беседовал. Затем Галкин заходил один и минут через пять возвращался с плотно закрытой папкой. Я ни разу не видел, что за документы приносил из ЦК столь высокопоставленный курьер первого сектора. Андропов тоже никогда не комментировал их. Только однажды, по косвенным признакам, мне показалось, что в «совершенно секретной, особой важности, весьма срочной» бумаге речь шла о золоте и золотовалютном запасе страны.
В современном мире, а особенно в политике, получает преимущество тот, кто обладает наиболее полной информацией. Черненко, будучи сначала лишь техническим сотрудником Брежнева, постепенно стал его правой рукой и даже частью мозга. Именно Константин Устинович с санкции Леонида Ильича определял в конечном итоге, какую и в каком объеме информацию направят каждому конкретному секретарю ЦК или члену политбюро, кандидатам в члены политбюро. Он решал также, сколько и какой информации получат члены ЦК КПСС в центре и на местах. Черненко, будучи «альтер эго» Брежнева, абсолютно точно представлял себе отношение генсека к каждому из членов руководства партии. Верхушка всегда делилась на сторонников и скрытых противников Брежнева. Генсек сам и с помощью Черненко до последних дней абсолютно точно определял своей интуицией расклад всех сил.
Я полагаю также, что прозорливость генсека насчет всех его врагов и недоброжелателей дополняла информация какого-то особенно засекреченного подразделения в ЦК, которым, видимо, руководил молчаливый Черненко. И Брежнев, и Черненко, «выросшие» в руководстве партии из штанов Сталина, видимо, хорошо знали, что с конца 1925 года у «отца народов» и генералиссимуса была, помимо государственной, политической и военной, своя личная, весьма компактная неформальная разведка и контрразведка. Некоторые, особенно въедливые современные историки, во всяком случае, упоминают об этом. Они, в частности, считают, что компактное подразделение такого рода входило в штатную структуру Министерства государственного контроля, которым руководил верный сатрап вождя политкомиссар Мехлис. Мехлис не был подконтролен никому в ВКП(б) и Советском государстве, кроме Сталина. В число главных задач личной спецслужбы вождя входила пристальная слежка за руководителями партии и правительства, сбор компромата на самых высших партийных и государственных деятелей Советского Союза, углубленное изучение высших, в том числе и неформальных, лидеров стран – противников СССР и его соседей.
Когда вождь умер 5 марта 1953 года, комиссия ЦК КПСС по сталинскому наследию начала работу через две недели после его похорон. Партийные функционеры, назначенные членами комиссии, как и полагается, сначала пришли на основное рабочее место Сталина – в кремлевский кабинет. Всегда эта комната, по свидетельству лиц, побывавших в ней, была завалена бумагами и всякого рода литературой. Она круглосуточно охранялась его секретарями и сотрудниками. Но Жорес и Рой Медведевы, выпустившие в 2002 году фундаментальную книгу «Неизвестный Сталин», сообщают, что кто-то побывал в кабинете Сталина на несколько дней раньше комиссии и «очистил» его, включая главный сейф вождя. Неизвестно куда исчезли или были сожжены документы и письма Сталина, хранившиеся у него на дачах и в кремлевской квартире… Не там ли были и донесения личной сталинской разведки, папки с убийственными компроматами на его ближайших соратников и друзей? [3]
При Хрущеве такого «хитрого» заведения в ЦК уже, видимо, не было, за что первый секретарь и поплатился неожиданным снятием и изгнанием на пенсию в октябре 1964 года. К власти пришел Брежнев. Его партийная карьера успешно развивалась еще при жизни «великого вождя и учителя». Брежнев лучше, чем Хрущев, усвоил уроки «хозяина» в борьбе за власть и ее укрепление. К тому же под маской добряка и весельчака он скрывал беспринципное и жестокое коварство. О его подходе к борьбе за власть можно судить по воспоминаниям бывшего при Хрущеве и в начальный брежневский период председателя КГБ Владимира Семичастного. Бывший комсомолец, лучший друг «железного Шурика», он оказался значительно порядочнее выдвигавшегося вслед за Хрущевым вождя. Когда трусоватый Брежнев, в 1964 году второй человек в партии и государстве и глава заговора, во время разговора с глазу на глаз с Семичастным предложил председателю КГБ физически устранить Хрущева, тот категорически отказался [4].
Когда Брежнев в октябре 1964 года пришел к власти, он, как коварный и опытный политикан, наряду с существовавшими спецслужбами, где сидели не «его» люди, спешно стал формировать собственную неформальную контрразведку и разведку. Я полагаю, что личным резидентом и руководителем персональной спецслужбы генсека был тихий и незаметный К. У. Черненко. Он, вероятно, и дирижировал исполнителями разных «несчастных случаев» и смертей, которые происходили в борьбе за власть во времена застоя.
Генсек Брежнев действовал против своих противников очень осторожно. Начиналось все с информации. Близкие союзники генсека получали от Черненко самый полный поток документов и предложений. К таковым принадлежали в 70-х годах Андропов, Суслов, Кириленко, Гречко. В конце 70-х годов, а точнее – в 1977 году очень крепкие позиции рядом с Брежневым и Сусловым, отодвинув Кириленко, занял триумвират – Андропов, Устинов, Громыко. Практически именно эти три члена ПБ решали со времени начала болезни Брежнева в 1977 году все главные вопросы в стране и партии. При этом Устинов и генштаб чрезвычайно активно вторгались во все сферы управления, особенно экономику. Они явно готовили страну к войне и усиливали мобилизационные резервы, милитаризировали промышленность. Громыко и Андропов сплоченным фронтом выступали в сфере международных отношений СССР, хотя довольно большую роль продолжал играть секретарь ЦК Пономарев, курировавший связи КПСС с коммунистическими партиями и национально-освободительными движениями.
Остальные секретари ЦК, члены и кандидаты в члены политбюро, то приближались, то отодвигались от генсека, словно фигуры на шахматной доске, в стремлении избежать шаха королю. Соответственно они получали то больше, то меньше информации от Черненко. Иногда фигуры, могущие представлять угрозу персоне короля, по разным причинам сбрасывались с шахматного поля власти. Так физически произошло с секретарем ЦК и членом политбюро Кулаковым, первым заместителем министра внутренних дел Щелокова, бывшим влиятельным партийным секретарем в Подмосковье генералом Папутиным, а весной 1982 года – с особо приближенным к Брежневу первым заместителем председателя КГБ Семеном Цвигуном. Причины их загадочных самоубийств (или убийств?) не раскрыты до сих пор. Может быть, постаралась личная спецслужба Брежнева – Черненко? Кому они были выгодны? Я убежден – только не Андропову и КГБ.
А неожиданная болезнь и смерть Михаила Суслова, последовавшая спустя несколько дней после ухода Цвигуна? Она также не была выгодна Андропову, потому что при сложном раскладе сил в верхушке партии второй человек в КПСС поддерживал Юрия Владимировича.
С Андроповым Брежнев и его клика в конце концов поступили так же, как и с одним из его сильных предшественников на Лубянке – Шелепиным. В мае 1982 года Юрия Владимировича сняли с КГБ и лишили источника информации и влияния. Посадили его в цековский кабинет вовсе не вторым, а просто секретарем ЦК. Но об этом несколько ниже.
Примерно такой же сценарий действовал и в самом начале правления Брежнева. Первой, медленно, но верно, была сдвинута в сторону, а затем снята с доски фигура, представлявшая для нового генсека наибольшую опасность, – бывший председатель КГБ, а в 1964 году секретарь ЦК и член политбюро Шелепин. Сначала его, секретаря ЦК и члена политбюро, вложившего вместе с главным редактором «Правды» Михаилом Зимяниным всю душу в заговор против Хрущева, Брежнев «пересадил» из секретарского кресла в здании ЦК КПСС в кабинет ничего не решавшего в СССР руководителя главной профсоюзной организации страны – Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов. ВЦСПС всегда был хотя и материальной силой, но политически считался «приводным ремнем» партии в отношении рабочего класса. При советской Системе, жестоко боровшейся против главного оружия рабочих – права на забастовку, профсоюзы не играли никакой политической роли.
Зимянин же в благодарность за услугу, оказанную Брежневу и его соратникам, был сделан секретарем ЦК по пропаганде.
Генсек настолько опасался динамичного и жесткого Шелепина, его многочисленных и горластых сторонников во всех звеньях партийного и государственного аппарата, что «железного Шурика» вскоре изгнали и из политбюро, и из ВЦСПС. Поводом послужили антисоветские и антишелепинские демонстрации против лидера профсоюзов СССР во время его официального визита в Англию. Размах этих демонстраций, обращенных против Шелепина как бывшего председателя КГБ, был необычайно широк. По мнению серьезных западных наблюдателей, масштабы общественного протеста в Англии, направленного против бывшего шефа КГБ, были совершенно необычны и несопоставимы с тогдашней второразрядной ролью Шелепина в мире в целом и в системе власти в СССР. Как намекали западные газеты, не обошлось без «руки Москвы»…
Брежнев умело воспользовался скандалом. Он снова понизил Шелепина. Лидера ВЦСПС убрали из политбюро и понизили на три-четыре должностные ступени вниз – до уровня заместителя начальника Комитета по трудовым ресурсам, то есть шефа системы профессионально-технического образования молодежи и рабочих. Но отставленного льва продолжали бояться и дальше. Точно в срок, оговоренный законом, – в шестьдесят лет, хотя средний возраст старцев в политбюро превышал семьдесят годочков, Шелепина отправили на пенсию. Слава богу, что в нищем и полуголодном Советском Союзе этому бывшему яркому и сильному политику сохранили и на пенсии номенклатурное материальное обеспечение. Он хотя бы не голодал и не стоял в длиннейших очередях за колбасой в старости, как миллионы стариков в коммунистической супердержаве.
Параллельно следовали отставки его сторонников, занимавших важные посты, – председателя КГБ Семичастного, главы ведомства внешнеполитической пропаганды Буркова, председателя Комитета по радиовещанию и телевидению Месяцева, некоторых других деятелей второго плана. Сначала всех их лишали информации в полном объеме, оставляли как бы в политическом вакууме. Затем медленно сдвигали по должностным ступенькам вниз. Друг и соратник Шелепина Месяцев, например, из министра, руководившего всем телевидением и радио в Советском Союзе, превратился во второразрядного дипломатического чиновника. Его назначили послом в далекую и ничего не значащую для Москвы Австралию.
Политиков высокого ранга, не обязательно шелепинцев, но членов ЦК, которые были заподозрены в критике, хотя бы даже и очень косвенной, первого лица в партии и государстве, также «ссылали» послами в разные страны. Характерным примером для номенклатуры стал в этом отношении первый секретарь Московского городского комитета партии Егорычев. Умный, яркий, энергичный политик, он осмелился покритиковать на одной из партийных конференций руководителей Московского военного округа, особенно авиационных и ракетных начальников, за слабую боеготовность противовоздушной обороны столицы. Но все они были друзьями и ставленниками Брежнева. Верховный главнокомандующий обиделся за своих людей. К тому же ему нашептали на ушко, что главным объектом косвенной критики был он сам, как Верховный…
В результате Егорычев был отправлен послом в Данию. Надо отдать должное «доброму» Брежневу. Всех своих потенциальных противников он, как правило, отправлял на малозначительные, но номенклатурные должности или на такую же номенклатурную пенсию, оставляя им почти все привилегии.
Так без спешки и потрясений были «выщелкнуты» Брежневым из обоймы политбюро не только Шелепин, но и Подгорный, Мазуров, Полянский, Шелест… Это были отнюдь не самые старые и зашоренные деятели в Советском Союзе. Но своей активностью, амбициями и претензиями на первые роли они не вписывались в застой. Многие из них позволяли себе не только по разным углам и с друзьями-собеседниками под «прослушкой», но и открыто, так сказать, «по-партийному», на заседаниях политбюро, в ходе других встреч с генсеком возражать ему, критиковать брежневских клевретов.
Один из потенциальных претендентов во второй половине 70-х годов на пост генерального секретаря ЦК КПСС, энергичный и не старый, пользовавшийся большим авторитетом в партии Кулаков ушел при неясных обстоятельствах. Секретарь ЦК и член политбюро якобы застрелился у себя на даче, напившись и поругавшись с женой. Чтобы секретарь ЦК КПСС, член политбюро, крестьянин по происхождению, прошедший огонь, воду и медные трубы, оказался столь слабым человеком, неврастеником и подкаблучником, чтобы пустить себе пулю в голову в острый момент, когда назревал очередной раунд борьбы за власть в Кремле, а он был одним из фаворитов гонки, – в такую сказку верится с трудом.
Черненко, как хозяин главных секретов в партийных архивах, в потоке бумаг, конечно, выуживал немало и был организатором самых грязных и «серых» тайн партии и государства. Кроме прямой информации и сплетен из уст в уста, как руководитель личной спецслужбы Брежнева, он получал из КГБ и МВД много справок, докладов, спецсообщений и другой информации для Брежнева, читал важнейшие шифровки из-за границы, с мест, получал и размечал Брежневу и другим руководителям для чтения важнейшие шифротелеграммы послов из МИДа, ему направляли свои самые большие секреты Министерство обороны, генштаб и Главное разведывательное управление генштаба, причем независимо друг от друга. Но все это носило бюрократический, раз и навсегда определенный своими рамками характер. Все, что знал Черненко, знал и Брежнев.
Единственный человек в Системе, который располагал большим, чем генсек, объемом информации, был председатель КГБ Андропов. Причем те секреты и тайны, которые проходили через его стол, носили не столь забюрократизированный и регламентированный характер, как входящие в ЦК КПСС бумаги. Они были живыми, ясными и реальными.
Некоторые публицисты писали, что чуть ли не с первых своих шагов в качестве члена политбюро Андропов начал плести интриги против Брежнева. В течение десяти лет я принадлежал к весьма узкому кругу его частого, а затем почти ежедневного тесного общения, понимал его с полуслова. Могу со всей ответственностью засвидетельствовать, что он во все годы, которые я был вблизи него, то есть с 70-го по 80-й, не давал никому, никогда и никакого повода делать такой вывод. Он совершенно искренно проявлял свою полную преданность Брежневу.
Он не скрывал от своих сотрудников той почтительности, которую испытывал – и, мне казалось, не из-за субординации, а чисто по-человечески, – к Леониду Ильичу. Когда по его прямому телефонному аппарату от генсека раздавался звонок и он поднимал трубку, его лицо и глаза становились добрыми, а голос мягчал, но не спускался до подхалимажа. Заговорщики и конкуренты так не реагируют в близком окружении на объект своей ненависти.
Весьма уважительно Андропов относился и к Суслову, а Михаил Андреевич отвечал ему тем же. У меня даже сложилось впечатление, что Суслов и Андропов скрывали от въедливых партийных стукачей-наблюдателей свои добрые, хотя внешне и чуть суховатые отношения. У них общей была память о начале 50-х годов, когда оба начинали делать высокую партийную карьеру, нелюбовь к «Маланье», как в верхушке партии называли жирного и женоподобного, с писклявым голосом, но крайне самоуверенного Маленкова. Их объединяла также любовь к Ставропольскому краю, где родился Юрий Владимирович и долго находился на партийной работе Михаил Андреевич. Хорошо известно, как эту любовь к Северному Кавказу и Кавказским Минеральным Водам, где ежегодно лечился Андропов и часто бывал Суслов, эффективно использовал в своих карьеристских целях последний генсек ЦК КПСС, ставший, по сути дела, могильщиком СССР и правящей партии Михаил Горбачев. Он подлащивался и к Суслову, и к Андропову до тех пор, пока они не показали это юное партийное дарование на станции Минеральные Воды Кавказской железной дороги вылезшему для этого из спецпоезда Брежневу. Леонид Ильич следовал в Баку, чтобы вручить орден Ленина Азербайджанской Республике. Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиев подготовил богатейший праздник в честь генсека, и Брежневу уже доложили сценарий этого торжества гостеприимства. Он был средневеково пышным и превосходил роскошью встречу в столице Азербайджана в конце XIX века суверена соседнего государства – персидского шаха. Леонид Ильич обожал праздники в свою честь. По этой причине у него было особенно хорошее настроение. Горбачев произвел благоприятное впечатление на генсека. Участь его была в принципе решена.
В конце 1978 года, после смерти секретаря ЦК и члена политбюро Федора Давыдовича Кулакова, Михаил Горбачев приехал в Москву на Пленум ЦК. Черненко устроил ему официальные смотрины у Брежнева, после которых он был избран секретарем ЦК вместо почившего Кулакова. Справедливости ради следует отметить, что только расторопность помощника Черненко Виктора Прибыткова, разыскавшего в Москве Горбачева по наводке из Ставрополя, на новоселье у его московских друзей-аппаратчиков ЦК, принесла Михаилу Сергеевичу желанный приз – должность секретаря ЦК. Не отыщи на исходе рабочего дня генсека Прибытков места, где поднимал бокал Горбачев, то буквально через десять минут Черненко представил бы Брежневу вместо него первого секретаря Полтавского обкома Компартии Украины Героя Социалистического Труда, бывшего председателя колхоза-миллионера Федора Моргуна. Моргун также прибыл на тот самый Пленум ЦК, но сидел у себя в номере гостиницы «Москва», осведомленный, вероятно, своими днепропетровскими друзьями о колебаниях Брежнева в отношении его и Горбачева. Благодарность «хозяев», то есть генсеков, не знает пределов ни вверх, ни вниз. После занятия Горбачевым трона Прибытков, который вовремя доставил Горбачева к Брежневу, исчез в нижних слоях номенклатуры.
Возможно, став генсеком, Горбачев прознал о том, что помощник Черненко больше хотел видеть на посту секретаря ЦК энергичного и деятельного Моргуна, чем велеречивого пустобреха из Ставрополя. Ведь наушничество и интриги были поставлены в аппарате на высочайший профессиональный уровень. Многие аппаратчики старались выслужиться перед начальством именно на этой ниве, не зная хорошо никакой другой.
Таким образом, первичными крестными отцами «изобретателя перестройки», «гласности» и развала СССР можно считать по порядку Суслова, Андропова, Брежнева, Черненко и… Прибыткова.
Среди других высших членов руководства страной Юрий Владимирович несколько настороженно относился к Косыгину. Он знал о взаимной личной неприязни, об определенной конкуренции за авторитет в партии генерального секретаря и Председателя Совета министров. Андропов, безусловно, поддерживал Брежнева. И когда я пытался пару раз в подготавливаемых к заседаниям политбюро комментариях по экономическим вопросам добрым словом отозваться о проектах реформ Косыгина, то увидел, что Юрий Владимирович толстым синим карандашом, что означало у него негативное отношение к предмету, вычеркивал одобрительные пассажи. Разумеется, я все понял и более не стал раздражать шефа и общий отдел, в котором очень хорошо разбирались в цветных карандашах и почерках своих клиентов.
Внешне почтительное, но сугубо деловитое и сухое отношение было у Андропова к давнему другу Брежнева, секретарю ЦК КПСС и члену политбюро, человеку, возглавлявшему в аппарате всю линию военно-промышленного комплекса (ВПК), Андрею Павловичу Кириленко. Однажды состоялось и мое личное знакомство с этим грубияном и матерщинником.
Как-то, просматривая зарубежную прессу, я натолкнулся в популярном западногерманском еженедельнике «Штерн» на серию статей о неопознанных летающих объектах – НЛО. В США и СССР результаты конкретных наблюдений за «летающими тарелками» были засекречены. «Авторитетными» учеными, сотрудничавшими с властью, в общественное мнение внедрялся тезис, что все, кто верит в реальное существование НЛО, – полусумасшедшие. Ни в каких официальных выступлениях, научных статьях и документах неопознанные летающие объекты не упоминались. Но с большим успехом в СССР прошел историко-публицистический фильм швейцарского исследователя Эриха фон Деникена «Воспоминания о будущем», а в закрытых, но многочисленных аудиториях читали свои лекции о неопознанных летающих объектах и явлениях профессора Зигель и Ажажа. Мы, молодые журналисты Совинформбюро, в 50-х и 60-х годах не раз встречались с профессором Ажажей и слушали с интересом его гипотезы.
Статьи в журнале «Штерн» второй половины 70-х годов показались мне весьма достоверными. Я продиктовал стенографистке на русском языке выжимку из них и вместе с журналами понес председателю. Правда, я опасался, что в духе того времени он высмеет меня или, что еще хуже, сочтет психику своего помощника по ПБ не совсем адекватной. Когда я положил свою записку и журналы перед Юрием Владимировичем, он быстро пролистал материалы. Затем внимательно рассмотрел каждую иллюстрацию в журнале. Немного подумав, он вдруг вынул из ящика письменного стола какую-то тоненькую папку. Было известно, что в этом ящике он хранит различные бумаги и журналы, которые содержали «информацию к размышлению». Со словами «Почитай-ка сейчас!» он протянул папку мне.
В папке оказался рапорт на имя председателя КГБ одного из офицеров 3-го управления, то есть военной контрразведки. На приложенном маленьком листочке справки об этом офицере сообщалось о том, что автор рапорта был переведен на работу в КГБ из бомбардировочного полка, где дослужился до должности штурмана эскадрильи. Таким образом, это был человек, знавший астрономию и всякие там профессиональные тонкости вроде курсовых углов, скоростей перемещения летательных аппаратов и прочее.
Он докладывал председателю об одном непонятном явлении, которое наблюдал во время отпуска. Отпуск свой офицер проводил в Астрахани и часто ходил в лодке с друзьями и родственниками в волжских плавнях на рыбалку. Однажды ночью они на большой моторной лодке вышли на широкий простор устья реки. Небо было безоблачным, мерцали звезды.
Далее контрразведчик писал о том, что одна из звезд вдруг стала разгораться все ярче и ярче, словно она стремительно приближалась к земле. И действительно, через несколько секунд эта звезда, но уже в форме ярко светящейся тарелки, вокруг которой был заметен вращающийся нимб, остановилась на высоте, определенной штурманом примерно в пятьсот метров над уровнем моря. Ее диаметр, как он полагал, составлял около пятидесяти метров, то есть размер НЛО был примерно в половину футбольного поля. Все рыбаки от страха попадали на дно своего суденышка, а офицер лежа продолжал одним глазом наблюдать странное явление. Он увидел, как из центра НЛО вышло два ярких луча. Один из лучей встал вертикально к поверхности воды и уперся в нее. Другой луч, словно прожектор, обшаривал пространство вод вокруг лодки. Вдруг он остановился, осветив суденышко. Посветив на него еще несколько секунд, луч погас. Вместе с ним погас и второй, вертикальный луч. После этого «тарелка» стала стремительно подниматься вверх и менее чем за две секунды вновь превратилась в обычную звездочку на небе.
Мне особенно бросилась в глаза скорость перемещения этого объекта, описанная специалистом своего дела – штурманом. Сначала буквально за две секунды он превратился из маленькой звездочки в крупный летательный аппарат, а затем – столь же стремительный подъем явно за пределы стратосферы.
Андропов, заметив, что я кончил читать это письмо, отвлекся от очередной бумаги, которую просматривал, и спросил:
– Что ты думаешь об этом?
Я сказал, что офицер из 3-го управления, наверное, врать председателю не будет. Тем более что автор письма не испугался сообщить о всех обстоятельствах ночной рыбалки, которые показывают однозначно – компания явно браконьерила. Юрий Владимирович на мгновение задумался.
– Вот что, – решил он. – Я сейчас позвоню Андрею Павловичу Кириленко и изложу ему суть вопроса как председателю Военно-промышленной комиссии. Если он заинтересуется, то тебе придется отвезти ему всю эту подборку вместе с письмом.
Было часов семь летнего вечера. Зная привычку Кириленко отнюдь не засиживаться на работе, Андропов позвонил по «кремлевке» на дачу Андрея Павловича. Кириленко был уже дома. Председателя ВПК информация из уст председателя КГБ очень заинтересовала.
Положив трубку телефона, Юрий Владимирович распорядился:
– Поезжай на дачу Кириленко, отдай все это… Только сними ксерокопии материалов «Штерна» и письма и отправь их начальнику Оперативно-технического управления КГБ для сведения наших ученых и конструкторов в ОТУ…
Через «девятку» я узнал, как ехать на дачу Кириленко, и заказал туда пропуск. Приехав с Дмитровского шоссе к воротам дачи, километрах в трех от нынешней Московской кольцевой дороги, я вспомнил эту местность, известную до войны как «дача Ворошилова». Со времен 30-х годов, когда он был наркомом обороны, членом сталинского политбюро и личным другом вождя, до самой смерти в 1969 году на этой даче жил маршал Ворошилов. Абсолютно бездарный военачальник, вместе со Сталиным фактически проигравший Зимнюю войну 1939–1940 годов против маленькой Финляндии, слабый политик, но хитрый интриган, отличившийся только в постелях балерин Большого театра, Ворошилов и после смерти Сталина оставался членом политбюро и личным другом следующего вождя – Никиты Сергеевича Хрущева, который сделал Климента Ефремовича Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Это, впрочем, не мешало Ворошилову плести интриги и против Хрущева. Он был бы рад оставаться после снятия Хрущева другом следующего генсека – Брежнева. Но осторожному Леониду Ильичу такой человек, дважды предававший свою холуйскую дружбу – со Сталиным и с Хрущевым, – был совершенно не нужен. Хрущев успел убрать маршала Ворошилова за интриги с поста формального главы Советского государства, коим была практически безвластная должность Председателя Президиума Верховного Совета, оставив в политбюро, и посадил на нее Леонида Ильича Брежнева. Брежнев в 1966 году изгнал Ворошилова и из политбюро, но дачу оставил. После смерти маршала, который побеждал только в боях братоубийственной Гражданской войны, его загородное поместье занял друг Брежнева Андрей Павлович Кириленко. Он входил в клан брежневских днепропетровцев.
Кириленко был большевик нового поколения. По молодости лет он не принимал участия в Октябрьском перевороте в 1917 году. Ему было тогда только одиннадцать лет. Но в принципах подхода к материальному благосостоянию он ничем не отличался от «старых» революционеров. Верхушка большевиков после Октябрьского переворота захватила в свое пользование все самое лучшее из наследства «проклятого царизма». Поселившись во дворцах и поместьях аристократии, на дачах купцов-миллионщиков и промышленников, женясь на дворянках, живя в буржуазном комфорте, коммунисты-ленинцы объявили: «Мир хижинам, война дворцам!» – и бросили в толпу еще один лозунг, который до сих пор вдохновляет российских мародеров, олигархов и их холуев чиновников, – «Грабь награбленное!». Так же поступили и демократы «разлива 91-го года», когда они взяли себе по примеру «старших товарищей» все самые жирные куски из собственности, которой пользовалась высшая советская номенклатура, – дачи, санатории, поликлиники, детские сады и т. п.
В окрестностях дачи на Дмитровском шоссе, которая восемьдесят лет служила «хижиной» членам политбюро Коммунистической партии, друзьям генсеков, на болотистых полях, во время войны нам, как и другим семьям сослуживцев моего отца, отвели участок в две сотки под картошку. Мы тогда старательно перекопали всю землю, посадили, как расписывалось в пособиях таким же огородникам поневоле, как мы, для экономии ценного продукта питания, не целые картофелины, а четвертинки с глазками или даже очистки. Затем ездили по выходным ее окучивать. К нашему удивлению, к концу августа все выросло, и мы уже чувствовали во рту вкус свежей вареной картошки. В военные времена даже семьи офицеров внешней разведки жили впроголодь.
Урожай, должно быть, судя по количеству оставшейся на делянке картофельной ботвы, был хорош. Но вместо нас чуть раньше его собрал кто-то другой, несмотря на то что огороды эти находились в охраняемой зоне дачи маршала Ворошилова. У нас в семье по этому поводу была выдвинута криминально-романтическая версия. Мы подумали, что, видимо, злоумышленник был настолько голоден сам или голодала его семья, что он без страха пошел за добычей на глазах ворошиловских стрелков. Но в реальности чужой урожай, и не только у нас, снял для себя, пользуясь полной безнаказанностью в военное время, кто-то из охранников маршальской дачи…
И вот спустя три десятилетия снова представилась возможность побывать на территории подмосковного имения бывшего луганского слесаря-большевика и «красного маршала» Ворошилова, познакомиться с ее нынешним жильцом – Андреем Павловичем Кириленко. В своем загородном обиталище он, как и все члены политбюро, жил всей семьей, с чадами и домочадцами, безвыездно летом и зимой. Московские квартиры этих деятелей оставались только местом их прописки. Поэтому, когда писатели и публицисты описывают жизнь Брежнева и Андропова в их квартирах на Кутузовском проспекте в доме номер 26, они ошибаются. На самом деле и Брежнев, и Андропов, и вся остальная верхушка ЦК и правительства круглый год проживала на свежем загородном воздухе, в экологически чистых районах Подмосковья, пила чистую артезианскую воду из индивидуальных скважин, питалась экологически чистыми продуктами, доставляемыми из двух-трех специальных овощеводческих и мясомолочных хозяйств, расположенных в экологически благоприятных районах ближнего Подмосковья. Вожди, оказывается, значительно раньше своих подданных оценили ту пользу, которую приносит человеку экология. И мы видели этих румяных и упитанных человеков, когда они стояли во время парадов и демонстраций на Мавзолее Ленина на Красной площади в Москве и особенно радостно приветствовали с него тех своих товарищей по партии, которые несли в колоннах демонстрантов их портреты.
А что касается продовольствия, которое они потребляли, то экологически чистые продукты шли на дачи и кремлевскую кухню, в три кремлевские «столовые лечебного питания» и спецбуфеты в зданиях Кремля, ЦК и МК КПСС в районе Старой площади, Совета министров и Госплана – в Охотном Ряду. В КГБ также имелся свой совхоз, в магазинчик которого в укромном дворе подле Лубянки по заказам верхушки чекистов поставлялись молочные продукты и цыплята за наличный расчет.
Пищу для кремлевских небожителей – членов политбюро, секретарей ЦК – привозили на завтрак, обед, полдник и ужин на дом, или на дачу, или к служебному кабинету в особых опломбированных термосах. Ее готовили на особой кухне, расположенной внутри Кремля. За качеством всех блюд здесь тщательно наблюдали санитарно-пищевые врачи. Все исходные продукты пропускали через сложнейшую рентгеновскую и радиометрическую аппаратуру, делали химические анализы. Дегустаторы отвечали не только за вкус еды, но и за то, чтобы в ней не было отравы.
Во время поездок и визитов Брежнева с ним вместе следовали его повара, поварята, тонны кремлевских продуктов и цистерны воды, к которой он привык. Вода при этом составляла очень важный компонент пищи. Всего санитарные врачи и диетологи насчитывают сто различных градаций чистейшей Н2О. Известно, что за английской королевой и другими главами государств возят по миру в серебряных цистернах именно ту спецификацию воды, к которой они привыкли. Также и каждому космонавту доставляли в те времена на орбиту именно ту воду, к которой тот привык. Иначе все системы организма будут работать со сбоями, особенно почки и желудок. А за больным, старческим организмом по имени Брежнев был особенно тщательный и заботливый уход.
Уж если я коснулся здесь бытового обслуживания членов политбюро и «номенклатуры», то сообщу еще несколько деталей, о которых существует превратное мнение у многих читателей.
Во-первых, к вопросу о социальном равенстве в Стране Советов: члены политбюро принадлежали к высшей категории граждан – так называемых охраняемых. На их питание 9-е управление КГБ выдавало по 400 рублей в месяц. На питание секретарей ЦК – по 250 рублей. Если эта сумма превышалась, то «объект», как их называли на своем специфическом языке охранники, должен был доплачивать из своего кармана. Сумма по тем ценам на продукты огромная, да и товар выдавался наилучшего качества и по себестоимости. Думаю, что никому из «объектов» доплачивать не приходилось, хотя вместе с ними питалась вся их семья.
Во-вторых, прочие «номенклатурщики» получали ежемесячно талонную книжку маленького формата, сброшюрованную из тридцати талонов. Каждый из листочков был поделен перфорацией пополам – на «обед» и «ужин». Всего по книжке выдавалось продукции – обедов и ужинов или продовольственных продуктов на сумму в 140 рублей. Условный день, таким образом, «стоил» около 4 рублей 70 копеек. Обед или ужин соответственно 2,35 рубля. В обычных городских или учрежденческих столовых можно было в те годы неплохо пообедать одному человеку за один рубль, включая компот, или минеральную воду, или пиво. А здесь, в «кремлевских столовых», «навынос» – в судки, за 2,35 рубля отпускали обед из четырех блюд, которого вполне хватало на семью из трех человек. «Старожилы» Грановки вспоминали, что при Сталине, когда для народа были поистине голодные времена, пайки номенклатурщиков были больше. На один талончик «обед» могла хорошо питаться целый день семья из пяти человек.
При великом кормчем коммунизма – Сталине – «номенклатурные» работники получали вдобавок к официальной зарплате ежемесячно в конверте из плотной синей бумаги не облагаемые налогом и не включаемые в суммы, с которых платились партийные взносы, второй оклад, или примерно чуть менее или немного более чем дореформенные пять тысяч рублей. Хрущев в своем демократическом порыве «синие конверты» отменил. Тем самым он вызвал к себе злобу подавляющего большинства партийных и государственных функционеров, фактическая зарплата которых сразу уменьшилась в два раза. Безусловно, недовольство и мстительность номенклатуры негативно отразились на реформаторских попытках Хрущева. Чиновники партии и государства их саботировали. «Бескорыстные» большевики-ленинцы создали на этой основе дополнительный психологический фон для смещения Никиты Хрущева с его поста. Слава богу, хоть не убили!
В 70-х и 80-х годах счастливый обладатель талонной книжки должен был ежемесячно вносить в кассу кремлевских столовых половину ее стоимости, то есть 70 рублей. Другую половину – 70 рублей – доплачивали Управления делами ЦК КПСС, Совета министров СССР.
Обеды и ужины «кремлевки», особенно подаваемые в большом столовом зале старинного дворца, боком выходящего на улицу Грановского, были превосходны. Они состояли из любого количества овощных и иных салатов – по желанию посетителя, набиравшего их собственноручно по типу ресторанного «шведского стола». Первое и второе блюда, десерт заказывались по меню и приносились накрахмаленными с ног до головы миловидными официантками. Все виды лечебных и столовых минеральных вод, разливавшихся в бутылки в водолечебницах СССР, стояли на особом столе, наливались клиентами в неограниченном количестве бесплатно. Качество и количество блюд было настолько высоким, а исходные продукты – настолько свежими, что ни в каком московском ресторане невозможно было получить подобную еду за многократно более высокую плату.
Многие «номенклатурные» деятели использовали время обедов и ужинов для бесед и обсуждения своих проблем, в том числе и личных, с другими «номенклатурщиками». Делали они это не только за столиками на четыре человека, крытыми белейшими крахмальными скатертями. После сытной еды многие покойно устраивались, словно в английском клубе, на мягких диванах и креслах в фойе, где самые старые из них иногда и не прочь были вздремнуть часок после сытного обеда. Туда, на диваны, можно было взять чашку кофе или чая, со свежайшей выпечкой, отменной на вкус. В общем, в основной «кремлевской» столовой была создана уютная атмосфера аристократического клуба. Я думаю, что она была также и неплохо микрофонизирована 12-м отделом КГБ, как и все помещения, где кучковались «сильные мира сего». Ведь они могли, расслабившись, бросить случайно неосторожное слово по поводу генсека или кого другого.
Вторая столовая «лечебного питания» располагалась в Комсомольском переулке, теперь – Большой Златоустинский, подле Лубянской площади. Третья – в печально знаменитом высокопоставленными жертвами сталинских репрессий Доме на набережной, на берегу Москвы-реки против нынешнего храма Христа Спасителя. В этом доме жила советская номенклатура, а теперь – «новорусская».
Как и все блага для «номенклатуры», три кремлевские столовые составляли три разных уровня продовольственного обслуживания. Первый – Грановка, где кормились и получали продукты питания действующие сановники, – чуть получше двух других. В Комсомольском переулке столовались, как правило, бывшие деятели, вышедшие на пенсию, и так называемые старые большевики, то есть пламенные революционеры, борцы за социальное равенство. Теперь они были поголовно персональные пенсионеры. И те, кто расстреливал, но дожил, и те из них, кого расстреливали, но выжили. Почему-то они очень редко попадались на Грановке. То ли им не рекомендовали туда ходить, чтобы не мозолить глаза новым хозяевам жизни, их бывшим выкормышам. Возможно, они и сами боялись встретить какого-нибудь своего могущественного врага, который еще при чинах и может сделать неприятность, если вспомнит, кто этот занюханный старикашка, попавшийся ему на пути.
В Доме на набережной отоваривались готовыми обедами и продуктами питания, как правило, члены семей «номенклатурщиков», имеющих талонную книжку – «авоську».
В продуктовых буфетах-отделениях при трех «кремлевских» столовых на те же талоны «обед» и «ужин» номенклатура могла вместо приготовленных поварами блюд обедов и ужинов набирать продукты «сухим пайком» на стоимость этих талонов, то есть на 140 рублей в месяц. Колбасные и иные продовольственные изделия происходили из особых цехов предприятий пищевой промышленности, были высочайшего качества, но стоили столько же, сколько колбаса того же сорта, но изготовленная для народа. Красная и черная икра была всегда в наличии, как и сырокопченые колбасы, рыбные деликатесы, иностранные консервы… Спиртного на эти талоны получить было нельзя. Однако в начальственных спецбуфетах, которые имелись на группу в 15–20 руководителей в каждом крупном ведомстве и райкомах партии, продавались выписанные со специальной торговой базы Министерства торговли СССР дорогие водки, вина, коньяки и прочие бывшие редкими советские и импортные напитки, а также подарочные коробки конфет. Следует добавить, что к 70-м годам «номенклатура» так разрослась, что к прилавкам буфетов «кремлевки» стояли в обеденное время немалые очереди за продуктами. Перед праздниками эти очереди становились огромными и долгими.
Чтобы избежать пустой траты времени особо приближенной к верхам «номенклатуры», на Грановке неофициально был организован прием заказов по телефону. Имеющие на это право деятели просто диктовали в буфет пожелания, а затем присылали за заказом своего водителя. В редких случаях они приезжали сами, чтобы получить хорошо упакованный объемистый сверток с продуктами за несколько талончиков…
Но вернемся на дачу Кириленко. Водитель с машиной остался на площадке возле капитального гаража на несколько автомобилей. Начальник охраны встретил меня у ворот. Он показал на красивую кленовую аллею, метров двести длиной, которая шла к даче. «Только не сходите с дорожки ни вправо, ни влево – в траве стоит сигнальная спецтехника…» – предупредил он. Вокруг шумел тенистый смешанный лес, под которым росли травы, любящие сырость.
«Ну и комарья здесь, наверное, наплодилось…» – подумал я, но на всем пути ни один кровопивец не сел почему-то на меня. Видимо, вся местность была специально обработана химикалиями против комаров.
За поворотом в конце аллеи открылась бревенчатая двухэтажная, с мансардой и башенкой, красивая дача. Но это было не то здание дореволюционной постройки, которое принадлежало какому-то крупному российскому магнату начала XX века. Тот дворец спалил по неосторожности одной спичкой после войны шаловливый маленький внук маршала Ворошилова. Особо приближенный к диктатору, любимый луганский слесарь, по свидетельству дочери Сталина Светланы, чрезвычайно «любил шик. Его дача под Москвой была едва ли не одной из самых роскошных и обширных… Дома и дачи Ворошилова, Микояна, Молотова были полны ковров, золотого и серебряного кавказского оружия, дорогого фарфора… Вазы из яшмы, резьба по слоновой кости, индийские шелка, персидские ковры, кустарные изделия из Югославии, Чехословакии, Болгарии – что только не украшало собой жилища „ветеранов революции“… Ожил средневековый обычай вассальной дани сеньору. Ворошилову, как старому кавалеристу, дарили лошадей: он не прекращал верховых прогулок у себя на даче, – как и Микоян. Их дачи превратились в богатые поместья с садом, теплицами, конюшнями; конечно, содержали и обрабатывали все это за государственный счет» [5].
После того как трехэтажный загородный дворец Ворошилова сгорел дотла, ему быстро построили такую же большую новую дачу и из государственных фондов обставили ее антиквариатом, собрали и привезли огромную библиотеку художественной и иной литературы, альбомы живописи и графики, картины, гравюры, произведения прикладного искусства. И до того, как загородное поместье занял Ворошилов, и после того, как он «погорел» на своем президентском посту, эту богатейшую виллу занимали последовательно виднейшие бессребреники-большевики, окруженные здесь многочисленной челядью, или «обслугой», как ее высокомерно называли сами «охраняемые объекты» и их жены. Метрах в двухстах за дачей виднелся обширный выкопанный пруд, где Андрей Павлович ловил, по слухам, специально запущенных туда крупных карпов и форель.
В отдалении от главного дома находились многочисленные хозяйственные постройки, плантации ягодников и яблонь, огороды… Весь урожай и другая сельхозпродукция – нельзя исключить, что молочная и свежая мясная убоинка с фермы, жавшейся к дальнему забору, – шли на стол «хозяину» и его семье.
Бревенчатые стены дачи были аккуратно покрыты зеленой масляной краской. Ближе к дорожке стояла огромная застекленная терраса, дверь которой была открыта.
– Сюда, пожалуйста… – сказал человек из прислуги, появившийся в дверях.
Андрей Павлович сидел внутри. Вся мягкая мебель была покрыта по-казенному светло-серыми полотняными чехлами.
Я подошел к глубокому креслу, в котором сидел председатель ВПК. Это был человек маленького роста, седовласый, с упрямым бульдожьим прикусом челюстей и высокомерным выражением лица. Не вставая, он протянул мне для рукопожатия твердую ладошку.
– Бери стул! – скомандовал он резким тоном, как будто заранее был сердит на меня. Может быть, так оно и было. Ведь я оторвал его от любимого дела – вечерней рыбалки. – Садись, показывай, что за… у тебя там!
Я передал ему все материалы. Сначала он прочел рапорт офицера, отложив в сторону написанные мной странички. Затем полистал один из номеров «Штерна».
– Вот это да!.. Интересно! – отреагировал он. – А статьи из журналов поподробней перевести можешь?
Я перевел ему с немецкого материалы из «Штерна». Кириленко слушал внимательно. В разгар чтения прибежали его внуки, он выпроводил их с террасы, но без матерных слов, и снова с интересом слушал о НЛО.
– Можешь мне все это оставить? – спросил он, когда я закончил переводить. Но больше всего он заинтересовался рапортом офицера 3-го управления, обнаружив некоторое знакомство с предметом наблюдений, изложенным в нем.
Кириленко не высказал и тени сомнений по поводу факта появления над плавнями Волги НЛО. Не стал отвергать с порога случаи появления «летающих тарелок», описанные в «Штерне». Он явно не придерживался точки зрения некоторых академиков, в том числе и оборонщиков, которые в средствах массовой информации пытались затемнить суть вопроса и перевести его в якобы случайную игру световых лучей в атмосфере.
– Так это не секретные документы? Я могу их оставить? – переспросил он.
– Юрий Владимирович для этого и послал меня… – ответил я.
– Ну, хорошо. – Из глубины кресла потянулась рука для прощания.
Слегка смеркалось, когда я шел по аллее к гаражу. Опять ни одного комара не село на кожу. «Девятка» хорошо работала и по комарам…
Возвращаясь домой, я вспомнил в машине связанную с НЛО историю, которую прочитал незадолго до этого в книге Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», изданной в 1972 году в академической серии «Библиотека всемирной литературы». В части третьей книги, в главе «Путешествие в Лапуту…», Свифт дает почти точное описание появления «летающей тарелки», конструкции ее главного механизма – огромного магнита, установленного на алмазной оси… Заметим, что впервые книга Джонатана Свифта была издана в Англии в 1726 году. Но автор, например, сообщает в ней, что лапутяне на НЛО открыли рядом с Марсом вращающиеся вокруг него две маленьких луны. Одно это заявление Свифта носит сенсационный характер, поскольку словно предваряет открытие американским ученым Азафом Холлом в 1877 году, то есть спустя 150 лет после «Путешествий Гулливера» двух маленьких спутников Марса – Фобоса и Деймоса!
А вот как классик английской литературы, имевший также отношение к современным ему спецслужбам, описывает появление на его глазах НЛО: «…Я немного прошелся между скалами; небо было совершенно ясно, и солнце так жгло, что я принужден был отвернуться. Вдруг стало темно, но совсем не так, как от облака, когда оно закрывает солнце. Я оглянулся назад и увидел в воздухе большое непрозрачное тело, заслонявшее солнце и двигавшееся по направлению к острову; тело это находилось, как мне казалось, на высоте двух миль и закрывало солнце в течение шести или семи минут; но я не ощущал похолодания воздуха и не заметил, чтобы небо потемнело больше, чем в том случае, если бы я стоял в тени, отбрасываемой горой. По мере приближения ко мне этого тела оно стало мне казаться твердым; основание же его было плоское, гладкое и сверкало, отражая освещенную солнцем поверхность моря… На самой нижней галерее я увидел нескольких человек… Мне сделали знак спуститься со скалы и идти к берегу… С нижней галереи была спущена цепь с прикрепленным к ней сиденьем, на которое я сел, и при помощи блоков был поднят наверх…» [6]
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу