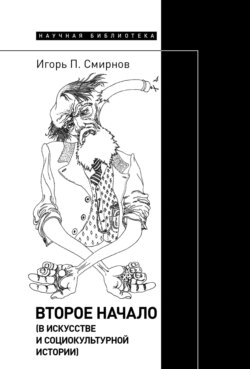Читать книгу Второе начало (в искусстве и социокультурной истории) - Игорь Павлович Смирнов, Игорь Смирнов - Страница 3
I. Предпосылки исследования
Концы и начала
2
ОглавлениеЗдесь не место прослеживать в деталях дальнейшие исторические витки Нового времени. Важно, однако, отметить, что второе начало, вводимое в действие снова и снова, маркирует эпохальные сломы, разграничивающие следующие одна за другой большие диахронические системы – раннего Средневековья, позднего Средневековья, Ренессанса, барокко, Просвещения и т. д. вплоть до нашей современности, пустившейся в рост в 1960–1970-х годах. Каждая из эпох сопротивляется наступлению очередного периода, вытесняющего ее из актуальной исторической действительности. Такого рода препятствование образованию нового становится в христианском мире впервые бросающейся в глаза социокультурной тенденцией на излете раннего Средневековья, когда Иоахим Флорский выдвигает в конце XII века историческую модель трех царств – Отца и брачных тел, Сына и плоти вместе с Духом, чистого Духа, торжествующего в монашестве. Иоахим прибавляет к двум началам третье, дабы положить предел историческим трансформациям, замкнуть их – накануне возмущения, грозящего ветшающей системе смысла, – в изображении такого состояния человека, которое более не может быть подвергнуто перестройке. Ревизуя исконную христианскую доктрину, Иоахим ставит на место передачи власти над историей от Отца Сыну и, значит, производительности во времени господство монашеского образа жизни, т. е. бегства из темпорального порядка в атемпоральность. В последующем триадические схемы, прилагаемые к истории, будут специфицировать ее финалистское осмысление (например, у Гегеля)[4].
Все эпохи, имплицированные становлением христианства, стремятся быть последней фазой в истории, защищаясь от переиначивания, потому что они ее части, порожденные, однако, всеобщим в ней, сплошь ее фундирующим секундарным генезисом. Они претендуют на всезначимость по происхождению вопреки парциальности по функционированию. Любое новое второе начало не совпадает с предыдущим в своем логико-семантическом наполнении[5]. История продвигается вперед, трансформируя уже достигнутую ею инобытийность и тем самым постоянно отыскивая Другое Другого – такую эпохально-смысловую конфигурацию, элементы которой связываются между собой ранее неизвестным способом. Но как раз всегдашняя инаковость второго начала и обеспечивает ему самотождественность, делает его, как это ни парадоксально, одним и тем же, несмотря на разнящиеся между собой стадиальные манифестации. История циклолинейна постольку, поскольку она и репродуцирует инвариантный в ней секундарный генезис, и варьирует его в поступательной манере. Чем чаще история выражает себя частноопределенным образом, тем более убывает тот максимум, которого она добилась в первые века христианства (чему соответствует обозначившееся в Ренессансе XV–XVI веков и затем продолженное ускорение сдвигов от изживающих себя периодов к нарождающимся). Можно сказать и так: универсальность истории как концептуального изменения всего что ни есть иссякает по мере того, как складывающиеся одна за другой эпохи не выдерживают испытания на бессрочность. Если у какого-то явления есть два начала, то оно обладает запасом прочности. Но если одно начало замещает собой предыдущее, то надежность получаемой таким путем системы сокращается и легко рушится. Христианство нашло выход из этого затруднения в том, что сукцессивно продублировало, как говорилось, второе начало, привязав одно из них к современности, а его воспроизведение – к будущему. Поднявшаяся на заре христианства до своего высочайшего уровня сотериология постепенно приходит в упадок в процессе саморазвития социокультуры, становясь спасением не для всех, как в апокатастасисе, а только для избранных (по Божьему промыслу – в протестантизме, по классовой принадлежности – в марксизме, по расовому признаку – в нацизме и т. п.).
Редуцирование спасения сопровождается цивилизационным прогрессом – нарастанием технического обеспечения той жизни, которая рассчитана не на избывание конечности, а на окружение себя удобствами здесь и сейчас, на гедонизм. Смысл и подоплека технических изобретений в том, что они возмещают людям потерю веры в сотериологическую мощь социокультуры за счет усиления сиюминутно-бытового комфорта (инструменты войны совершенствуются, охраняя его и угрожая уничтожить цивилизационные достижения противника; в качестве техники, страхующей технику же, эти приспособления прогрессируют с опережающей прочие изобретения быстротой). Что такое компенсация, как не избавление от нехватки в данном месте и в данный час, взамен ее устранения на все времена, как не подменное спасение? Техника дает человеку топологические выгоды, она сжимает время (о чем писал в 1970–1980-х годах Поль Вирильо), делая пространство (в том числе и операций, а не только топографическое) стремительно проницаемым. Она преодолевает пространство во времени, но не время в пространстве (что допускается наукой только в отвлечении от нашей повседневной практики – в теории относительности), не позволяет нам перебраться по ту сторону темпорального порядка. Пользователь интернета может присутствовать в любой момент жизни в любой точке глобального пространства, но вырваться из своего экзистенциального времени в afterlife он не в состоянии, какими бы аватарами ни подменял себя. Что такое так называемая «модернизация», как не техногенное наверстывание некоей местной цивилизацией исторически упущенного, как не завистливая погоня за ушедшим вперед взамен хилиастической надежды на то, что впереди всех нас бескрайнее поле вечности?
Еще одна, наряду с техническим прогрессом, компенсация, призванная выручить из опасной ситуации дегенерирующее с накоплением историзма спасение, – религиозные и социально-политические революции. Они нацелены на то, чтобы установить равенство между людьми (между клиром и прихожанами, между элитными и непривилегированными слоями общества, между колониями и метрополией), восполнив тем самым неустранимость дифференциации, размежевывающей живое и мертвое. В своем эгалитаризме революции придают второму началу взрывной характер. Их интенция онтологична. Нивелируя различия внутри общества, они покушаются на то, чтобы стереть и его выделенность из естественного окружения (в чем усмотрел их сущность Руссо), пытаются вернуть бытию человека, обособившегося в своем социокультурном строительстве воистину от всего что ни есть. Взрыв случается из-за того, что революции ломают государство, с помощью которого история, по сформулированному выше определению, добивается безраздельного главенства над людьми (духовные перевороты, соответственно, рушат огосударствленную религию). Онтологизм революций сочетается с их выпадением из истории, с их намерением утвердить естественное право взамен закона, на котором держалось государство и вместе с ним весь добытый и усложнившийся со временем символический порядок. Такое положение вещей кратковременно. Оно не может длиться, потому что в качестве второго начала революции – события истории, разыгрывающиеся не поодаль от нее, а в ней. Революции сводит на нет внутреннее противоречие, возникающее между их онтологической целеположенностью и их включенностью в историю, в которой человек, перекраивающий данный ему мир, выступает инобытийным существом, видящим бытие из-за его края. Разрешение противоречия подытоживается в том, что революции историзуют бытие, каковое если и способно претерпеть изменение, то лишь такое, которое превращает его в небытие. Равенство всех членов общества, которого жаждут революции, реализуется в силу того, что каждый из них оказывается сопоставимым с другим перед лицом насильственной смерти. Ликующее освобождение общества от этатического диктата сменяется его подчинением новой государственности, проводящей неразборчивый террор, который косит и чужих, и своих, и врагов, и сторонников переворота. (Одно из немногочисленных исключений из этого правила – североамериканская борьба за независимость в конце XVIII века: она развертывалась в условиях отсутствия собственной государственности у британских колоний, заинтересованных поэтому в создании прежде всего конструктивной, а не карательно-деструктивной верховной власти, шедших, говоря абстрактно, от небытия к бытию). Эффект, вызываемый революциями, прямо противоположен ожидаемому: вместо спасения – если не в бессмертии, то по меньшей мере в справедливости, во всеобщем равенстве – они несут с собой пагубу. Сам себя опровергающий революционный порыв выдыхается в реставрационном повороте истории к своему издавна заведенному протеканию.
Упадок спасения становится достоянием исторического сознания в середине XIX века (в «Трактате о физической, интеллектуальной и моральной дегенерации…» (1857) Бенедикта Огюста Мореля) в проективной форме – в качестве предмета теоретизирования, посвященного экземплярному, индивидуализованному вырождению, которое не поддается коррекции. Я не буду разбираться здесь в позднейшей судьбе представлений о дегенеративной социокультурной динамике[6]. Мне важно лишь подчеркнуть, что они имеют превентивно-дефензивную функцию, предупреждая о том, что рост историзма может обернуться исчерпанием потенций, которыми обладает homo creator. Если история на подъеме, в стадии akmé, в какую она вошла в XIX столетии в романтизме и позитивизме, осознает и старается отвести от себя опасность завершаемости, то предпринятый постмодернизмом шаг за порог истории, напротив, ознаменовался выдвижением на передний план образа нескончаемого, неопределенно растягивающегося настоящего и, соответственно, отказом от восстановления первоистоков, которые, будь они зарегистрированы, не позволили бы концептуализовать современность как сугубую длительность. По убеждению Жака Деррида («Грамматология», 1967), всякое начало затемнено, дано нам в-отсутствии, оставляя лишь след (грамму) в своем продолжении (но в мифах творения оно отнюдь не кашировано, а эксплицировано – человеку свойственно реконструировать, пусть и фантазируя, рождение того, что он застает в готовом виде, потому что он несет в себе ни с чем во вселенной не сравнимую оригинальность). Анализируя в «Словах и вещах» (1966) гуманитарно-научные «эпистемы» разных веков, Мишель Фуко декларативно отрекся от исследования их генезиса. В постмодернистской модели история, оказавшаяся за своим пределом, как не финализуема, так и не инициируема (интертекстуальность в теории (1967) Юлии Кристевой – фатально безостановочный процесс, у которого нет пункта отправки). Поскольку в постмодернистском времени не маркированы ни начало, ни конец, постольку этот способ думать снимает с повестки дня исконно бывший актуальным для социокультуры вопрос о спасении. Более того, для постмодернистской агенды показательно дерзкое опустошение сотериологии: в «Символическом обмене и смерти» (1976) Жан Бодрийяр призвал социокультуру к прекращению ее не более чем симулятивной борьбы с Танатосом и к признанию фактической непреодолимости смерти. Такой подход к смерти, конечно же, трезво реалистичен, но прими мы его за руководство к мышлению, нам пришлось бы зачеркнуть всю человеческую историю и отступить от социокультуры в чисто биологическое прозябание, в родовую жизнь. Что и произошло если не на деле, то в тех ментальных усилиях, какие были предприняты в последнее десятилетие прошлого века и в первые декады нынешнего по ходу преобразований, которым подверглось наследие раннего постмодернизма. В ставших в эти годы научной модой биосоциологии, биопсихологии и биокультурологии terminus a quo человеческой истории восстанавливается в своих правах, но опознается не там, где она зарождается в своем своеобразии, а в ее несобственном Другом, в природе. Поведение современного человека названные дисциплины объясняют приспособлением его дальних, едва вышедших из животного состояния, прародителей к естественному окружению, полному опасностей для рода homo, натурализуя таким образом социокультуру, рассматривая ее в качестве продукта, получаемого из выбора эволюционно наиболее выгодных ответов на вызовы среды[7]. Человек, однако, вовсе не адаптировался к природе, а превозмогал ее в себе и вне себя. Он нуждается в том, чтобы постоянно пребывать в зоне риска, идет навстречу опасностям, ибо хочет быть спасенным. Мы всегда не в первом, а во втором начале, в истории, даже если она еще только предисторична. Бегство постмодернизма 1960–1970-х годов из истории не прошло для нашей духовной деятельности даром, переродившись в ней теперь в преобладание над прочими подступами к социокультуре псевдоисторизма, сдвигающего начала со своих мест на чужие, полярно противоположные их собственному расположению[8]. Генезис извлекается из забвения, принимая, однако, искаженный вид, втягиваясь в quid pro quo, так что саморазвитие человека мыслящего делается неотличимым от эволюции организмов[9]. Что в раннем постмодернизме, что в позднейших его филиациях история расписывается в своем поражении.
4
К влиянию Иоахима Флорского на историософию и на исторические упования Нового времени ср.: Bloch E. Das Prinzip Hoffnung [1938–1947]. Frankfurt a/M., 1959. Bd. 2. S. 590–598.
5
О том, каково это содержание на разных этапах истории, см. подробно: Смирнов И. П. Превращения смысла. М., 2015. С. 181 след.
6
Об идеях вырождения, берущих происхождение в позитивистскую эру, см. подробно, например: Dark Side of Progress / Ed. by J. E. Chamberlin and S. L. Gilman. New York, 1985. На русском – преимущественно литературном – материале эти идеи обсуждаются в: Nicolosi R. Degeneration erzählen. Literatur und Psychiatrie im Russland der 1880er und 1890er Jahre. Paderborn, 2018. К общему пониманию дегенеративных процессов в социокультуре ср. главу «Вечное вырождение» в: Смирнов И. П. Быт и инобытие. М., 2019. С. 77–108.
7
Натурализация социокультуры (поддержанная экологической практикой) может совершаться сейчас и без реанимирования дарвинистского приспособительного эволюционизма. Так, для Жан-Люка Нанси человек отприродно культурогенен – «зверь человек» для этого мыслителя наделен языковой способностью анатомически, по своей физиологии (Nancy J.-L., Benvenuto S. Liebe, Gewalt, Religion // Lettre International. 2020. № 131. S. 49). Спрашивается: разве отприродна и семантика языка, в которой откладывается символопорождающий творческий опыт, набираемый человеком?
8
Киноискусство последних лет отреагировало на эту социокультурную ситуацию в фильмах о борьбе за приоритет в сфере технических изобретений и научных открытий. Таковы, например, кинокартины Дэвида Финчера «Социальная сеть» (2010) о конфликте вокруг дигитального проекта, принесшего в конце концов деньги и славу Марку Цукербергу, или Саймона Стоуна «Раскопки» (The Dig, 2021) о находке на Востоке Англии древнего захоронения, совершенной археологом-любителем Брауном, которого пытаются оттеснить в тень представители официальной науки.
9
Теперешний заново возникший интерес к генезису не ограничен биодетерминизмом, но и помимо натурализации человека он освещает начало транслокализованным. В социологии науки Бруно Латура («Наука в действии», 1987) начало открытий и изобретений перемещается из лаборатории в их подачу аудитории, в риторически организованное (речевое или визуальное) сообщение, призванное добиться контроля над реципиентами, так что производство научных фактов оказывается в изображенной так действительности конструированием артефактов и манипулированием воспринимающим сознанием. Стоит, далее, сказать, что современность может в своей вариативности обращать внимание и на секундарный генезис, как, например, в работах Шмуэля Айзенштадта, рассматривающего, наряду с первым «осевым временем», когда, по Карлу Ясперсу, сложились мировые религии и философия, также «вторую осевую эру», давшую человеку возможность самодеятельно реорганизовывать устройство общества (Eisenstadt Sh. N. Comparative Civilizations and Multiple Modernities. Part II. Leiden; Boston, 2003). Но это второе начало означает у Айзенштадта не вхождение человека в бесперебойно возобновляемую историю, а скорее ее терминирование, поскольку оно реализуется в парадигматическом разнообразии «новых времен» – во множестве конкурирующих друг с другом проектов по социальной инженерии, не вытягивающихся в последовательность, в синтагматический ряд выводимых одно из другого явлений. И в этом случае мы имеем дело с началом, пусть и случающимся в истории, но дающим псевдоисторические результаты, порождающим синхронию, а не продолжающимся диахронно.